Заложник дара. Глава четырнадцатая
29 декабря 2024 -
Анна Крокус

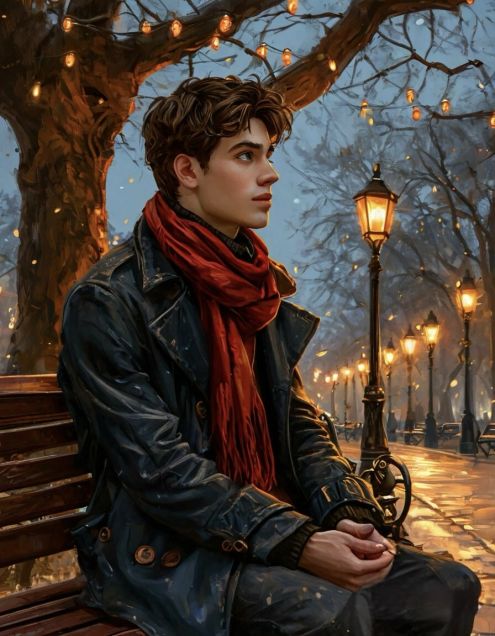
В тесном купе вагонного поезда, следовавшего по маршруту Горький – Одесса, было душно. Хоть за окном царствовал ноябрь... В самом сердце страны уже ощущалась прохлада поздней осени: ветер становился промозглым и порывистым, а природа «сгорела» дотла в ярком осеннем пламени и посеревшие виды за окном навевали меланхолию. А затяжные дожди лились на головы горожан как из рога изобилия. Разбитые грязные дороги, усеянные россыпью лужиц, в которых отражались безликие деревенские избы и понурые деревья с бесцветной мёртвой листвой, – вот что мелькало за окном пыхтящего поезда. Но чем быстрей состав гнал на юг, тем теплее и ласковей становился ветерок, а воздух – всё более влажным и густым. Почти на каждой станции из вагонов высыпало всё больше пассажиров, дабы погреться в щедрых лучах южного солнца, приветливо щурясь ему да покусывая папиросу в зубах. А весёлая отогревшаяся ребятня цыганила[1] у взрослых мороженое или горячий пирожок.
За толстым стеклом то и дело мелькали южные осенние пейзажи: медные пышные кроны деревьев сменялись на выжженные пустынные поля, а вдалеке можно было разглядеть лесистые горы. На них, как грибы после проливного дождя, кучковались поселковые домики. И казалось, будто время здесь остановилось, а осень – отступила навсегда…
За пустым столиком в одном из последних вагонов сиротливо сидел черноволосый худощавый мужчина с пушкинскими бакенбардами и угрюмыми чёрными глазами. На загорелом вытянутом лице рельефно выделялись острые скулы, длинные угольные брови были чуть вздёрнуты вверх, а над пухлыми губами проглядывались редкие усики. Одет он был простенько: молочного цвета рубашка с лошадьми на скаку и коричневые вельветовые брюки на полосатых подтяжках. Брюки были явно мужчине не по размеру, собираясь гармошкой на щиколотках, но зато они скрывали чёрные носки с дыркой. На ногах покоились пыльные выходные туфли, носы которых были изрядно потёрты. Но зато те были ему впору. Внешний вид его носил неряшливый и даже небрежный вид. Но это вовсе не отталкивало, а скорее наоборот: его хотелось рассматривать, подмечая всё новые и новые детали гардероба.
Одинокий пассажир подпёр острый бритый подбородок правой ладонью, а на его пальце красовался увесистый серебряный перстень с блестящим чёрным шерлом. Если присмотреться, то серебро успело почернеть, но эта значительная деталь придавала перстню благородную старину. Уголок треугольного камня был сколот: перстень либо слетал с тонкого безымянного пальца незнакомца, либо успел пострадать в серьёзной драке. Пассажир молча смотрел в вагонное окно и казалось, наблюдал за тем, как по запотевшему стеклу по ту сторону стекали крупные горошины дождя, сливаясь воедино в причудливые ручейки. Но внимательный наблюдатель, несомненно, отметил бы, что тяжёлый взгляд его был неподвижен и мрачен, а сам незнакомец был погружён в серьёзные думы. Но монотонный и ровный стук колёс быстро убаюкивал мужчину, и тот после недолгой остановки в пригороде Новороссийска прилёг на нижнюю полку, подложив под голову руки. Но как только стальные и мощные «ладони» мягко подхватили его уставшее тело и начали раскачивать, в дверь раздался настойчивый стук, и черноволосый пассажир встрепенулся.
– Позволите войти? Это ведь восьмое купе, я не ошибся?
В дверях стоял низенький старичок с маленьким чемоданом и сумкой-почтальонкой через плечо. В руках он держал намокшую шляпу с большими полями. Сонный незнакомец кивнул, наспех обуваясь, и любезно вызвался помочь своему попутчику с вещами. Старичок охотно согласился, дружелюбно пожав тому руку. Попутчик представился как Серафим Михайлович, а молодой мужчина назвался Александром. Они устроились друг напротив друга и завели непринуждённую беседу о погоде за окном, о том, кто куда держит путь и как добыть у молоденькой юркой проводницы стаканчики с крутым кипяточком, дабы насладиться крепким чайком. Александр вскочил со своего места и направился к проводнице, пока старичок раскладывал на столике с белой скатертью бутерброды с сыром, конфеты с печеньями и солёные огурчики с остатками жареной картошки. Когда Александр вошёл в купе с двумя стаканами, полными кипятка, то обомлел: перед ним был накрыт целый стол. В желудке предательски заурчало, и он быстро прокашлялся, дабы не выдавать попутчику сего постыдного факта. Но Серафим Михайлович с понимающей улыбкой радушно произнёс:
– Вы угощайтесь, Саша, не смейте стесняться! Право, в одиночку я все эти яства точно не осилю! А моей дорогой супруге всё без толку объяснять, она меня снабдила продовольственными запасами как в недельную экспедицию… – с хриплым смехом проговорил добродушный старичок, потянувшись за чайной заваркой к сумке.
– Сразу видно, что вы – женатый человек, вам повезло, – робко ответил Саша. У него разбегались глаза, и он не знал, за что же первым делом взяться. Но решил начать с чаю, бросив в стакан щепотку чёрных байховых листьев из спичечного коробка. Это единственное, что он взял с собой в дальнюю дорогу. Ещё было полкило яблок и персиков, но они были съедены ещё в начале пути.
– Простите мне моё любопытство, Александр, а вы сами женатый человек?
– Скоро женюсь… – с гордостью в голосе ответил мужчина, но с грустью добавил: – И не на абы ком, а на профессорской дочке.
– Вот как… Тогда и вам повезло! Таких знатных невест, знаете ли, нынче разбирают как горячие пирожки! Наверняка она и умница, и красавица, и благовоспитанна, и верна. Ей-богу, идеальная жена!
– Ваша правда, Серафим Михайлович. Но вот в чём беда… Я не самый завидный жених и не самый желанный зять. В профессорской семье меня и знать не хотят…
– Да вы что?! – Старичок удивлённо вскинул седые брови и окинул проницательным взглядом своего визави – Право, я и не подозревал, что в наше время выбирают женихов для своих дочерей. Я полагал, что это было популярно во времена правления царской семьи, а сейчас – лишь пережиток прошлого. Позвольте узнать, чем же вы так не угодили семье своей… избранницы?
– Знаете, мало что изменилось со времён правления царских особ. В наше время тоже привыкли встречать по одёжке да провожать не по уму, а по… кошельку. А я ни тем не угодил, ни другим. Да ещё и безродная дворняга, как выразился мой… кхм… будущий тесть. – Но тут Александр осёкся и бросил пугливый взгляд в сторону попутчика, торопливо проронив: – Простите, я что-то разоткровенничался… Не стоило мне этого говорить. Моя невеста не любит, когда я отзываюсь об её отце в таком тоне. При посторонних…
– Саша, не извиняйтесь! Уверяю вас, всё сказанное вами останется в этом купе. Да и я сам, по правде говоря, затеял этот откровенный разговор… Если вам неловко, я охотно сменю тему! Вы только скажите…
– Благодарю вас за понимание, Серафим Михайлович. Просто… наболело, знаете ли. Иногда так хочется выговориться, да особо некому. Но даже у стен есть уши, а у окон глаза.
– Позвольте заметить, мы не в окружении стен. – Собеседник обвёл руками купе и весело добавил: – Да и снаружи грохочет лишь паровоз, и ему, знаете ли, не до людских откровений… Так что же ваша невеста? Она не смела пойти против воли отца?
– Наоборот. Она пошла ему наперекор. И мы проживаем вместе. Хоть и официально не расписаны. И это тоже не добавляет мне благородства и уважения, я знаю. Но она сама решила уйти из отчего дома… Тем более её там более ничего не держит. Она лишь навещает свою матушку в лечебнице для… Впрочем, не столь важно. Но по батюшке она тоже тоскует, хоть и держит обиду на него. Я стал камнем преткновения в их семье. От этого так тошно становится, знаете ли. Я вырос безотцовщиной, и мне всю жизнь не хватало отцовского плеча. Как же так? Я собственноручно лишил любимую отца?
– Простите, а вы… откуда родом?
– Я родился в Ташкенте. Мой отец был цыган. Он бежал туда во время расправ, когда началась массовая охота на цыган по всей стране. И встретил там мою матушку. Она, к слову, была узбечкой. Страшное тогда было время… Голодное, беспощадное и опасное.
– Помню, помню… – тихо отозвался старичок, тяжко вздохнув. – А ведь были времена либерального царизма, в которые кочевым цыганам дозволялось бывать, где угодно! Кроме, разумеется, столичного Петербурга. А в 30-х, между прочим, советская власть давала цыганам аж по пятьсот рубликов за осёдлость и вступление в колхоз, знали? Только те деньжата прикарманили себе да были с ними таковы… Колхоз имени Лоры Чергэн чего стоит.
– Знаю я, Серафим Михайлович, как советская власть пыталась приручить мой народ. Матушка мне об этом рассказывала, но увы, при рыжем Гуталинщике эти славные времена для цыган быстро закончились. Ему, знаете ли, хотелось показать зримые преимущества нового строя. Иностранцы должны были увидеть в столице подземные дворцы метро, нарядные витрины, роскошные павильоны ВСХВ[2] и оптимизм физкультурных парадов. Разумеется, приставучие гадалки и вечно чумазая голодная ребятня только испортили бы это чудесное впечатление… А про то, что кочевые цыгане бежали с советскими рублями, я тоже наслышан. Но я не отвечаю за ошибки своего народа. Я вырос в иных условиях, я, считайте, такой же советский человек, как все. И живу по совести и местным законам.
– Понимаю, Саша, понимаю. Не смею вас ни в чём обвинять! Это так, к слову пришлось… А наш вождь, Сашенька, ни с кем не церемонился… – хмуро отозвался пожилой собеседник и щедро отхлебнул остывающий чай. – Но вы не застали это гнетущее время, и это уже хорошо. Место, в котором вы родились и выросли, само по себе прекрасно и плодородно. Мне доводилось бывать в Ташкенте и по работе, и по зову души. Помню тенистый парк Пушкина и вечную пышную зелень, которая даже в самый знойный день спасала уставших туристов от солнцепёка… Ах, а какие там ароматы были вокруг: специи, вино, сочные спелые абрикосы и… прелестные местные горожанки. Для меня Ташкент – настоящая звезда Востока! Даже краше заморского Стамбула!
– В Стамбуле не доводилось бывать, не могу сравнить. Но и на родине был в последний раз так давно, что сейчас готов пустить мужскую слезу, – с дрожью в голосе отозвался Александр и обронил взгляд на столик. – Мы уехали из Ташкента через несколько лет после смерти батюшки и остановились в Баку. Там жила родня по материнской линии. Мне тогда был всего пятак. А потом мы перекочевали всей семьей в Крым и осели близ Балаклавы. Там моя матушка познакомилась с моим отчимом, местным рыбаком. И на свет появились браться и сёстры. И наша семья разрослась до девяти человек. Настоящий цыганский табор! – рассказчик смущённо рассмеялся.
– Полагаю, на юге вы и познакомились с дамой вашего сердца?
– Да, вы правы. Она приехала отдыхать в Алушту с родителями, где я исполнял цыганские песни в местном ансамбле. Иногда и собственного сочинения. Но, будучи голодными на овации мальчишками, мы частенько бегали петь песни под гитару на ближайшую набережную. Там и свела нас с ней судьба. Она потом приходила туда каждый вечер, вплоть до отъезда домой.
– Вы ещё и поёте?
– Да. С детства, как и мой отец. Его самого я плохо помню, но его голос врезался в память и в моё сердце навсегда… Такой сильный, бархатистый и благородный. «Thaj akava glaso ćhivgja e kan thaj phagerdas e maj sofisticirime!»[3]
– Как романтично. И как печально! – заключил Серафим Михайлович, глядя в окошко, за которым уже смеркалось и вдалеке начали поблёскивать фонари. – Вы, Сашенька, ешьте, ешьте, а то я вас совсем заболтал! Тьфу, болтун старый… А вы, наверняка, голодный, да к тому же уставший. Вы откуда, скажите, путь- то держите?
– Из Ставрополя. А еду, как уже говорил, в Симферополь, на встречу с… одной дамой. Надеюсь, она поможет мне наладить отношения с моим будущим тестем. Да и мне хотелось бы, чтобы дочь и отец помирились перед свадьбой. Несмотря на застарелую обиду, она бы хотела видеть его среди гостей. Да и я тоже. Но зная его нрав и характер, я думаю, что он никогда на это не согласится…
– Послушайте, Саша! Я вижу, что вы порядочный, благородный, честный молодой человек. Да к тому же такой фактурный и артистичный. Смесь кровей, конечно, сделала своё дело… В вас чувствуется горячая цыганская кровь и проглядывают восточные черты… Скажем так, видный мужчина! Я уверен, что любая барышня пошла бы за вас замуж. Уж простите мне мои фривольности, но я человек изрядно поживший и повидавший многое на своём жизненном пути. Я издалека вижу настоящих людей и умею различать подлецов. Ведь есть же в вас, в конце концов, положительные человеческие качества?
– Конечно. Я с детства режу репчатый лук, не проронив ни единой слезинки! – решив разбавить серьёзный тон беседы, с улыбкой пошутил Александр и добавил: – Но когда моя Тома читала мне «Муму» Тургенева, я, честно признаюсь, прослезился… Но зато я каждый раз шинкую лук вместо неё, дабы она не плакала. Тома даже называет меня в шутку колдуном, потому что даже самый ядрёный лук меня не берёт.
– Позвольте заметить, это уникальная способность! – с громким смехом отозвался Серафим Михайлович. – Я даже и близко к луку на кухне не подойду, а вы… Эх, вот это настоящая жертвенная любовь!
– Думаете? – с лёгкой ноткой недоверия спросил Александр и отвёл взор к запотевшему стеклу. – А вот её батюшка так не считает… Он думает, что я – тунеядец. Необразованный и наглый цыган, взял его дочь в плен и заставляю себя любить насильно. Или из чувства жалости к себе…
– Саша, вот ответьте себе честно: надо ли вам заслуживать доверие своего тестя? Делать первые шаги к примирению с ним? Или вы радеете за чувства своей любимой?
– К сожалению, не все так благосклонны к моей персоне, – с грустью ответил Александр. – А уж тем более в таких интеллигентных кругах. Моему будущему тестю хотелось бы другого избранника для своей, к слову, единственной дочери. Из своего, так скажем, теста. И знаете, я, как мужчина, могу его понять. Я даже готов был отступиться от неё и не привносить разлад в их… семейные отношения. Никому, знаете ли, не захочется быть на моём месте. И разлучать единственную дочь с родным батюшкой. Пускай он категоричный, вздорный и даже деспотичный человек. Мне кажется, он не умеет давать людям шансов. Или не хочет. Не знаю!
– Ну, полноте, друг мой! – воскликнул старичок, махнув сухонькой рукой. – Я, знаете ли, тоже представитель современной интеллигенции, в своё время возглавлял редакцию одной московской газетёнки, к тому же филолог-лингвист по образованию. Я отец двоих сыновей, и если бы так сложилось, что один их них полюбил бы…эм… простолюдинку или барышню не нашего круга, я бы не воспрепятствовал их отношениям! Мы же не в девятнадцатом веке живём, ей богу! Что за вздор? Да и как можно сердцу приказать? В одночасье одного разлюбить, а другого полюбить…
– Я полностью разделяю ваше недоумение. Но в случае, если бы такой мужчина выбрал себе в избранницы, как вы выразились, простолюдинку, ему было бы легче взять ответственность за неё. Ведь у него уже есть всё для… – Александр замялся, подбирая слова.
– У такого мужчины, хотите сказать, богатое приданое? – с улыбкой отозвался старичок.
– Именно, - с благодарностью ответил мужчина. - А у меня… его нет. И никогда не будет. У моих родителей ещё восемь таких же «завидных» женихов и невест… А моя Тамара привыкла к совершенно другой жизни в доме отца, как бы не были сильны её чувства ко мне, я вижу, что ей многого не достаёт для отрадного существования. Ей даже пришлось найти работёнку, чтобы мы могли оплачивать комнатушку в коммунальной квартире, ведь у меня не всегда водятся хорошие деньги. А одной любовью… сыт, увы, не будешь.
– А она лично вам говорила, что ей не угодна такая жизнь?
– Нет. Но я вижу, как ей тяжело даётся такая жизнь... Мы живём в шумной коммунальной квартире, где яблоку негде упасть! И вся жизнь проходит на глазах у других. Как на сцене, ей-богу. Я то привыкший, да и мне в радость иметь крышу над головой, но Томочке там тесно и непривычно. Ей приходится ездить на другой конец города, чтобы работать учительницей литературы в школе... А учителям нынче платят копейки, они беднее тех же колхозников. Хорошо, что не продуктами зарплату выдают, как раньше. А мне бы и хотелось найти хлебную работу, чтобы снять комнату побольше где-нибудь на окраине. Я мечтаю купить ей свадебное платье, которое она хочет, водить её по ресторанам, покупать ей любимые духи. А сейчас мы на даже на новый утюг накопить не можем, чего уж там. Жить хочется, как все советские люди, вы знаете… А я умею только петь. А толку? Я без роду, без племени… Кто сейчас обратит на меня внимание? Меня возьмут только на стройку, на местный завод или фабрику разнорабочим. А может быть, поднимать целину в отдалённые края? Хоть это почётно, знаете ли… Но платить там будут столько, сколько я заслужил. А много ли заслужил цыган?
– Послушайте, Москва не сразу строилась! И не все мигом становились знаменитыми певцами или композиторами. Талантом ещё необходимо разумно распорядиться. Но в вашем случае, я уверен, что успех не за горами. Если вы сейчас сдадитесь, то… проиграете. Такова жизнь: либо ты её, либо она тебя! Хотя и не спорю, что для кого-то это тяжёлое испытание. Безденежье, лишения, голод, коммуналка… Но настоящая любовь вытерпит всё, поверьте! Если бы она вас не любила, давно бы упорхнула от вас обратно в родительское гнездо. Но она остаётся рядом с вами. А это о многом говорит!
– Понимаю, о чём вы говорите… И вы во многом правы. Вы старше меня, опытнее и мудрее. Я бы хотел прислушаться к вашему совету… Но я чувствую, что рядом со мной она словно не может до конца расправить свои крылья. А я хочу дать ей свободу… Даже если придётся пожертвовать своей любовью.
– Знаете, мне что-то подсказывает, что она была несвободной как раз-таки в своей семье. Да, она жила сытно, красиво и беззаботно. Но она жила в позолоченной клетке. А рядом с вами она, наконец, поняла, что такое есть истинная свобода. Свобода выбора, свобода чувств. С этим она явно была знакома только по девичьим книжкам или по кинолентам… И явно об этом мечтала.
За окошком стремительно стемнело, и в купе тихонько проник ещё один безмолвный попутчик – голубоватый мрак. Лики мужчины и старичка изредка освещали лишь бегущие вдоль железной дороги фонари, чай давно остыл, а столик так и остался полным нетронутой еды. Никто из них не хотел зажигать свет в купе и выгонять из него «мрачного безбилетника». С ним было гораздо уютнее вести откровенные беседы по душам, он словно поглощал все смущения, предрассудки, страх и стыд. Вот она, истинная магия поезда: кто-то в нём не стыдился хаять суровую политику Сталина, но про своего тестя, однако, не смел отзываться плохо. А кто-то щедро угощал и щедро сыпал советами.
Лишь спустя некоторое время, когда к ним постучалась симпатичная проводница, дабы поинтересоваться наличием постельного белья, Серафим Михайлович решил выйти покурить в тамбур и позвал Александра с собой. Тот сразу согласился. После столь душещипательного разговора ему нестерпимо хотелось курить.
– Знаете, я был так удивлён, когда получил телеграмму от этой женщины… – вкрадчиво начал Саша, глубоко затянувшись свежей папиросой. Голова сразу приятно потяжелела, а напряжённое тело из оловянного солдатика незаметно превратилось в тряпичную куклу.
– А что за женщина, позвольте узнать?
– Лично я её не знаю. Но она знакома с батюшкой моей Томы, вот что занимательно.
– А как вы об этом узнали?
– В телеграмме говорилось так: «Александр, приглашаю вас в Симферополь для серьёзного разговора. Это касается ваших будущих тестя и жены. Приезжайте один, билеты в один конец я оплачу. И прошу, никому не сообщайте о поездке. Встречу вас лично. Я готова вам помочь в сближении с тестем. Обо всём расскажу при встрече. Надеюсь на ваше благоразумие».
– Как любопытно! – воскликнул Серафим Михайлович. – И вы даже не можете предполагать, кто это может быть?
– Сначала я подумал на тётушку моей невесты. Но мы с ней имеем связь, она часто звонит Томе на работу, шлёт письма, телеграммы и посылки. И адрес наш ей знаком. Она приняла меня в семью. Но анонимную телеграмму отправил точно кто-то другой… Да и зачем тётушке тайно мне писать, если можно просто связаться напрямую?
– Ваша невеста тоже не знает о целях вашей поездки?
– Нет, я решил ей не говорить, дабы не волновать. Да и она бы меня не отпустила одного. Но я воспринял это как возможность! Если эта женщина мне действительно сможет помочь, я буду только рад.
– Но кто знает, какие цели она преследует, вы об этом не подумали, друг мой? Кто захочет помогать в таком непростом деле просто так? По доброте душевной? Тем более женщина… Чёрт его знает, что у них на уме! И даже чёрт порой ошибается.
– Знаете, я долго не сомневался. Если она посвящена в дела семьи, то далеко не чужая для… моего будущего тестя. Значит, некая приближённая особа. А вот зачем ей мне помогать… Я и сам, право, не знаю! Но мне очень любопытно узнать. А главное, мне важно заполучить доверие отца моей Томы. И я сделаю всё для этого.
– В таком случае, я желаю вам только удачи, друг мой! И попутного ветра в ваши паруса! А, главное, не дайте себя обмануть. Держите ухо востро!
После перекура попутчики, покачиваясь, направились в своё купе, в котором их ждали полки, заправленные накрахмаленным постельным бельём. Время близилось к десяти часам вечера, и Серафима Михайловича уже изрядно клонило в сон. Он пожелал Саше доброй ночи и, не раздеваясь, прилёг на подушку, тут же сладко задремав. Александру же предстояла высадка ранним утром, и он боялся проспать заветную станцию. Перед тем, как отправиться к проводнице с просьбой разбудить его, он долго сидел на своей полке, глубоко задумавшись. Недавний разговор с пожилым мужчиной вдохновил его и вселил надежду на счастливое разрешение давнего семейного конфликта. Но его атаковали и сомнения: кто же эта загадочная особа, которая пригласила его в Симферополь? Она оплатила ему дорогостоящее купе и пообещала «сблизить с тестем». Для Александра это был прекрасный шанс, и он ухватился за него обеими руками. А теперь, когда эмоции схлынули и голова стала холодной и ясной, он не понимал, что, а главное, кто его ждёт. И вся эта авантюра показалось ему чей-то злобной шуткой, вымыслом и самообманом… На секунду ему стало страшно и совестно, что пришлось обмануть любимую Тамару. Он сказал ей, что едет на благотворительные гастроли со своим ансамблем в детский санаторий, и она, как истинная приверженка бескорыстной доброты, отпустила его без сомнений. А теперь он сидел, кусая губы и сжимая кулаки, одолеваемый угрызениями совести и тревожными мыслями.
– Прости меня, моя милая Томочка… Прости, что пришлось так нагло солгать, – шептал он, мрачно глядя исподлобья на серебряные бусы, собранные из недавнего ноябрьского дождя на окошке. – Я обязательно оправдаю твои ожидания. И докажу твоему отцу, что стою его уважения. И в обиду нас не дам. Никому! Ты только дождись меня. Дождись…
Больше всего на свете Александр хотел оказаться рядом с Томой, чтобы целовать её нежные горячие руки, усыпанные родинками. В глубине души он боялся не вернуться из Симферополя, предполагая самое страшное. Из рассказов Томы он многое узнал о её отце и прекрасно осознавал, что тот может поступиться своими благородными принципами ради того, чтобы вернуть себе дочь. Но его сердце хоть и билось в страхе, но всё же надеялось на то, что батюшка его любимой не способен на подлость или жестокость. Ему хотелось в это верить, как ребёнок верит в чудо в Рождественскую ночь.
Когда веки совсем отяжелели, а в глазах начали расплываться дождевые бусы, Александр встряхнул головой, в попытках избавиться от дрёмы и наваждения. Рывком он встал и вышел из купе, направившись на поиски проводницы. До встречи с анонимным «доброжелателем» оставалось не более шести часов. Хотя и нешуточное волнение уже заключило его в свои стальные оковы, ему страшно хотелось забыться. Хотя бы во сне.
***
Симферополь, 10 ноября 1957 года
Герман долго переминался с ноги на ногу, прежде чем войти в приёмную заведующего кафедрой журналистики. После того, что он узнал о профессоре от Котовой, его частенько одолевали мысли: «А точно ли она имела ввиду Дубровина?» Нет, юноша вовсе не поменял своего уважительного отношения к мужчине и его персоне, но облик Чехова казался ему теперь более загадочным, нежели ранее. И Герману нестерпимо захотелось разгадать его, но не сейчас… Все его мысли были о матушке и о её здоровье. Недавний ночной кошмар ещё внушал ему панический ужас и страх, а запах гари будто преследовал по пятам, как он ни старался от него избавиться с помощью отцовского одеколона.
Стоя перед высокой дубовой дверью с резьбой, Гера занёс кулак, но решил прислушаться... Но не услышал ничего, кроме бешеного стука своего сердца.
– Поплавский, неужто выздоровел? Чего тебе? – Катерина не переставая клацала по клавишам печатной машинки.
– А Платон Николаевич у себя? – робко спросил Гера, с опаской глядя в сторону его кабинета.
– Нет, он уехал на партийное собрание. А зачем он тебе понадобился?
– Ну… Я хотел уточнить кое-что по его предмету перед экзаменационной неделей… – соврал юноша. – А сегодня его не будет?
– Послушай, ты можешь об этом узнать в любое время, после занятий, например. – Катерина строго глянула на племянника, разминая уставшие пальцы. – Необязательно беспокоить его по таким… пустякам. Да и ты не староста своей группы, чтобы заниматься такими вопросами.
Герман переводил растерянный взгляд с Катерины на кабинет Чехова. Он был вынужден безмолвно согласиться с тётушкой. Но в глубине души он был рад, что ему не придётся начинать серьёзный разговор с Чеховым сию минуту. Герман был всё ещё слаб: физически и эмоционально.
– Тогда не смею больше тебя отвлекать…
– Вас! – деловито поправила его Катерина и принялась за своё рутинное занятие. – В стенах института я для тебя Екатерина Львовна.
Герману ничего не оставалось, как снова согласиться с этим замечанием. Но как только за ним закрылась дверь, женщина выжидающе посмотрела ему вслед и прикусила нижнюю губу вишневого цвета. Казалось, на её строгом красивом лице мелькнуло сожаление. Или раскаяние…
– А ты артистка! – с восхищением воскликнул Чехов, выйдя из своего кабинета. – Но, полноте, милая, будь с ним помягче…
– Ты обещал мне объяснить, что происходит, если я тебе подыграю, – пропустив хвалебные речи, сказала Катерина. – Почему ты не хочешь встречаться с моим племянником лицом к лицу?
– Не время, – кротко ответил мужчина и вмиг посерьёзнел. – Ещё не время.
– Неужели ты пообещал ему то, что не можешь выполнить? Он же мечтает, между прочим, о том, что напечатают одну из его статей в местной газете… И ты можешь этому поспособствовать.
– В этом городе нет ничего, что мне не подвластно, и ты об этом прекрасно знаешь. – В голосе и походке Чехова читались властолюбие и даже нотки гордыни.
– Тогда в чём же дело?
– Ты мне лучше скажи… –профессор предпринял попытку смягчить громогласный тон, но у него вышел лишь зловещий шёпот: – Ты говорила ему об Ирине Котовой?
– О ком, о ком?
– Не придуривайся… Это ты ему дала её адрес, верно? – Чехов сложил руки на груди и сердито взглянул на Катерину, взметнув бровь. Но на лице женщины не дрогнул ни единый мускул. Она лишь повела острыми плечами и, сомкнув губы, отрицательно закачала головой.
– Господь с тобой, Платон! Это подсудное дело! Я не хочу лишиться своего места, да и за годы службы я ни разу не оступилась! И не собираюсь…
– Катенька, ты же знаешь, я ругать не буду, а уж тем более выносить сей опрометчивый поступок за пределы твоего кабинета… – елейным голосом продолжил Чехов, наклонившись к женщине. – Но если ты впредь захочешь что-то передать своему племяннику – о наших кадрах или о бывших студентах, то обсуди сначала это намерение со мной, договорились?
– Платон, я тебя не понимаю! – Катерина отодвинулась от мужчины и уронила очки на грудь. – А что, по-твоему, я должна ему передавать, да и зачем? И за кого ты меня принимаешь? Я умею держать язык за зубами и не обсуждаю ни с кем того, чего им знать не следует!
– Катерина, я знаю, что ты ценнейший сотрудник и никогда так не поступила! Но он твой племянник, а это…
– И что?! Да хоть сын родной! Это не развязывает руки и не даёт мне права разглашать личные дела налево и направо! – вскрикнула Катерина Львовна и вскочила со своего места, порываясь уйти, но резко развернулась. – Знаешь, что? Если ты во мне усомнился, то в таком случае тебе легче меня уволить!
– Екатерина Львовна, это крайняя мера, – спокойно и хладнокровно ответил профессор и отошёл от разъярённой женщины к окну. – Никто вас за руку не ловил, а это значит, что у меня нет никаких доказательств вашей вины. Поэтому мне ничего не остаётся, как поверить вам на слово.
Когда за Катериной шумно захлопнулась дверь, Чехов зашёл в свой кабинет и запер дверь. Он подошёл к окну почти вплотную и, открыв форточку, закурил.
– Почему мне не сообщил о том, что она творит за моей спиной?
«Хозяин, у меня нет ушей повсюду! До меня доносятся лишь обрывки фраз! Если бы я что-то услышал, то доложил бы вам!»
– В таком случае, мой дорогой, ты переезжаешь.
«Как вам будет угодно! Только не ставьте меня на подоконник, прошу, там очень зябко, да и этот глазастый дурень заметит меня сразу!»
***
Симферополь, 30 ноября 1957 года
Жизнь размеренно текла своим чередом, и Герман самоотверженно погрузился в учёбу с головой. Днём в институте он был сосредоточенным и серьёзным, лишь изредка отвлекался на дружеские беседы с Любашей, когда та подсаживалась к нему на больших переменах или в буфете. Порой к ним присоединялся дотошный Лёня, который потом выведывал у Геры все подробности их разговоров. Но Герман ничем не мог порадовать своего товарища, потому что Люба чаще всего обсуждала либо прошедшие занятия и просила конспекты (Герман славился у ребят быстрым и точным конспектированием), либо правки по стенгазете, которая должна была выйти со дня на день. Любаша искренне доверяла прозаическому таланту и чутью юноши. А вечерами Герман встречался с Олесей в публичной библиотеке, дабы заниматься с ней подготовкой к поступлению.
Со временем Гера научился контролировать свои чувства и эмоции, научился прятать свой щенячий восторг при каждой новой встрече, а днём предвкушение вечера не так томило его душу. «Всё-таки лучшее лекарство от скуки и тоски – это учёба и знания!» – воодушевленно написал он в своем дневнике. Герман стал более уверенно себя чувствовать в компании Олеси: он расправил свои плечи, приосанился и стал громче смеяться. А в походке его угадывались самодисциплина и спокойствие. И казалось, юноша окончательно отвоевал прежнего себя у доселе неведомых ему чувств и диковинных состояний ума и тела… Раньше он ждал её на ступеньках библиотеки, нетерпеливо перескакивая с одной на другую, как пугливая птаха, и вытягивал шею, высматривая её яркую беретку в россыпи серых и невзрачных голов. А сейчас он ждёт её внутри на скамеечке у гардероба, склонив голову над учебником философии или последним томиком Карамзина. Правда, Олеся сама его об том попросила, дабы он не мёрз, потому что девушка частенько запаздывала после смены в цветочной лавке.
В этом году конец ноября выдался промозглым и дождливым, темнело неожиданно рано, и в сумерках уже не было заметно ни яркой беретки, ни цветастого шарфика. Но приближение Олеси Герман чувствовал на каком-то интуитивном уровне, будто всё внутри начинало трепетать. Как перед июльским ливнем: мы не видим и не ощущаем его, но в воздухе всё клокочет от предвкушения: краски вокруг сгущаются, а воздух становится разреженным, плотным и пахучим. Герман всегда отрывался от чтения и с томительным ожиданием смотрел на дверь. Через несколько минут Олеся непременно появлялась. «Что за пространственная магия?» Растрёпанная, улыбчивая, шумная и… ароматная. До Германа доносились приятные древесные сладковато-цветочные нотки, и он наивно считал, что это не женский парфюм, а запах цветов, среди которых она трудилась весь день. И он встречал её скромной улыбкой, хотя внутри всё ликовало и щебетало; привычным движением откладывал книгу на скамейку и брал её сумку, чтобы она могла скинуть тяжёлое пальто.
– Как вы добрались сегодня? – по обыкновению спрашивал он.
– В трамвае такая толкучка была, еле выбралась! Как селёдки в банке, ей-богу! И снова одни и те же лица, представляете? Уже скоро здороваться будем! – по-детски жаловалась Олеся, наспех расстёгивая пальто. И Герман подмечал её красные от холода пальчики и ловил себя на мысли, что ему бы так хотелось согреть эти маленькие ладони в своих. Но он быстро давал себе мысленную оплеуху.
– Вы к нам как на службу! – с мягкой улыбкой говорила старенькая гардеробщица, отдавая номерки. И Олеся с Германом тайком переглядывались и смеялись, зная, что в следующий момент она произнесет: – А вот в мои годы мы тоже бегали в библиотеку, потому что в парках уже знобко бывало, толком не посидишь, а в ресторан или столовую – дорого! Вы, ребятки, молодцы!
Зачастую Герман с Олесей уединялись за последним столом у окна, чтобы никому не мешать. Когда Олеся уставала от потоков философии или истории, они тихонько обсуждали прочитанные книги. Порой девушка с особым интересом спрашивала Германа о прошедшем дне и занятиях, частенько листала его учебные тетради и восхищалась его каллиграфическим почерком.
– Как вам удаётся так красиво и разборчиво писать? А я не могу похвастаться своим почерком…
– Ну что вы, мне понравился ваш почерк. Он… весьма уточенный и старательный. Но у вас есть почти целый год, чтобы отточить мастерство письма.
– Спасибо за похвалу, но я боюсь, что моему почерку уже не помочь… – Олеся отстранилась от Германа и задумчиво посмотрела на него. – В вас вообще есть недостатки?
– Конечно, как и в каждом человеке, – смутился юноша и опустил глаза.
– Мы с вами хоть и недавно знакомы, но я пока не встречала настолько… – Олеся замялась, подбирая слова. – Правильного человека. Вы – пример для подражания. Для меня уж точно.
– Не хочу вас огорчать, но это не так, – поспешил её разубедить юноша. – Если бы я был таким, каким вы меня считаете, то ко мне бы тянулись люди. А сейчас, скорее, наоборот.
– Но почему? – встрепенулась Олеся. – В вас столько положительных качеств! Значит, вас ещё не рассмотрели! И я считаю это их упущением, а не вашим.
«Она говорит мне об этом, чтобы польстить и понравиться, или на самом деле так считает?» – подумал Герман. Олеся, подметив его раздумья, тут же взволнованно затараторила:
– Вы не подумайте, что я говорю это вам из корысти!
– Кажется, только что вы прочитали мои мысли, – с улыбкой ответил Герман и, поймав её растерянный взгляд, тихонько рассмеялся.
– Что ж, пускай это будет ещё одним моим положительным качеством! – горделиво заключила Олеся и улыбнулась Герману в ответ. Почуяв неладное, он сказал:
– Давайте вернёмся к диалектике природы Энгельса[4]?
«Как бы я хотел сказать ей, что для меня она идеальна…» – пронеслось в голове у Германа. И внутри себя он просиял.
***
Симферополь, 1 декабря 1957 года
Сегодня было сонное воскресенье, и Герман сидел за столом в комнате общежития за учебниками и конспектами. Лёня устроился на своей кровати, прислонившись к стене, и бренчал на гитаре, которую взял у соседей. Лицо его выражало сосредоточенность и одновременно с этим некую покорную обречённость и даже безмятежность. Губы его тихонько нашёптывали что-то, а взгляд был устремлён в пустоту.
– Журавль, вот как ты думаешь, если я уйду из института, она это заметит?
– Кто? – Герман не отрывался от учебника.
– Любовь.
Гера закатил глаза и со вздохом развернулся к соседу.
– Конечно, заметит. Кто же будет к нам подкрадываться на переменах и в буфете? Да и тебя скорее выпрут из института, если не возьмёшься за ум и не перестанешь страдать.
Лёня ничего не ответил, он лишь отложил гитару в сторону и опустил увесистый подбородок на колено. Его лицо не выражало по-прежнему ничего явного. Герман продолжил:
– Между прочим, учёба – лучшее лекарство от подобных злоключений! Тебе нужно отвлечься! И найти хоть какое-то занятие себе.
– Я футболом отвлекаюсь, закалкой и бегом. Знаешь, как помогает? А потом возвращаюсь в институт, вижу её и всё прахом идёт… А может Лошагина выпрут, а? А меня оставят? – На лице Леонида блеснула слабая надежда.
– С глаз долой, из сердца вон?
– Ты сам -то в это веришь? – Лёня мрачно глянул на Германа.
– Куда уж мне до вас, до суровых атлетов! Лошагин хоть и не умнее тебя, но весьма хитрее и изворотливее, он найдёт шанс сдать первую сессию. С помощью Л… – Герман осёкся и с опаской взглянул на Лёню: – Не вешай нос, Лёнь!
– Тебе то легко говорить… Ты хоть раз влюблялся? Вот так, напропалую.
– Ну-у-у… – Гера почесал затылок, выбирая меж ложью во благо и святой истиной. – Да, было дело.
– И что, это было взаимно?
– Лёнь, это было в школьные годы, я уж и не помню.
– Ха, серьёзно? – Казалось, Лёня оживился. – Тебе сколько сейчас годков- то? И с тех пор ни в кого не втрескался?
Германа кольнуло ядовитое опасение: «Я не хочу, чтобы меня считали… другим. Чудиком или того хуже – изгоем». И он пошёл на риск:
– Есть одна девушка… Сейчас. Но я…
– Да ладно, и ты молчал?! – Леонид засиял и, победно хлопнув в ладоши, подсел ближе к растерянному Герману. – Рассказывай, кто она! Я её знаю? Она из нашего потока? Ну она хоть из института?
– Лёнь, попридержи коней! – Герман мгновенно пожалел о содеянном, начав недовольно ёрзать на стуле. – Я ничего тебе не скажу, и вообще, мне нужно заниматься, завтра важный доклад по диалектике…
– Обожди, окаянный! – Лёня схватил его за предплечье и развернул к себе, а сам взял стул и уселся рядом с испуганным юношей. – А мы всем общежитием гадаем: целованный ты или нет!
– Что? – Герман нахмурился.
Лёня сглотнул и вмиг посерьёзнел.
– Ты это… не подумай ничего такого, мы просто…
– И давно вы обсуждаете мою персону? И в каком ключе, позволь узнать? – с напором спросил Гера и подался вперёд. Леонид отпрянул.
– Да никого мы не обсуждаем! Просто ты с самого первого дня сидишь и зубришь в комнате, тебя ж никуда не вытащить! И мы тебя ни с кем из института не видали, даже с однокурсниками. А уж с девушками так подавно…
Герман, отвернувшись, бросил ручку на стол. Лёня поспешил успокоить юношу:
– Ты не подумай ничего плохого, мы ж тебя не осуждали и не обзывали за спиной! Я бы никому не позволил, ты же знаешь, ну? Я за тебя горой!
– Знаешь ли, досадно осознавать, что о тебе судачат за спиной и пытаются залезть в душу так беспардонно, – после минуты молчания ответил Герман, не поворачиваясь к Леониду. – Хоть раз подошли бы ко мне и задали интересующий вопрос, я бы ответил. И то, что я нелюдим, уж извините, не моя вина. И я в институт учиться поступал, мне дружбу некогда заводить…
Лёня молча и растерянно слушал, потупив взор. Казалось, он и сам пожалел, что начал этот щекотливый разговор.
– Ты не думай, ещё раз говорю… Если бы я что-то плохое услышал о тебе, я бы сразу всех на место поставил!
– Спасибо, – сухо обронил Герман и добавил: – Только сейчас не лезь ко мне, я позаниматься хочу.
Лёня направился к двери, но раскрыв её, остановился и бросил виноватый взгляд на Германа.
Как только за соседом захлопнулась дверь, юноша отложил конспекты и взялся за свой дневник: «Где я мог допустить оплошность? Почему я стал объектом насмешек и горячих споров? Но стоит справедливо заметить, что я никогда не стремился стать частью коллектива, как бы мне этого ни хотелось. Я сам виноват, потому что не искал ключиков к замочкам. Моя нелюдимость, природная застенчивость и страх непринятия и отвержения сыграли свою роль… Я боялся и стал-таки белой вороной. Хотя кому я лгу? Я самоотверженно был к этому готов. С самого своего рождения. Но всё равно, даже допуская такой исход, я не был готов столкнуться с правдой лицом к лицу. Это больно… И как же мне теперь поступать? Вести себя как и прежде: отстранённо и даже отчуждённо? Или же сделать первый шаг навстречу людям?»
Перелистывая тетрадь, Герман наткнулся на короткую запись вверху следующей страницы: «Лавандовый переулок, дом пять. Отдать посылку лично в руки, вернуть часы, увидеть Катюшку». В его памяти яркой вспышкой отразился тот день, когда они с Олесей сидели на лавочке в парке, и за спиной он услышал это послание от дерева. Но от какого именно дерева? Гера кинул беглый взгляд на часы и в спешке засобирался. «Я должен спешить, иначе могу опоздать, уже декабрь… Оно может впасть в спячку!»
В коридоре Гера наткнулся на курящего Леонида.
– Журавль, места себе не нахожу, ну прости меня дурака, ляпнул не подумав!
– Лёнь, я спешу! Давай потом, а? Я на тебя не в обиде!
– Не врёшь? – заулыбался Леонид. Гера торопливо кивнул. – Тогда давай хоть руки друг другу пожмём? Мир?
Герман остановился с недовольным видом, но руку протянул.
– А ты это… на свиданку спешишь, да?
Гера строго глянул на соседа, и тот стушевался:
– Прости, прости, не лезу! Тебя хоть ждать сегодня?
Герман махнул рукой и скрылся за поворотом.
***
В парке уже сгущались сумерки, когда юноша всё-таки отыскал ту самую лавочку. За ней клонил поредевшею крону к земле старый ясень, которого в прошлый раз Гера не заметил. Он присел на лавочку и заговорил с ним первый:
– Здравствуй! Кто живёт в Лавандовом переулке в пятом доме?
Ответа не последовало. Вокруг неспешно прогуливались люди, сновала детвора, а на соседних лавочках мирно устроились влюблённые пары. Герман понимал, что очень рискует, если подойдёт к ясеню вплотную и заговорит с ним. Воскресным вечером здесь слишком много народу, но деревце могло и впасть в спячку, хотя в начале декабря на город не упало ни единой снежинки, а в прохладном воздухе ещё пахло осенью. Юноша посидел немного, озираясь по сторонам. Казалось, никому не было дела до одинокого сидящего паренька, закутанного в пёстрый вязаный шарф. «Точно, шарф!» Герман встал и натянул шарфик себе на лицо, почти до носа, чтобы прикрыть губы. Он медленно подошёл к ясеню и прислонился к шершавому стволу плечом, устремив свой взгляд вдаль. Юноша повторил свой вопрос и прислушался. «Неужели я опоздал?» – с сожалением подумал он. Но тут до него донеслось тихое, но отчётливое:
«Домик с деревянной кровлей и покосившейся рамой…»
– Кто живёт в том доме? И что я должен передать?
«Передать посылку лично в руки, вернуть часы, увидеть Катюшку…»
– Но я всё это слышал… Ты можешь ответить мне?
Но ясень замолчал. Юноша не стал ни о чём спрашивать дерево: он знал, что ответа не получит. Голос ясеня показался Герману странным. Он был… очеловеченным. В нём слышались испуг, отчаянье и суетливость, будто он куда-то торопится. «Но кто, он?» Деревьям чужды чувства и мытарства людей, и им больше некуда спешить. Их корни намертво вросли в землю, а ствол с места сможет сдвинуть лишь сильный порыв ветра. Их голоса не похожи на человеческие, но при этом они ничуть не безжизненные, а скорее наоборот: тягучие, внятные, звонкие и сильные. И они всегда влекли Германа своим удивительным тембром, он всегда мог отличить человеческий голос от зова дерева или цветка.
Гера не мог остаться равнодушным к ясеню и наплевать на его просьбы. Хоть это были вовсе и не просьбы, а скорее желания. Причём желания человеческие: передать, вернуть, увидеть. Юноша не знал, что ждёт его по адресу, продиктованному ясенем, но чувствовал, что нужно спешить.
В нужный переулок Герман прибыл уже в темноте. Он никогда не бывал прежде в этой части города. Вокруг было пустынно и безлюдно. Герман прошёл через большую промышленную зону в надежде наткнуться на позднего прохожего, дабы спросить время. Но по дороге он встретил лишь стаю бездомных собак. «Что ж, перспективное начало путешествия», – с опаской подумал он и двинулся дальше. По левую сторону от него гудели проезжающие машины и автобусы, а по правую растворялись в сумеречной мгле безликие заводские постройки из серого кирпича. Редкие фонари почти не освещали путь, и только свет фар от проезжающих машин слепил глаза. Спустя какое-то время Герман понял, что заблудился: спросить дорогу было не у кого, а на кирпичных низеньких строениях не было ни единого номера.
Миновав промышленную зону, Гера вышел на лесистую местность. Он уже пожалел, что поехал так поздно на окраину города, ведь он даже не знал, встретят ли его там. «Нужно возвращаться и начинать путь сначала», – подумал юноша. Но совесть не дала бы ему покоя, если бы он промедлил ещё день.
– Кто знает, сколько лет он томится там, в ожидании того, кто услышит его? – размышлял Гера вслух, потирая ледяные ладони, – Может быть, даже десятилетия! А я единственный, кто хоть как-то может ему помочь! Надо спешить… Иначе не успею в общежитие.
Он быстро вернулся к постройкам и пошёл на тусклый свет дворового фонаря. Подойдя к двухэтажному зданию без вывесок. он остановился перед высокими воротами, из-за которых пробивался свет. Заглянув в небольшую щель, Герман увидел во дворе курящих мужчин. На свой страх и риск он постучался в ворота, и тут же оглушительный злобный лай нарушил вечернюю тишину. Из-за ворот послышался раскатистый бас:
– А ну-ка фу, на место! Ишь, расшумелся…
Герман нервно сглотнул и испуганно отошёл от ворот на несколько безопасных шагов.
– Ты чего, заблудился, что ли? – недружелюбно поинтересовался незнакомец в фуфайке и старых кирзачах. В уголке рта густо дымилась папироса. Мужчина прищурился, осматривая Германа с головы до пят.
– Здравствуйте! Извините, а как я могу выйти на Лавандовый переулок?
Мужчина указал рукой в сторону небольшой деревеньки неподалёку. Его фуфайка распахнулась, и Гера заметил рукоятку складного ножа, торчащую из кармана ватных штанов.
Юноша быстро кивнул и, наспех поблагодарив, развернулся.
– Постой! А ты чей будешь?
– Я не местный, живу недалеко от центра… – как можно спокойнее ответил Гера.
– А тут тогда чего забыл, коли не местный? – Мужичок продолжал оценивающе смотреть на Геру, чем вызывал неподдельное беспокойство.
– Я… я просто… к родственникам в гости приехал! А автобус не там высадил! Наверное, свою остановку проехал. – Гера пожал плечами и сделал слабую попытку улыбнуться. Но всё нутро подсказывало ему, что мужчину он не провёл.
– А ну, подь сюды! – Мужичок махнул рукой и вынул папиросу, смачно сплюнув. – Иди, иди, я не обижу.
– Я лучше пойду, извините! Я собак боюсь. Спасибо вам за помощь!
– Эх, молодёжь! Как с вами гутарить, не пойму! – усмехнулся мужичок и, взяв увесистый камень с земли, подпёр ворота. Герман, стоя как вкопанный, наблюдал за действия незнакомца. «Бежать прямо сейчас? Или обороняться?» Но он не умел ни того ни другого. И ему приходилось только молиться.
– У тебя нос уже синий и руки, вон, все краснючие! – по-отечески произнёс мужичок на ходу, – А родня могла бы и встретить тебя! В такое время тут шастать нехорошо, разные случаи бывали. На хоть, перчатки одень! И ступай, пока мы фонарь не погасили и собак не спустили.
Герман стоял и смотрел в спину уходящему незнакомцу, держа в руках старенькие рабочие перчатки. Как только за ним со скрипом затворились ворота, он очнулся и тихонько произнёс:
– Спасибо... Видимо, я плохо разбираюсь в людях.
Всю дорогу до нужного переулка Герман провёл в раздумьях. Перчатки хоть и оказались ему велики, но зато грели руки. А душу грела мысль о том, что он делает всё не зря. Пройдя уже несколько жилых домиков, в которых тускло горел свет керосиновых ламп, Гера увидел вдалеке дом, напомнивший ему тот, что описал ясень. Описание это было весьма скудным и размытым, но Гера узнал этот дом по старой деревянной кровле и покосившимся оконным рамам. Он подошёл поближе и по заросшей траве вокруг дома да упавшему забору с ужасом понял, что дом этот заброшенный. «Нельзя отчаиваться, а вдруг я ошибся?» Гера огляделся и увидел через два дома сидящего на скамейке у забора старичка. Он держал в руках дымящуюся папиросу и, казалось, дремал.
– Прошу прощения, а это пятый дом? – обратился юноша к старичку и тот встрепенулся. Пепел с истлевшей папиросы щедро осыпался вниз и испачкал ему колени.
– А? Какой? Да-а-а, пятый, пятый… А он зачем тебе? Там с войны уже, считай, никто не живёт…
– Как же так? – Герман обессиленно опустился на холодную скамейку рядом со стариком. – Я такой путь проделал, чтобы… А вы не знаете, кто там жил?
– Послушай, пойдём в дом? У меня там похлёбка стынет, заодно и поужинаю не в одиночестве.
Герман согласился: ему страстно хотелось узнать тайну пятого дома по Лавандовому переулку. Правда, от похлёбки Гера отказался, но горячий чай с сушками выпил с большой охотой, не снимая перчаток. В тесном кирпичном домике было холоднее, чем на улице, и юноша сел подальше от окошка и поближе к печке, которую гостеприимный дедушка растопил, подметив, его гость изрядно замёрз. Да и охапка дров уже лежала у печи, будто хозяин дома ждал прихода позднего гостя. И под ровный треск сухих дровишек старичок и начал свой короткий рассказ:
– В доме том Семён с семьёй жил… С женой Галиной и двумя сыновьями: Колей и Саввой. Галя ещё на сносях была. А как война началась, так Сёму сразу и забрали на фронт. Галина с детьми ещё жила какое-то время дома. Но потом как узнали мы, что немец к городу подходит, так Галина поспешно собралась и уехала. Много тогда людей полегло… Она всё правильно сделала, дай Бог, сейчас жива-здорова. Она заезжала сюда, но уже после войны, без детишек. Я помню, спросил её, куда же она уехала, как устроилась… А она только рукой махнула и ответила, что не важно это всё, без Семёна. Он так и не вернулся с фронта. Она ещё какое-то время ждала его дома, жила одна здесь. А потом не выдержала и уехала к детям. Собрала маленький чемоданчик, и след её простыл…
– Погодите, она даже адрес новый не оставила? А если Семён вернулся бы с фронта, а дом пустой… Как бы он нашёл свою семью?
– Она мне сказала тогда, что он приснился ей здесь, дома и сказал, что погиб. Попрощался с ней… Она сначала не поверила, а потом ей похоронка и пришла. Вот так бывает, сынок. Сколько эта проклятая война жизней-то нужных и молодых забрала… Не сосчитать.
Герман сидел ещё несколько минут, растерянный и оглушённый, не зная, что и сказать. «Как же я теперь пойму, что мне нужно сделать, чтобы ему помочь?»
– А вы не знаете, какую посылку он должен был передать? При жизни?
Старичок покачал головой.
– А часы? Не знаете, кому он должен был вернуть часы? – со слабой надеждой спросил Гера.
Старик задумчиво почесал бороду и через время молвил:
– Я знаю только, что у Семёна часы наручные сломались, прямо перед уходом на фронт. Я это точно помню, он мне их ещё приносил, я ж часовщик. Но там механизм уже совсем дохленький был, не смог я ничего сделать. Но на фронт он уходил с другими часами.
– С позаимствованными… – произнёс Герман.
– А? – не расслышал старичок.
– Я говорю, не мог он их у кого-то позаимствовать? – чуть громче спросил Гера.
– А у кого он их… возьмёт? – пожал плечами старик и громко отхлебнул чаю из жестяной кружки. – В те годы часы были такой роскошью, что не у каждого их можно было сыскать! Да и новые он бы не стал себе покупать… Он мужичком бережливым был, одёжку до дыр изнашивал! Но не скажу, чтобы скуп или прижимист - Галюшку свою баловал и сыновей.
Герман задумался о судьбе неизвестного ему Семёна, крепко обхватив ещё тёплую кружку. А старичок открыл засов у печки и подкинул ещё пару поленьев к тлеющим уголькам.
– А не подскажете, который час? – Очнулся Гера от тяжёлых раздумий.
– Поздний, – коротко ответил старик и глянул в окно. – Часов у меня, как видишь нету, но я в это время уже на боковую отправляюсь.
– Извините, мне пора! – вскочил юноша, наспех повязывая шарф.
– Куда тебя черти понесут в такую темень? – поднял руку старик. – Автобусы сейчас уже не ходят, они по воскресеньям рано прекращают сюда ездить. Оставайся у меня! На печке, вон, поспишь. Мне скушно одному-то. А с утра я тебя растолкаю, я ранёхонько поднимаюсь…
– Да… Вы правы. – Герман обессиленно опустился на стул и почувствовал, как ему стало душно. И накатила такая тяжёлая сонливость, что сил сопротивляться ей уже не осталось.
Лёжа на твёрдой жаркой печке, Гера предался привычным вечерним мыслям: «Вот это вечерок был… Суматошный. Надеюсь, Лёня меня не ждёт. Хотя он наверняка уже всем растрепал, что я на свидании. Любопытно, а как там Олеся? Как у неё продвигаются дела с Капитаном Грантом? Не слишком ли занудно для её пытливой женской натуры? Наверняка не так, как история начала Римской империи…»
Герман и сам не заметил, как погрузился в вязкую и приятную дремоту. Думая об Олесе перед сном, он, сам того не осознавая предаётся сладкой неге, а ощущение уюта окутывает его с головой, и спится куда крепче. Но в ту ночь сны его были весьма тревожны…
– Просыпайся, я к тебе пришёл, – раздался строгий мужской голос, и Герман вздрогнул, разлепив глаза.
– Кто ты? – испуганно прошептал он, приподнимаясь с печки. В полумраке он силился разглядеть ночного гостя, но смог увидеть лишь едва различимый силуэт: это был рослый мужчина в полевой фуражке.
– Я Семён. Ты меня искал? Сядь. Поговорим.
– Не может быть, но… Как вы меня нашли?
– Я уже давно никого не ищу. Но я всегда здесь, – сухо отвечал мужчина.
– Вы? То есть ваша душа? А кто тогда там, в ясене?
– Не могу дать ответ на этот вопрос, мне не дано это знать…
– А что за набор фраз? Передать посылку лично в руки, вернуть часы и увидеть Катюшку? Кто такая Катя?
– Я повторял эти фразы перед своей смертью. Катюшка – моя единственная дочь. Я её так и не увидел, уходя на войну.
– А как вы… погибли?
– Осколочное проникающее ранение головы с переломами и тяжёлым повреждением мозга. Мне не успели оказать даже первую помощь.
– Ясно… – Герман пытался собраться с мыслями, но ощутил, как его забила мелкая дрожь. Впервые он видел покойника так близко и более того – сидел с ним за одним столом и разговаривал как с живым. Глаза уже привыкли к темноте, а за окном потихоньку светало, и юноша мог разглядеть лицо незнакомца: серьёзное, но очень доброе и как будто умиротворённое, а густые усы над пухлыми губами добавляли ему возраста. На вид ему было не более тридцати лет. Герман набрался смелости и продолжил:
– Скажите, вам было важно при жизни сделать то, что вы перечисляли? Ведь это вас держит здесь?
– Полагаю, что да. Но два дела я уже выполнил: вернул часы и увидел Катюшку.
– Расскажите, как?
– Часы я вернул своему товарищу. Я взял их у него аккурат перед тем, как ушёл на фронт. Его звали Олег, и он отдал мне их как талисман, на удачу. Но не сработали они… Я обещал ему отдать их, как вернусь домой, живым и невредимым. Но меня похоронили вместе с ними. Мы встретились с ним здесь, он умер несколько лет назад. Хотя теперь они ему уж точно не понадобятся. Но я обещал. А обещания я всегда держу крепко.
– А Катюшка?
– Моя Галя потеряла ребёнка спустя пару месяцев после начала войны. Поэтому моя дочка уже ждала меня здесь. И я её, наконец-то, увидел. Хоть и на том свете.
Герман похолодел. Он опустил взгляд, пытаясь подобрать слова.
– Соболезную вам…
– Нам не надо соболезновать, мы уже в этом не нуждаемся.
– Извините, – виновато обронил Герман. – Ну а посылка? Что с ней?
– Посылка была фронтовая, от красноармейцев. Я должен был её передать, но…
Герман почувствовал сильный толчок в плечо и открыл глаза.
– Поднимайся, а то на автобус опоздаешь! Потом другой ждать два часа!
Юноша поморщился и потёр заспанные глаза.
– Такой сон не досмотрел, эх…Дедушка, не могли на минуту позже растолкать, а?
– Садись чай пить! – радостно воскликнул старичок и потёр ладоши. – Сейчас кашка пшённая будет готова! С сахарком да маслицем…
Попивая горячий терпкий чай, Герман спросил:
– А как вас зовут, дедушка?
– Мирон Палыч меня величать. А тебя как звать-то?
– Герман. Я вам вчера даже не представился…– с виноватой улыбкой ответил Гера. – А вы у меня вчера не поинтересовались, зачем мне дом Семёна понадобился?
– А разве это так важно? Да и мне про сына так поговорить охота, память его почтить, вспомнить добрым словцом… Я ж совсем один остался.
– Сына?! – Герман чуть не выронил кружку с кипятком на стол. – Я не знал, что… он сын ваш.
«Вот почему он мне приснился здесь!»
– Сын. Единственный, – с тоской промолвил Мирон Палыч. – Он же вырос в этом доме.
– А почему с вами жена его не общается? Внуки?
– Там долгая история, сынок… Обиделась Галя на меня. Я тебе как-нибудь потом обязательно расскажу! Ты лучше ешь давай и ступай, а то потом не уедешь. Ты где живёшь-то?
Уходя, Герман пообещал добродушному старичку вернуться. Мирон Палыч ещё долго стоял на крыльце, опираясь на деревянный косяк, и смотрел вслед уходящему юноше. Казалось, в тот воскресный вечер он был очень рад незваному гостю. А Герман был рад, что хотя бы немного, но приблизился к разгадке ясеня. Хотя впереди ещё оставалось много вопросов…
За толстым стеклом то и дело мелькали южные осенние пейзажи: медные пышные кроны деревьев сменялись на выжженные пустынные поля, а вдалеке можно было разглядеть лесистые горы. На них, как грибы после проливного дождя, кучковались поселковые домики. И казалось, будто время здесь остановилось, а осень – отступила навсегда…
За пустым столиком в одном из последних вагонов сиротливо сидел черноволосый худощавый мужчина с пушкинскими бакенбардами и угрюмыми чёрными глазами. На загорелом вытянутом лице рельефно выделялись острые скулы, длинные угольные брови были чуть вздёрнуты вверх, а над пухлыми губами проглядывались редкие усики. Одет он был простенько: молочного цвета рубашка с лошадьми на скаку и коричневые вельветовые брюки на полосатых подтяжках. Брюки были явно мужчине не по размеру, собираясь гармошкой на щиколотках, но зато они скрывали чёрные носки с дыркой. На ногах покоились пыльные выходные туфли, носы которых были изрядно потёрты. Но зато те были ему впору. Внешний вид его носил неряшливый и даже небрежный вид. Но это вовсе не отталкивало, а скорее наоборот: его хотелось рассматривать, подмечая всё новые и новые детали гардероба.
Одинокий пассажир подпёр острый бритый подбородок правой ладонью, а на его пальце красовался увесистый серебряный перстень с блестящим чёрным шерлом. Если присмотреться, то серебро успело почернеть, но эта значительная деталь придавала перстню благородную старину. Уголок треугольного камня был сколот: перстень либо слетал с тонкого безымянного пальца незнакомца, либо успел пострадать в серьёзной драке. Пассажир молча смотрел в вагонное окно и казалось, наблюдал за тем, как по запотевшему стеклу по ту сторону стекали крупные горошины дождя, сливаясь воедино в причудливые ручейки. Но внимательный наблюдатель, несомненно, отметил бы, что тяжёлый взгляд его был неподвижен и мрачен, а сам незнакомец был погружён в серьёзные думы. Но монотонный и ровный стук колёс быстро убаюкивал мужчину, и тот после недолгой остановки в пригороде Новороссийска прилёг на нижнюю полку, подложив под голову руки. Но как только стальные и мощные «ладони» мягко подхватили его уставшее тело и начали раскачивать, в дверь раздался настойчивый стук, и черноволосый пассажир встрепенулся.
– Позволите войти? Это ведь восьмое купе, я не ошибся?
В дверях стоял низенький старичок с маленьким чемоданом и сумкой-почтальонкой через плечо. В руках он держал намокшую шляпу с большими полями. Сонный незнакомец кивнул, наспех обуваясь, и любезно вызвался помочь своему попутчику с вещами. Старичок охотно согласился, дружелюбно пожав тому руку. Попутчик представился как Серафим Михайлович, а молодой мужчина назвался Александром. Они устроились друг напротив друга и завели непринуждённую беседу о погоде за окном, о том, кто куда держит путь и как добыть у молоденькой юркой проводницы стаканчики с крутым кипяточком, дабы насладиться крепким чайком. Александр вскочил со своего места и направился к проводнице, пока старичок раскладывал на столике с белой скатертью бутерброды с сыром, конфеты с печеньями и солёные огурчики с остатками жареной картошки. Когда Александр вошёл в купе с двумя стаканами, полными кипятка, то обомлел: перед ним был накрыт целый стол. В желудке предательски заурчало, и он быстро прокашлялся, дабы не выдавать попутчику сего постыдного факта. Но Серафим Михайлович с понимающей улыбкой радушно произнёс:
– Вы угощайтесь, Саша, не смейте стесняться! Право, в одиночку я все эти яства точно не осилю! А моей дорогой супруге всё без толку объяснять, она меня снабдила продовольственными запасами как в недельную экспедицию… – с хриплым смехом проговорил добродушный старичок, потянувшись за чайной заваркой к сумке.
– Сразу видно, что вы – женатый человек, вам повезло, – робко ответил Саша. У него разбегались глаза, и он не знал, за что же первым делом взяться. Но решил начать с чаю, бросив в стакан щепотку чёрных байховых листьев из спичечного коробка. Это единственное, что он взял с собой в дальнюю дорогу. Ещё было полкило яблок и персиков, но они были съедены ещё в начале пути.
– Простите мне моё любопытство, Александр, а вы сами женатый человек?
– Скоро женюсь… – с гордостью в голосе ответил мужчина, но с грустью добавил: – И не на абы ком, а на профессорской дочке.
– Вот как… Тогда и вам повезло! Таких знатных невест, знаете ли, нынче разбирают как горячие пирожки! Наверняка она и умница, и красавица, и благовоспитанна, и верна. Ей-богу, идеальная жена!
– Ваша правда, Серафим Михайлович. Но вот в чём беда… Я не самый завидный жених и не самый желанный зять. В профессорской семье меня и знать не хотят…
– Да вы что?! – Старичок удивлённо вскинул седые брови и окинул проницательным взглядом своего визави – Право, я и не подозревал, что в наше время выбирают женихов для своих дочерей. Я полагал, что это было популярно во времена правления царской семьи, а сейчас – лишь пережиток прошлого. Позвольте узнать, чем же вы так не угодили семье своей… избранницы?
– Знаете, мало что изменилось со времён правления царских особ. В наше время тоже привыкли встречать по одёжке да провожать не по уму, а по… кошельку. А я ни тем не угодил, ни другим. Да ещё и безродная дворняга, как выразился мой… кхм… будущий тесть. – Но тут Александр осёкся и бросил пугливый взгляд в сторону попутчика, торопливо проронив: – Простите, я что-то разоткровенничался… Не стоило мне этого говорить. Моя невеста не любит, когда я отзываюсь об её отце в таком тоне. При посторонних…
– Саша, не извиняйтесь! Уверяю вас, всё сказанное вами останется в этом купе. Да и я сам, по правде говоря, затеял этот откровенный разговор… Если вам неловко, я охотно сменю тему! Вы только скажите…
– Благодарю вас за понимание, Серафим Михайлович. Просто… наболело, знаете ли. Иногда так хочется выговориться, да особо некому. Но даже у стен есть уши, а у окон глаза.
– Позвольте заметить, мы не в окружении стен. – Собеседник обвёл руками купе и весело добавил: – Да и снаружи грохочет лишь паровоз, и ему, знаете ли, не до людских откровений… Так что же ваша невеста? Она не смела пойти против воли отца?
– Наоборот. Она пошла ему наперекор. И мы проживаем вместе. Хоть и официально не расписаны. И это тоже не добавляет мне благородства и уважения, я знаю. Но она сама решила уйти из отчего дома… Тем более её там более ничего не держит. Она лишь навещает свою матушку в лечебнице для… Впрочем, не столь важно. Но по батюшке она тоже тоскует, хоть и держит обиду на него. Я стал камнем преткновения в их семье. От этого так тошно становится, знаете ли. Я вырос безотцовщиной, и мне всю жизнь не хватало отцовского плеча. Как же так? Я собственноручно лишил любимую отца?
– Простите, а вы… откуда родом?
– Я родился в Ташкенте. Мой отец был цыган. Он бежал туда во время расправ, когда началась массовая охота на цыган по всей стране. И встретил там мою матушку. Она, к слову, была узбечкой. Страшное тогда было время… Голодное, беспощадное и опасное.
– Помню, помню… – тихо отозвался старичок, тяжко вздохнув. – А ведь были времена либерального царизма, в которые кочевым цыганам дозволялось бывать, где угодно! Кроме, разумеется, столичного Петербурга. А в 30-х, между прочим, советская власть давала цыганам аж по пятьсот рубликов за осёдлость и вступление в колхоз, знали? Только те деньжата прикарманили себе да были с ними таковы… Колхоз имени Лоры Чергэн чего стоит.
– Знаю я, Серафим Михайлович, как советская власть пыталась приручить мой народ. Матушка мне об этом рассказывала, но увы, при рыжем Гуталинщике эти славные времена для цыган быстро закончились. Ему, знаете ли, хотелось показать зримые преимущества нового строя. Иностранцы должны были увидеть в столице подземные дворцы метро, нарядные витрины, роскошные павильоны ВСХВ[2] и оптимизм физкультурных парадов. Разумеется, приставучие гадалки и вечно чумазая голодная ребятня только испортили бы это чудесное впечатление… А про то, что кочевые цыгане бежали с советскими рублями, я тоже наслышан. Но я не отвечаю за ошибки своего народа. Я вырос в иных условиях, я, считайте, такой же советский человек, как все. И живу по совести и местным законам.
– Понимаю, Саша, понимаю. Не смею вас ни в чём обвинять! Это так, к слову пришлось… А наш вождь, Сашенька, ни с кем не церемонился… – хмуро отозвался пожилой собеседник и щедро отхлебнул остывающий чай. – Но вы не застали это гнетущее время, и это уже хорошо. Место, в котором вы родились и выросли, само по себе прекрасно и плодородно. Мне доводилось бывать в Ташкенте и по работе, и по зову души. Помню тенистый парк Пушкина и вечную пышную зелень, которая даже в самый знойный день спасала уставших туристов от солнцепёка… Ах, а какие там ароматы были вокруг: специи, вино, сочные спелые абрикосы и… прелестные местные горожанки. Для меня Ташкент – настоящая звезда Востока! Даже краше заморского Стамбула!
– В Стамбуле не доводилось бывать, не могу сравнить. Но и на родине был в последний раз так давно, что сейчас готов пустить мужскую слезу, – с дрожью в голосе отозвался Александр и обронил взгляд на столик. – Мы уехали из Ташкента через несколько лет после смерти батюшки и остановились в Баку. Там жила родня по материнской линии. Мне тогда был всего пятак. А потом мы перекочевали всей семьей в Крым и осели близ Балаклавы. Там моя матушка познакомилась с моим отчимом, местным рыбаком. И на свет появились браться и сёстры. И наша семья разрослась до девяти человек. Настоящий цыганский табор! – рассказчик смущённо рассмеялся.
– Полагаю, на юге вы и познакомились с дамой вашего сердца?
– Да, вы правы. Она приехала отдыхать в Алушту с родителями, где я исполнял цыганские песни в местном ансамбле. Иногда и собственного сочинения. Но, будучи голодными на овации мальчишками, мы частенько бегали петь песни под гитару на ближайшую набережную. Там и свела нас с ней судьба. Она потом приходила туда каждый вечер, вплоть до отъезда домой.
– Вы ещё и поёте?
– Да. С детства, как и мой отец. Его самого я плохо помню, но его голос врезался в память и в моё сердце навсегда… Такой сильный, бархатистый и благородный. «Thaj akava glaso ćhivgja e kan thaj phagerdas e maj sofisticirime!»[3]
– Как романтично. И как печально! – заключил Серафим Михайлович, глядя в окошко, за которым уже смеркалось и вдалеке начали поблёскивать фонари. – Вы, Сашенька, ешьте, ешьте, а то я вас совсем заболтал! Тьфу, болтун старый… А вы, наверняка, голодный, да к тому же уставший. Вы откуда, скажите, путь- то держите?
– Из Ставрополя. А еду, как уже говорил, в Симферополь, на встречу с… одной дамой. Надеюсь, она поможет мне наладить отношения с моим будущим тестем. Да и мне хотелось бы, чтобы дочь и отец помирились перед свадьбой. Несмотря на застарелую обиду, она бы хотела видеть его среди гостей. Да и я тоже. Но зная его нрав и характер, я думаю, что он никогда на это не согласится…
– Послушайте, Саша! Я вижу, что вы порядочный, благородный, честный молодой человек. Да к тому же такой фактурный и артистичный. Смесь кровей, конечно, сделала своё дело… В вас чувствуется горячая цыганская кровь и проглядывают восточные черты… Скажем так, видный мужчина! Я уверен, что любая барышня пошла бы за вас замуж. Уж простите мне мои фривольности, но я человек изрядно поживший и повидавший многое на своём жизненном пути. Я издалека вижу настоящих людей и умею различать подлецов. Ведь есть же в вас, в конце концов, положительные человеческие качества?
– Конечно. Я с детства режу репчатый лук, не проронив ни единой слезинки! – решив разбавить серьёзный тон беседы, с улыбкой пошутил Александр и добавил: – Но когда моя Тома читала мне «Муму» Тургенева, я, честно признаюсь, прослезился… Но зато я каждый раз шинкую лук вместо неё, дабы она не плакала. Тома даже называет меня в шутку колдуном, потому что даже самый ядрёный лук меня не берёт.
– Позвольте заметить, это уникальная способность! – с громким смехом отозвался Серафим Михайлович. – Я даже и близко к луку на кухне не подойду, а вы… Эх, вот это настоящая жертвенная любовь!
– Думаете? – с лёгкой ноткой недоверия спросил Александр и отвёл взор к запотевшему стеклу. – А вот её батюшка так не считает… Он думает, что я – тунеядец. Необразованный и наглый цыган, взял его дочь в плен и заставляю себя любить насильно. Или из чувства жалости к себе…
– Саша, вот ответьте себе честно: надо ли вам заслуживать доверие своего тестя? Делать первые шаги к примирению с ним? Или вы радеете за чувства своей любимой?
– К сожалению, не все так благосклонны к моей персоне, – с грустью ответил Александр. – А уж тем более в таких интеллигентных кругах. Моему будущему тестю хотелось бы другого избранника для своей, к слову, единственной дочери. Из своего, так скажем, теста. И знаете, я, как мужчина, могу его понять. Я даже готов был отступиться от неё и не привносить разлад в их… семейные отношения. Никому, знаете ли, не захочется быть на моём месте. И разлучать единственную дочь с родным батюшкой. Пускай он категоричный, вздорный и даже деспотичный человек. Мне кажется, он не умеет давать людям шансов. Или не хочет. Не знаю!
– Ну, полноте, друг мой! – воскликнул старичок, махнув сухонькой рукой. – Я, знаете ли, тоже представитель современной интеллигенции, в своё время возглавлял редакцию одной московской газетёнки, к тому же филолог-лингвист по образованию. Я отец двоих сыновей, и если бы так сложилось, что один их них полюбил бы…эм… простолюдинку или барышню не нашего круга, я бы не воспрепятствовал их отношениям! Мы же не в девятнадцатом веке живём, ей богу! Что за вздор? Да и как можно сердцу приказать? В одночасье одного разлюбить, а другого полюбить…
– Я полностью разделяю ваше недоумение. Но в случае, если бы такой мужчина выбрал себе в избранницы, как вы выразились, простолюдинку, ему было бы легче взять ответственность за неё. Ведь у него уже есть всё для… – Александр замялся, подбирая слова.
– У такого мужчины, хотите сказать, богатое приданое? – с улыбкой отозвался старичок.
– Именно, - с благодарностью ответил мужчина. - А у меня… его нет. И никогда не будет. У моих родителей ещё восемь таких же «завидных» женихов и невест… А моя Тамара привыкла к совершенно другой жизни в доме отца, как бы не были сильны её чувства ко мне, я вижу, что ей многого не достаёт для отрадного существования. Ей даже пришлось найти работёнку, чтобы мы могли оплачивать комнатушку в коммунальной квартире, ведь у меня не всегда водятся хорошие деньги. А одной любовью… сыт, увы, не будешь.
– А она лично вам говорила, что ей не угодна такая жизнь?
– Нет. Но я вижу, как ей тяжело даётся такая жизнь... Мы живём в шумной коммунальной квартире, где яблоку негде упасть! И вся жизнь проходит на глазах у других. Как на сцене, ей-богу. Я то привыкший, да и мне в радость иметь крышу над головой, но Томочке там тесно и непривычно. Ей приходится ездить на другой конец города, чтобы работать учительницей литературы в школе... А учителям нынче платят копейки, они беднее тех же колхозников. Хорошо, что не продуктами зарплату выдают, как раньше. А мне бы и хотелось найти хлебную работу, чтобы снять комнату побольше где-нибудь на окраине. Я мечтаю купить ей свадебное платье, которое она хочет, водить её по ресторанам, покупать ей любимые духи. А сейчас мы на даже на новый утюг накопить не можем, чего уж там. Жить хочется, как все советские люди, вы знаете… А я умею только петь. А толку? Я без роду, без племени… Кто сейчас обратит на меня внимание? Меня возьмут только на стройку, на местный завод или фабрику разнорабочим. А может быть, поднимать целину в отдалённые края? Хоть это почётно, знаете ли… Но платить там будут столько, сколько я заслужил. А много ли заслужил цыган?
– Послушайте, Москва не сразу строилась! И не все мигом становились знаменитыми певцами или композиторами. Талантом ещё необходимо разумно распорядиться. Но в вашем случае, я уверен, что успех не за горами. Если вы сейчас сдадитесь, то… проиграете. Такова жизнь: либо ты её, либо она тебя! Хотя и не спорю, что для кого-то это тяжёлое испытание. Безденежье, лишения, голод, коммуналка… Но настоящая любовь вытерпит всё, поверьте! Если бы она вас не любила, давно бы упорхнула от вас обратно в родительское гнездо. Но она остаётся рядом с вами. А это о многом говорит!
– Понимаю, о чём вы говорите… И вы во многом правы. Вы старше меня, опытнее и мудрее. Я бы хотел прислушаться к вашему совету… Но я чувствую, что рядом со мной она словно не может до конца расправить свои крылья. А я хочу дать ей свободу… Даже если придётся пожертвовать своей любовью.
– Знаете, мне что-то подсказывает, что она была несвободной как раз-таки в своей семье. Да, она жила сытно, красиво и беззаботно. Но она жила в позолоченной клетке. А рядом с вами она, наконец, поняла, что такое есть истинная свобода. Свобода выбора, свобода чувств. С этим она явно была знакома только по девичьим книжкам или по кинолентам… И явно об этом мечтала.
За окошком стремительно стемнело, и в купе тихонько проник ещё один безмолвный попутчик – голубоватый мрак. Лики мужчины и старичка изредка освещали лишь бегущие вдоль железной дороги фонари, чай давно остыл, а столик так и остался полным нетронутой еды. Никто из них не хотел зажигать свет в купе и выгонять из него «мрачного безбилетника». С ним было гораздо уютнее вести откровенные беседы по душам, он словно поглощал все смущения, предрассудки, страх и стыд. Вот она, истинная магия поезда: кто-то в нём не стыдился хаять суровую политику Сталина, но про своего тестя, однако, не смел отзываться плохо. А кто-то щедро угощал и щедро сыпал советами.
Лишь спустя некоторое время, когда к ним постучалась симпатичная проводница, дабы поинтересоваться наличием постельного белья, Серафим Михайлович решил выйти покурить в тамбур и позвал Александра с собой. Тот сразу согласился. После столь душещипательного разговора ему нестерпимо хотелось курить.
– Знаете, я был так удивлён, когда получил телеграмму от этой женщины… – вкрадчиво начал Саша, глубоко затянувшись свежей папиросой. Голова сразу приятно потяжелела, а напряжённое тело из оловянного солдатика незаметно превратилось в тряпичную куклу.
– А что за женщина, позвольте узнать?
– Лично я её не знаю. Но она знакома с батюшкой моей Томы, вот что занимательно.
– А как вы об этом узнали?
– В телеграмме говорилось так: «Александр, приглашаю вас в Симферополь для серьёзного разговора. Это касается ваших будущих тестя и жены. Приезжайте один, билеты в один конец я оплачу. И прошу, никому не сообщайте о поездке. Встречу вас лично. Я готова вам помочь в сближении с тестем. Обо всём расскажу при встрече. Надеюсь на ваше благоразумие».
– Как любопытно! – воскликнул Серафим Михайлович. – И вы даже не можете предполагать, кто это может быть?
– Сначала я подумал на тётушку моей невесты. Но мы с ней имеем связь, она часто звонит Томе на работу, шлёт письма, телеграммы и посылки. И адрес наш ей знаком. Она приняла меня в семью. Но анонимную телеграмму отправил точно кто-то другой… Да и зачем тётушке тайно мне писать, если можно просто связаться напрямую?
– Ваша невеста тоже не знает о целях вашей поездки?
– Нет, я решил ей не говорить, дабы не волновать. Да и она бы меня не отпустила одного. Но я воспринял это как возможность! Если эта женщина мне действительно сможет помочь, я буду только рад.
– Но кто знает, какие цели она преследует, вы об этом не подумали, друг мой? Кто захочет помогать в таком непростом деле просто так? По доброте душевной? Тем более женщина… Чёрт его знает, что у них на уме! И даже чёрт порой ошибается.
– Знаете, я долго не сомневался. Если она посвящена в дела семьи, то далеко не чужая для… моего будущего тестя. Значит, некая приближённая особа. А вот зачем ей мне помогать… Я и сам, право, не знаю! Но мне очень любопытно узнать. А главное, мне важно заполучить доверие отца моей Томы. И я сделаю всё для этого.
– В таком случае, я желаю вам только удачи, друг мой! И попутного ветра в ваши паруса! А, главное, не дайте себя обмануть. Держите ухо востро!
После перекура попутчики, покачиваясь, направились в своё купе, в котором их ждали полки, заправленные накрахмаленным постельным бельём. Время близилось к десяти часам вечера, и Серафима Михайловича уже изрядно клонило в сон. Он пожелал Саше доброй ночи и, не раздеваясь, прилёг на подушку, тут же сладко задремав. Александру же предстояла высадка ранним утром, и он боялся проспать заветную станцию. Перед тем, как отправиться к проводнице с просьбой разбудить его, он долго сидел на своей полке, глубоко задумавшись. Недавний разговор с пожилым мужчиной вдохновил его и вселил надежду на счастливое разрешение давнего семейного конфликта. Но его атаковали и сомнения: кто же эта загадочная особа, которая пригласила его в Симферополь? Она оплатила ему дорогостоящее купе и пообещала «сблизить с тестем». Для Александра это был прекрасный шанс, и он ухватился за него обеими руками. А теперь, когда эмоции схлынули и голова стала холодной и ясной, он не понимал, что, а главное, кто его ждёт. И вся эта авантюра показалось ему чей-то злобной шуткой, вымыслом и самообманом… На секунду ему стало страшно и совестно, что пришлось обмануть любимую Тамару. Он сказал ей, что едет на благотворительные гастроли со своим ансамблем в детский санаторий, и она, как истинная приверженка бескорыстной доброты, отпустила его без сомнений. А теперь он сидел, кусая губы и сжимая кулаки, одолеваемый угрызениями совести и тревожными мыслями.
– Прости меня, моя милая Томочка… Прости, что пришлось так нагло солгать, – шептал он, мрачно глядя исподлобья на серебряные бусы, собранные из недавнего ноябрьского дождя на окошке. – Я обязательно оправдаю твои ожидания. И докажу твоему отцу, что стою его уважения. И в обиду нас не дам. Никому! Ты только дождись меня. Дождись…
Больше всего на свете Александр хотел оказаться рядом с Томой, чтобы целовать её нежные горячие руки, усыпанные родинками. В глубине души он боялся не вернуться из Симферополя, предполагая самое страшное. Из рассказов Томы он многое узнал о её отце и прекрасно осознавал, что тот может поступиться своими благородными принципами ради того, чтобы вернуть себе дочь. Но его сердце хоть и билось в страхе, но всё же надеялось на то, что батюшка его любимой не способен на подлость или жестокость. Ему хотелось в это верить, как ребёнок верит в чудо в Рождественскую ночь.
Когда веки совсем отяжелели, а в глазах начали расплываться дождевые бусы, Александр встряхнул головой, в попытках избавиться от дрёмы и наваждения. Рывком он встал и вышел из купе, направившись на поиски проводницы. До встречи с анонимным «доброжелателем» оставалось не более шести часов. Хотя и нешуточное волнение уже заключило его в свои стальные оковы, ему страшно хотелось забыться. Хотя бы во сне.
***
Симферополь, 10 ноября 1957 года
Герман долго переминался с ноги на ногу, прежде чем войти в приёмную заведующего кафедрой журналистики. После того, что он узнал о профессоре от Котовой, его частенько одолевали мысли: «А точно ли она имела ввиду Дубровина?» Нет, юноша вовсе не поменял своего уважительного отношения к мужчине и его персоне, но облик Чехова казался ему теперь более загадочным, нежели ранее. И Герману нестерпимо захотелось разгадать его, но не сейчас… Все его мысли были о матушке и о её здоровье. Недавний ночной кошмар ещё внушал ему панический ужас и страх, а запах гари будто преследовал по пятам, как он ни старался от него избавиться с помощью отцовского одеколона.
Стоя перед высокой дубовой дверью с резьбой, Гера занёс кулак, но решил прислушаться... Но не услышал ничего, кроме бешеного стука своего сердца.
– Поплавский, неужто выздоровел? Чего тебе? – Катерина не переставая клацала по клавишам печатной машинки.
– А Платон Николаевич у себя? – робко спросил Гера, с опаской глядя в сторону его кабинета.
– Нет, он уехал на партийное собрание. А зачем он тебе понадобился?
– Ну… Я хотел уточнить кое-что по его предмету перед экзаменационной неделей… – соврал юноша. – А сегодня его не будет?
– Послушай, ты можешь об этом узнать в любое время, после занятий, например. – Катерина строго глянула на племянника, разминая уставшие пальцы. – Необязательно беспокоить его по таким… пустякам. Да и ты не староста своей группы, чтобы заниматься такими вопросами.
Герман переводил растерянный взгляд с Катерины на кабинет Чехова. Он был вынужден безмолвно согласиться с тётушкой. Но в глубине души он был рад, что ему не придётся начинать серьёзный разговор с Чеховым сию минуту. Герман был всё ещё слаб: физически и эмоционально.
– Тогда не смею больше тебя отвлекать…
– Вас! – деловито поправила его Катерина и принялась за своё рутинное занятие. – В стенах института я для тебя Екатерина Львовна.
Герману ничего не оставалось, как снова согласиться с этим замечанием. Но как только за ним закрылась дверь, женщина выжидающе посмотрела ему вслед и прикусила нижнюю губу вишневого цвета. Казалось, на её строгом красивом лице мелькнуло сожаление. Или раскаяние…
– А ты артистка! – с восхищением воскликнул Чехов, выйдя из своего кабинета. – Но, полноте, милая, будь с ним помягче…
– Ты обещал мне объяснить, что происходит, если я тебе подыграю, – пропустив хвалебные речи, сказала Катерина. – Почему ты не хочешь встречаться с моим племянником лицом к лицу?
– Не время, – кротко ответил мужчина и вмиг посерьёзнел. – Ещё не время.
– Неужели ты пообещал ему то, что не можешь выполнить? Он же мечтает, между прочим, о том, что напечатают одну из его статей в местной газете… И ты можешь этому поспособствовать.
– В этом городе нет ничего, что мне не подвластно, и ты об этом прекрасно знаешь. – В голосе и походке Чехова читались властолюбие и даже нотки гордыни.
– Тогда в чём же дело?
– Ты мне лучше скажи… –профессор предпринял попытку смягчить громогласный тон, но у него вышел лишь зловещий шёпот: – Ты говорила ему об Ирине Котовой?
– О ком, о ком?
– Не придуривайся… Это ты ему дала её адрес, верно? – Чехов сложил руки на груди и сердито взглянул на Катерину, взметнув бровь. Но на лице женщины не дрогнул ни единый мускул. Она лишь повела острыми плечами и, сомкнув губы, отрицательно закачала головой.
– Господь с тобой, Платон! Это подсудное дело! Я не хочу лишиться своего места, да и за годы службы я ни разу не оступилась! И не собираюсь…
– Катенька, ты же знаешь, я ругать не буду, а уж тем более выносить сей опрометчивый поступок за пределы твоего кабинета… – елейным голосом продолжил Чехов, наклонившись к женщине. – Но если ты впредь захочешь что-то передать своему племяннику – о наших кадрах или о бывших студентах, то обсуди сначала это намерение со мной, договорились?
– Платон, я тебя не понимаю! – Катерина отодвинулась от мужчины и уронила очки на грудь. – А что, по-твоему, я должна ему передавать, да и зачем? И за кого ты меня принимаешь? Я умею держать язык за зубами и не обсуждаю ни с кем того, чего им знать не следует!
– Катерина, я знаю, что ты ценнейший сотрудник и никогда так не поступила! Но он твой племянник, а это…
– И что?! Да хоть сын родной! Это не развязывает руки и не даёт мне права разглашать личные дела налево и направо! – вскрикнула Катерина Львовна и вскочила со своего места, порываясь уйти, но резко развернулась. – Знаешь, что? Если ты во мне усомнился, то в таком случае тебе легче меня уволить!
– Екатерина Львовна, это крайняя мера, – спокойно и хладнокровно ответил профессор и отошёл от разъярённой женщины к окну. – Никто вас за руку не ловил, а это значит, что у меня нет никаких доказательств вашей вины. Поэтому мне ничего не остаётся, как поверить вам на слово.
Когда за Катериной шумно захлопнулась дверь, Чехов зашёл в свой кабинет и запер дверь. Он подошёл к окну почти вплотную и, открыв форточку, закурил.
– Почему мне не сообщил о том, что она творит за моей спиной?
«Хозяин, у меня нет ушей повсюду! До меня доносятся лишь обрывки фраз! Если бы я что-то услышал, то доложил бы вам!»
– В таком случае, мой дорогой, ты переезжаешь.
«Как вам будет угодно! Только не ставьте меня на подоконник, прошу, там очень зябко, да и этот глазастый дурень заметит меня сразу!»
***
Симферополь, 30 ноября 1957 года
Жизнь размеренно текла своим чередом, и Герман самоотверженно погрузился в учёбу с головой. Днём в институте он был сосредоточенным и серьёзным, лишь изредка отвлекался на дружеские беседы с Любашей, когда та подсаживалась к нему на больших переменах или в буфете. Порой к ним присоединялся дотошный Лёня, который потом выведывал у Геры все подробности их разговоров. Но Герман ничем не мог порадовать своего товарища, потому что Люба чаще всего обсуждала либо прошедшие занятия и просила конспекты (Герман славился у ребят быстрым и точным конспектированием), либо правки по стенгазете, которая должна была выйти со дня на день. Любаша искренне доверяла прозаическому таланту и чутью юноши. А вечерами Герман встречался с Олесей в публичной библиотеке, дабы заниматься с ней подготовкой к поступлению.
Со временем Гера научился контролировать свои чувства и эмоции, научился прятать свой щенячий восторг при каждой новой встрече, а днём предвкушение вечера не так томило его душу. «Всё-таки лучшее лекарство от скуки и тоски – это учёба и знания!» – воодушевленно написал он в своем дневнике. Герман стал более уверенно себя чувствовать в компании Олеси: он расправил свои плечи, приосанился и стал громче смеяться. А в походке его угадывались самодисциплина и спокойствие. И казалось, юноша окончательно отвоевал прежнего себя у доселе неведомых ему чувств и диковинных состояний ума и тела… Раньше он ждал её на ступеньках библиотеки, нетерпеливо перескакивая с одной на другую, как пугливая птаха, и вытягивал шею, высматривая её яркую беретку в россыпи серых и невзрачных голов. А сейчас он ждёт её внутри на скамеечке у гардероба, склонив голову над учебником философии или последним томиком Карамзина. Правда, Олеся сама его об том попросила, дабы он не мёрз, потому что девушка частенько запаздывала после смены в цветочной лавке.
В этом году конец ноября выдался промозглым и дождливым, темнело неожиданно рано, и в сумерках уже не было заметно ни яркой беретки, ни цветастого шарфика. Но приближение Олеси Герман чувствовал на каком-то интуитивном уровне, будто всё внутри начинало трепетать. Как перед июльским ливнем: мы не видим и не ощущаем его, но в воздухе всё клокочет от предвкушения: краски вокруг сгущаются, а воздух становится разреженным, плотным и пахучим. Герман всегда отрывался от чтения и с томительным ожиданием смотрел на дверь. Через несколько минут Олеся непременно появлялась. «Что за пространственная магия?» Растрёпанная, улыбчивая, шумная и… ароматная. До Германа доносились приятные древесные сладковато-цветочные нотки, и он наивно считал, что это не женский парфюм, а запах цветов, среди которых она трудилась весь день. И он встречал её скромной улыбкой, хотя внутри всё ликовало и щебетало; привычным движением откладывал книгу на скамейку и брал её сумку, чтобы она могла скинуть тяжёлое пальто.
– Как вы добрались сегодня? – по обыкновению спрашивал он.
– В трамвае такая толкучка была, еле выбралась! Как селёдки в банке, ей-богу! И снова одни и те же лица, представляете? Уже скоро здороваться будем! – по-детски жаловалась Олеся, наспех расстёгивая пальто. И Герман подмечал её красные от холода пальчики и ловил себя на мысли, что ему бы так хотелось согреть эти маленькие ладони в своих. Но он быстро давал себе мысленную оплеуху.
– Вы к нам как на службу! – с мягкой улыбкой говорила старенькая гардеробщица, отдавая номерки. И Олеся с Германом тайком переглядывались и смеялись, зная, что в следующий момент она произнесет: – А вот в мои годы мы тоже бегали в библиотеку, потому что в парках уже знобко бывало, толком не посидишь, а в ресторан или столовую – дорого! Вы, ребятки, молодцы!
Зачастую Герман с Олесей уединялись за последним столом у окна, чтобы никому не мешать. Когда Олеся уставала от потоков философии или истории, они тихонько обсуждали прочитанные книги. Порой девушка с особым интересом спрашивала Германа о прошедшем дне и занятиях, частенько листала его учебные тетради и восхищалась его каллиграфическим почерком.
– Как вам удаётся так красиво и разборчиво писать? А я не могу похвастаться своим почерком…
– Ну что вы, мне понравился ваш почерк. Он… весьма уточенный и старательный. Но у вас есть почти целый год, чтобы отточить мастерство письма.
– Спасибо за похвалу, но я боюсь, что моему почерку уже не помочь… – Олеся отстранилась от Германа и задумчиво посмотрела на него. – В вас вообще есть недостатки?
– Конечно, как и в каждом человеке, – смутился юноша и опустил глаза.
– Мы с вами хоть и недавно знакомы, но я пока не встречала настолько… – Олеся замялась, подбирая слова. – Правильного человека. Вы – пример для подражания. Для меня уж точно.
– Не хочу вас огорчать, но это не так, – поспешил её разубедить юноша. – Если бы я был таким, каким вы меня считаете, то ко мне бы тянулись люди. А сейчас, скорее, наоборот.
– Но почему? – встрепенулась Олеся. – В вас столько положительных качеств! Значит, вас ещё не рассмотрели! И я считаю это их упущением, а не вашим.
«Она говорит мне об этом, чтобы польстить и понравиться, или на самом деле так считает?» – подумал Герман. Олеся, подметив его раздумья, тут же взволнованно затараторила:
– Вы не подумайте, что я говорю это вам из корысти!
– Кажется, только что вы прочитали мои мысли, – с улыбкой ответил Герман и, поймав её растерянный взгляд, тихонько рассмеялся.
– Что ж, пускай это будет ещё одним моим положительным качеством! – горделиво заключила Олеся и улыбнулась Герману в ответ. Почуяв неладное, он сказал:
– Давайте вернёмся к диалектике природы Энгельса[4]?
«Как бы я хотел сказать ей, что для меня она идеальна…» – пронеслось в голове у Германа. И внутри себя он просиял.
***
Симферополь, 1 декабря 1957 года
Сегодня было сонное воскресенье, и Герман сидел за столом в комнате общежития за учебниками и конспектами. Лёня устроился на своей кровати, прислонившись к стене, и бренчал на гитаре, которую взял у соседей. Лицо его выражало сосредоточенность и одновременно с этим некую покорную обречённость и даже безмятежность. Губы его тихонько нашёптывали что-то, а взгляд был устремлён в пустоту.
– Журавль, вот как ты думаешь, если я уйду из института, она это заметит?
– Кто? – Герман не отрывался от учебника.
– Любовь.
Гера закатил глаза и со вздохом развернулся к соседу.
– Конечно, заметит. Кто же будет к нам подкрадываться на переменах и в буфете? Да и тебя скорее выпрут из института, если не возьмёшься за ум и не перестанешь страдать.
Лёня ничего не ответил, он лишь отложил гитару в сторону и опустил увесистый подбородок на колено. Его лицо не выражало по-прежнему ничего явного. Герман продолжил:
– Между прочим, учёба – лучшее лекарство от подобных злоключений! Тебе нужно отвлечься! И найти хоть какое-то занятие себе.
– Я футболом отвлекаюсь, закалкой и бегом. Знаешь, как помогает? А потом возвращаюсь в институт, вижу её и всё прахом идёт… А может Лошагина выпрут, а? А меня оставят? – На лице Леонида блеснула слабая надежда.
– С глаз долой, из сердца вон?
– Ты сам -то в это веришь? – Лёня мрачно глянул на Германа.
– Куда уж мне до вас, до суровых атлетов! Лошагин хоть и не умнее тебя, но весьма хитрее и изворотливее, он найдёт шанс сдать первую сессию. С помощью Л… – Герман осёкся и с опаской взглянул на Лёню: – Не вешай нос, Лёнь!
– Тебе то легко говорить… Ты хоть раз влюблялся? Вот так, напропалую.
– Ну-у-у… – Гера почесал затылок, выбирая меж ложью во благо и святой истиной. – Да, было дело.
– И что, это было взаимно?
– Лёнь, это было в школьные годы, я уж и не помню.
– Ха, серьёзно? – Казалось, Лёня оживился. – Тебе сколько сейчас годков- то? И с тех пор ни в кого не втрескался?
Германа кольнуло ядовитое опасение: «Я не хочу, чтобы меня считали… другим. Чудиком или того хуже – изгоем». И он пошёл на риск:
– Есть одна девушка… Сейчас. Но я…
– Да ладно, и ты молчал?! – Леонид засиял и, победно хлопнув в ладоши, подсел ближе к растерянному Герману. – Рассказывай, кто она! Я её знаю? Она из нашего потока? Ну она хоть из института?
– Лёнь, попридержи коней! – Герман мгновенно пожалел о содеянном, начав недовольно ёрзать на стуле. – Я ничего тебе не скажу, и вообще, мне нужно заниматься, завтра важный доклад по диалектике…
– Обожди, окаянный! – Лёня схватил его за предплечье и развернул к себе, а сам взял стул и уселся рядом с испуганным юношей. – А мы всем общежитием гадаем: целованный ты или нет!
– Что? – Герман нахмурился.
Лёня сглотнул и вмиг посерьёзнел.
– Ты это… не подумай ничего такого, мы просто…
– И давно вы обсуждаете мою персону? И в каком ключе, позволь узнать? – с напором спросил Гера и подался вперёд. Леонид отпрянул.
– Да никого мы не обсуждаем! Просто ты с самого первого дня сидишь и зубришь в комнате, тебя ж никуда не вытащить! И мы тебя ни с кем из института не видали, даже с однокурсниками. А уж с девушками так подавно…
Герман, отвернувшись, бросил ручку на стол. Лёня поспешил успокоить юношу:
– Ты не подумай ничего плохого, мы ж тебя не осуждали и не обзывали за спиной! Я бы никому не позволил, ты же знаешь, ну? Я за тебя горой!
– Знаешь ли, досадно осознавать, что о тебе судачат за спиной и пытаются залезть в душу так беспардонно, – после минуты молчания ответил Герман, не поворачиваясь к Леониду. – Хоть раз подошли бы ко мне и задали интересующий вопрос, я бы ответил. И то, что я нелюдим, уж извините, не моя вина. И я в институт учиться поступал, мне дружбу некогда заводить…
Лёня молча и растерянно слушал, потупив взор. Казалось, он и сам пожалел, что начал этот щекотливый разговор.
– Ты не думай, ещё раз говорю… Если бы я что-то плохое услышал о тебе, я бы сразу всех на место поставил!
– Спасибо, – сухо обронил Герман и добавил: – Только сейчас не лезь ко мне, я позаниматься хочу.
Лёня направился к двери, но раскрыв её, остановился и бросил виноватый взгляд на Германа.
Как только за соседом захлопнулась дверь, юноша отложил конспекты и взялся за свой дневник: «Где я мог допустить оплошность? Почему я стал объектом насмешек и горячих споров? Но стоит справедливо заметить, что я никогда не стремился стать частью коллектива, как бы мне этого ни хотелось. Я сам виноват, потому что не искал ключиков к замочкам. Моя нелюдимость, природная застенчивость и страх непринятия и отвержения сыграли свою роль… Я боялся и стал-таки белой вороной. Хотя кому я лгу? Я самоотверженно был к этому готов. С самого своего рождения. Но всё равно, даже допуская такой исход, я не был готов столкнуться с правдой лицом к лицу. Это больно… И как же мне теперь поступать? Вести себя как и прежде: отстранённо и даже отчуждённо? Или же сделать первый шаг навстречу людям?»
Перелистывая тетрадь, Герман наткнулся на короткую запись вверху следующей страницы: «Лавандовый переулок, дом пять. Отдать посылку лично в руки, вернуть часы, увидеть Катюшку». В его памяти яркой вспышкой отразился тот день, когда они с Олесей сидели на лавочке в парке, и за спиной он услышал это послание от дерева. Но от какого именно дерева? Гера кинул беглый взгляд на часы и в спешке засобирался. «Я должен спешить, иначе могу опоздать, уже декабрь… Оно может впасть в спячку!»
В коридоре Гера наткнулся на курящего Леонида.
– Журавль, места себе не нахожу, ну прости меня дурака, ляпнул не подумав!
– Лёнь, я спешу! Давай потом, а? Я на тебя не в обиде!
– Не врёшь? – заулыбался Леонид. Гера торопливо кивнул. – Тогда давай хоть руки друг другу пожмём? Мир?
Герман остановился с недовольным видом, но руку протянул.
– А ты это… на свиданку спешишь, да?
Гера строго глянул на соседа, и тот стушевался:
– Прости, прости, не лезу! Тебя хоть ждать сегодня?
Герман махнул рукой и скрылся за поворотом.
***
В парке уже сгущались сумерки, когда юноша всё-таки отыскал ту самую лавочку. За ней клонил поредевшею крону к земле старый ясень, которого в прошлый раз Гера не заметил. Он присел на лавочку и заговорил с ним первый:
– Здравствуй! Кто живёт в Лавандовом переулке в пятом доме?
Ответа не последовало. Вокруг неспешно прогуливались люди, сновала детвора, а на соседних лавочках мирно устроились влюблённые пары. Герман понимал, что очень рискует, если подойдёт к ясеню вплотную и заговорит с ним. Воскресным вечером здесь слишком много народу, но деревце могло и впасть в спячку, хотя в начале декабря на город не упало ни единой снежинки, а в прохладном воздухе ещё пахло осенью. Юноша посидел немного, озираясь по сторонам. Казалось, никому не было дела до одинокого сидящего паренька, закутанного в пёстрый вязаный шарф. «Точно, шарф!» Герман встал и натянул шарфик себе на лицо, почти до носа, чтобы прикрыть губы. Он медленно подошёл к ясеню и прислонился к шершавому стволу плечом, устремив свой взгляд вдаль. Юноша повторил свой вопрос и прислушался. «Неужели я опоздал?» – с сожалением подумал он. Но тут до него донеслось тихое, но отчётливое:
«Домик с деревянной кровлей и покосившейся рамой…»
– Кто живёт в том доме? И что я должен передать?
«Передать посылку лично в руки, вернуть часы, увидеть Катюшку…»
– Но я всё это слышал… Ты можешь ответить мне?
Но ясень замолчал. Юноша не стал ни о чём спрашивать дерево: он знал, что ответа не получит. Голос ясеня показался Герману странным. Он был… очеловеченным. В нём слышались испуг, отчаянье и суетливость, будто он куда-то торопится. «Но кто, он?» Деревьям чужды чувства и мытарства людей, и им больше некуда спешить. Их корни намертво вросли в землю, а ствол с места сможет сдвинуть лишь сильный порыв ветра. Их голоса не похожи на человеческие, но при этом они ничуть не безжизненные, а скорее наоборот: тягучие, внятные, звонкие и сильные. И они всегда влекли Германа своим удивительным тембром, он всегда мог отличить человеческий голос от зова дерева или цветка.
Гера не мог остаться равнодушным к ясеню и наплевать на его просьбы. Хоть это были вовсе и не просьбы, а скорее желания. Причём желания человеческие: передать, вернуть, увидеть. Юноша не знал, что ждёт его по адресу, продиктованному ясенем, но чувствовал, что нужно спешить.
В нужный переулок Герман прибыл уже в темноте. Он никогда не бывал прежде в этой части города. Вокруг было пустынно и безлюдно. Герман прошёл через большую промышленную зону в надежде наткнуться на позднего прохожего, дабы спросить время. Но по дороге он встретил лишь стаю бездомных собак. «Что ж, перспективное начало путешествия», – с опаской подумал он и двинулся дальше. По левую сторону от него гудели проезжающие машины и автобусы, а по правую растворялись в сумеречной мгле безликие заводские постройки из серого кирпича. Редкие фонари почти не освещали путь, и только свет фар от проезжающих машин слепил глаза. Спустя какое-то время Герман понял, что заблудился: спросить дорогу было не у кого, а на кирпичных низеньких строениях не было ни единого номера.
Миновав промышленную зону, Гера вышел на лесистую местность. Он уже пожалел, что поехал так поздно на окраину города, ведь он даже не знал, встретят ли его там. «Нужно возвращаться и начинать путь сначала», – подумал юноша. Но совесть не дала бы ему покоя, если бы он промедлил ещё день.
– Кто знает, сколько лет он томится там, в ожидании того, кто услышит его? – размышлял Гера вслух, потирая ледяные ладони, – Может быть, даже десятилетия! А я единственный, кто хоть как-то может ему помочь! Надо спешить… Иначе не успею в общежитие.
Он быстро вернулся к постройкам и пошёл на тусклый свет дворового фонаря. Подойдя к двухэтажному зданию без вывесок. он остановился перед высокими воротами, из-за которых пробивался свет. Заглянув в небольшую щель, Герман увидел во дворе курящих мужчин. На свой страх и риск он постучался в ворота, и тут же оглушительный злобный лай нарушил вечернюю тишину. Из-за ворот послышался раскатистый бас:
– А ну-ка фу, на место! Ишь, расшумелся…
Герман нервно сглотнул и испуганно отошёл от ворот на несколько безопасных шагов.
– Ты чего, заблудился, что ли? – недружелюбно поинтересовался незнакомец в фуфайке и старых кирзачах. В уголке рта густо дымилась папироса. Мужчина прищурился, осматривая Германа с головы до пят.
– Здравствуйте! Извините, а как я могу выйти на Лавандовый переулок?
Мужчина указал рукой в сторону небольшой деревеньки неподалёку. Его фуфайка распахнулась, и Гера заметил рукоятку складного ножа, торчащую из кармана ватных штанов.
Юноша быстро кивнул и, наспех поблагодарив, развернулся.
– Постой! А ты чей будешь?
– Я не местный, живу недалеко от центра… – как можно спокойнее ответил Гера.
– А тут тогда чего забыл, коли не местный? – Мужичок продолжал оценивающе смотреть на Геру, чем вызывал неподдельное беспокойство.
– Я… я просто… к родственникам в гости приехал! А автобус не там высадил! Наверное, свою остановку проехал. – Гера пожал плечами и сделал слабую попытку улыбнуться. Но всё нутро подсказывало ему, что мужчину он не провёл.
– А ну, подь сюды! – Мужичок махнул рукой и вынул папиросу, смачно сплюнув. – Иди, иди, я не обижу.
– Я лучше пойду, извините! Я собак боюсь. Спасибо вам за помощь!
– Эх, молодёжь! Как с вами гутарить, не пойму! – усмехнулся мужичок и, взяв увесистый камень с земли, подпёр ворота. Герман, стоя как вкопанный, наблюдал за действия незнакомца. «Бежать прямо сейчас? Или обороняться?» Но он не умел ни того ни другого. И ему приходилось только молиться.
– У тебя нос уже синий и руки, вон, все краснючие! – по-отечески произнёс мужичок на ходу, – А родня могла бы и встретить тебя! В такое время тут шастать нехорошо, разные случаи бывали. На хоть, перчатки одень! И ступай, пока мы фонарь не погасили и собак не спустили.
Герман стоял и смотрел в спину уходящему незнакомцу, держа в руках старенькие рабочие перчатки. Как только за ним со скрипом затворились ворота, он очнулся и тихонько произнёс:
– Спасибо... Видимо, я плохо разбираюсь в людях.
Всю дорогу до нужного переулка Герман провёл в раздумьях. Перчатки хоть и оказались ему велики, но зато грели руки. А душу грела мысль о том, что он делает всё не зря. Пройдя уже несколько жилых домиков, в которых тускло горел свет керосиновых ламп, Гера увидел вдалеке дом, напомнивший ему тот, что описал ясень. Описание это было весьма скудным и размытым, но Гера узнал этот дом по старой деревянной кровле и покосившимся оконным рамам. Он подошёл поближе и по заросшей траве вокруг дома да упавшему забору с ужасом понял, что дом этот заброшенный. «Нельзя отчаиваться, а вдруг я ошибся?» Гера огляделся и увидел через два дома сидящего на скамейке у забора старичка. Он держал в руках дымящуюся папиросу и, казалось, дремал.
– Прошу прощения, а это пятый дом? – обратился юноша к старичку и тот встрепенулся. Пепел с истлевшей папиросы щедро осыпался вниз и испачкал ему колени.
– А? Какой? Да-а-а, пятый, пятый… А он зачем тебе? Там с войны уже, считай, никто не живёт…
– Как же так? – Герман обессиленно опустился на холодную скамейку рядом со стариком. – Я такой путь проделал, чтобы… А вы не знаете, кто там жил?
– Послушай, пойдём в дом? У меня там похлёбка стынет, заодно и поужинаю не в одиночестве.
Герман согласился: ему страстно хотелось узнать тайну пятого дома по Лавандовому переулку. Правда, от похлёбки Гера отказался, но горячий чай с сушками выпил с большой охотой, не снимая перчаток. В тесном кирпичном домике было холоднее, чем на улице, и юноша сел подальше от окошка и поближе к печке, которую гостеприимный дедушка растопил, подметив, его гость изрядно замёрз. Да и охапка дров уже лежала у печи, будто хозяин дома ждал прихода позднего гостя. И под ровный треск сухих дровишек старичок и начал свой короткий рассказ:
– В доме том Семён с семьёй жил… С женой Галиной и двумя сыновьями: Колей и Саввой. Галя ещё на сносях была. А как война началась, так Сёму сразу и забрали на фронт. Галина с детьми ещё жила какое-то время дома. Но потом как узнали мы, что немец к городу подходит, так Галина поспешно собралась и уехала. Много тогда людей полегло… Она всё правильно сделала, дай Бог, сейчас жива-здорова. Она заезжала сюда, но уже после войны, без детишек. Я помню, спросил её, куда же она уехала, как устроилась… А она только рукой махнула и ответила, что не важно это всё, без Семёна. Он так и не вернулся с фронта. Она ещё какое-то время ждала его дома, жила одна здесь. А потом не выдержала и уехала к детям. Собрала маленький чемоданчик, и след её простыл…
– Погодите, она даже адрес новый не оставила? А если Семён вернулся бы с фронта, а дом пустой… Как бы он нашёл свою семью?
– Она мне сказала тогда, что он приснился ей здесь, дома и сказал, что погиб. Попрощался с ней… Она сначала не поверила, а потом ей похоронка и пришла. Вот так бывает, сынок. Сколько эта проклятая война жизней-то нужных и молодых забрала… Не сосчитать.
Герман сидел ещё несколько минут, растерянный и оглушённый, не зная, что и сказать. «Как же я теперь пойму, что мне нужно сделать, чтобы ему помочь?»
– А вы не знаете, какую посылку он должен был передать? При жизни?
Старичок покачал головой.
– А часы? Не знаете, кому он должен был вернуть часы? – со слабой надеждой спросил Гера.
Старик задумчиво почесал бороду и через время молвил:
– Я знаю только, что у Семёна часы наручные сломались, прямо перед уходом на фронт. Я это точно помню, он мне их ещё приносил, я ж часовщик. Но там механизм уже совсем дохленький был, не смог я ничего сделать. Но на фронт он уходил с другими часами.
– С позаимствованными… – произнёс Герман.
– А? – не расслышал старичок.
– Я говорю, не мог он их у кого-то позаимствовать? – чуть громче спросил Гера.
– А у кого он их… возьмёт? – пожал плечами старик и громко отхлебнул чаю из жестяной кружки. – В те годы часы были такой роскошью, что не у каждого их можно было сыскать! Да и новые он бы не стал себе покупать… Он мужичком бережливым был, одёжку до дыр изнашивал! Но не скажу, чтобы скуп или прижимист - Галюшку свою баловал и сыновей.
Герман задумался о судьбе неизвестного ему Семёна, крепко обхватив ещё тёплую кружку. А старичок открыл засов у печки и подкинул ещё пару поленьев к тлеющим уголькам.
– А не подскажете, который час? – Очнулся Гера от тяжёлых раздумий.
– Поздний, – коротко ответил старик и глянул в окно. – Часов у меня, как видишь нету, но я в это время уже на боковую отправляюсь.
– Извините, мне пора! – вскочил юноша, наспех повязывая шарф.
– Куда тебя черти понесут в такую темень? – поднял руку старик. – Автобусы сейчас уже не ходят, они по воскресеньям рано прекращают сюда ездить. Оставайся у меня! На печке, вон, поспишь. Мне скушно одному-то. А с утра я тебя растолкаю, я ранёхонько поднимаюсь…
– Да… Вы правы. – Герман обессиленно опустился на стул и почувствовал, как ему стало душно. И накатила такая тяжёлая сонливость, что сил сопротивляться ей уже не осталось.
Лёжа на твёрдой жаркой печке, Гера предался привычным вечерним мыслям: «Вот это вечерок был… Суматошный. Надеюсь, Лёня меня не ждёт. Хотя он наверняка уже всем растрепал, что я на свидании. Любопытно, а как там Олеся? Как у неё продвигаются дела с Капитаном Грантом? Не слишком ли занудно для её пытливой женской натуры? Наверняка не так, как история начала Римской империи…»
Герман и сам не заметил, как погрузился в вязкую и приятную дремоту. Думая об Олесе перед сном, он, сам того не осознавая предаётся сладкой неге, а ощущение уюта окутывает его с головой, и спится куда крепче. Но в ту ночь сны его были весьма тревожны…
– Просыпайся, я к тебе пришёл, – раздался строгий мужской голос, и Герман вздрогнул, разлепив глаза.
– Кто ты? – испуганно прошептал он, приподнимаясь с печки. В полумраке он силился разглядеть ночного гостя, но смог увидеть лишь едва различимый силуэт: это был рослый мужчина в полевой фуражке.
– Я Семён. Ты меня искал? Сядь. Поговорим.
– Не может быть, но… Как вы меня нашли?
– Я уже давно никого не ищу. Но я всегда здесь, – сухо отвечал мужчина.
– Вы? То есть ваша душа? А кто тогда там, в ясене?
– Не могу дать ответ на этот вопрос, мне не дано это знать…
– А что за набор фраз? Передать посылку лично в руки, вернуть часы и увидеть Катюшку? Кто такая Катя?
– Я повторял эти фразы перед своей смертью. Катюшка – моя единственная дочь. Я её так и не увидел, уходя на войну.
– А как вы… погибли?
– Осколочное проникающее ранение головы с переломами и тяжёлым повреждением мозга. Мне не успели оказать даже первую помощь.
– Ясно… – Герман пытался собраться с мыслями, но ощутил, как его забила мелкая дрожь. Впервые он видел покойника так близко и более того – сидел с ним за одним столом и разговаривал как с живым. Глаза уже привыкли к темноте, а за окном потихоньку светало, и юноша мог разглядеть лицо незнакомца: серьёзное, но очень доброе и как будто умиротворённое, а густые усы над пухлыми губами добавляли ему возраста. На вид ему было не более тридцати лет. Герман набрался смелости и продолжил:
– Скажите, вам было важно при жизни сделать то, что вы перечисляли? Ведь это вас держит здесь?
– Полагаю, что да. Но два дела я уже выполнил: вернул часы и увидел Катюшку.
– Расскажите, как?
– Часы я вернул своему товарищу. Я взял их у него аккурат перед тем, как ушёл на фронт. Его звали Олег, и он отдал мне их как талисман, на удачу. Но не сработали они… Я обещал ему отдать их, как вернусь домой, живым и невредимым. Но меня похоронили вместе с ними. Мы встретились с ним здесь, он умер несколько лет назад. Хотя теперь они ему уж точно не понадобятся. Но я обещал. А обещания я всегда держу крепко.
– А Катюшка?
– Моя Галя потеряла ребёнка спустя пару месяцев после начала войны. Поэтому моя дочка уже ждала меня здесь. И я её, наконец-то, увидел. Хоть и на том свете.
Герман похолодел. Он опустил взгляд, пытаясь подобрать слова.
– Соболезную вам…
– Нам не надо соболезновать, мы уже в этом не нуждаемся.
– Извините, – виновато обронил Герман. – Ну а посылка? Что с ней?
– Посылка была фронтовая, от красноармейцев. Я должен был её передать, но…
Герман почувствовал сильный толчок в плечо и открыл глаза.
– Поднимайся, а то на автобус опоздаешь! Потом другой ждать два часа!
Юноша поморщился и потёр заспанные глаза.
– Такой сон не досмотрел, эх…Дедушка, не могли на минуту позже растолкать, а?
– Садись чай пить! – радостно воскликнул старичок и потёр ладоши. – Сейчас кашка пшённая будет готова! С сахарком да маслицем…
Попивая горячий терпкий чай, Герман спросил:
– А как вас зовут, дедушка?
– Мирон Палыч меня величать. А тебя как звать-то?
– Герман. Я вам вчера даже не представился…– с виноватой улыбкой ответил Гера. – А вы у меня вчера не поинтересовались, зачем мне дом Семёна понадобился?
– А разве это так важно? Да и мне про сына так поговорить охота, память его почтить, вспомнить добрым словцом… Я ж совсем один остался.
– Сына?! – Герман чуть не выронил кружку с кипятком на стол. – Я не знал, что… он сын ваш.
«Вот почему он мне приснился здесь!»
– Сын. Единственный, – с тоской промолвил Мирон Палыч. – Он же вырос в этом доме.
– А почему с вами жена его не общается? Внуки?
– Там долгая история, сынок… Обиделась Галя на меня. Я тебе как-нибудь потом обязательно расскажу! Ты лучше ешь давай и ступай, а то потом не уедешь. Ты где живёшь-то?
Уходя, Герман пообещал добродушному старичку вернуться. Мирон Палыч ещё долго стоял на крыльце, опираясь на деревянный косяк, и смотрел вслед уходящему юноше. Казалось, в тот воскресный вечер он был очень рад незваному гостю. А Герман был рад, что хотя бы немного, но приблизился к разгадке ясеня. Хотя впереди ещё оставалось много вопросов…
[1] Назойливо выпрашивать что-либо; клянчить.
[2] Всесоюзная сельскохозяйственная выставка. До 1959 года такое название носила ВДНХ
[3] Пер. с цыганского: «А голос этот слух ласкал, и самых искушенных баловал!»
[4] Незаконченная работа 1883 года Ф. Энгельса, в которой применяются марксистские идеи, особенно идеи диалектического материализма, к природе.
Рейтинг: 0
145 просмотров
Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!

