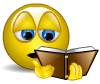Дщери Сиона. Глава сорок пятая
6 августа 2012 -
Денис Маркелов


Глава сорок пятая
Руфина не помнила себя уже почти на три четверти. Она удивлялась всему - дыханию этих ужасных женщин, запахам в этой страшной комнате и собственному позорному бессилию.
Особенно измывалась над ней темноволосая сиделица. Она была готова топтать её эго вновь и вновь, словно злобный петух глупую затурканую наседку. Фантазия этой женщины была на уровне тупой, но неожиданно сильной детсадовки. От этих шуток и приколов к горлу подкатывала тошнота и хотелось одного, скукожиться до размеров молекулы, а ещё лучше - атома.
Смуглое тело Руфины теперь казалось ей самой покрытым тонким слоем жидкого дерьма. Казалось, её опустили с головой в канализацию и теперь заставляли всем демонстрировать этот быстрый, хотя и искусственный загар. Несчастная экс-владычица плакала и привыкала, с трудом привыкала быть чужой игрушкой. Это было не страшно. Просто один спектакль закончился, и начался другой, в котором у неё тоже была главная роль – роль самой лучшей жертвы.
Больше всего Руфина боялась, что её начнут насиловать подручными предметами. Это вполне могло придти в головы этим изуверкам. Для роли псевдофаллоса годился любой круглый в сечении и продолговатый в длину предмет. А у этих уродок совсем не осталось никакой жалости.
Они играли ею, как куклой. Такие голые целлулоидные красавицы в детстве Руфины были отличной забавой для бездомных собак. Потомки тех библейских псов видели в каждой кандидатке в вековечные пупсы потомицу той библейской Иезавели. А сама несчастная Маша или Даша напрасно взывала к любви своих четвероногих мучителей.
Руфина была бы рада стать куклой по-настоящему. Пусть бы ей открутили все четыре конечности, но она бы была в глубоком анабиозе. Она бы ничего не чувствовала, напротив, ей было довольно интересно наблюдать за чужой коварной вознёй с её безгласным и почти уже на ¾ мертвым телом.
Вызовы на допрос ничего не меняли. Руфина тупо разглядывала пальцы на ногах, боясь, что Таловеров поднимется из-за своего стола и словно дворовый хулиган вышибет из-под её измученного седалища и так уже вполне хромоногий стул. Со стены за вчерашней неприкасаемой фараонессой наблюдал сам Феликс Дзержинский. Он походил на посланника Ада- посланника, который только и ждал того момента, когда его измученная душонка выпорхнет из тела подследственной постаревшим и подстреленным голубем.
Стыд давно вытек из этого тела вместе с потом и мочой. Теперь бесстыдство было иного рода. Оно больше не приправлялось гордыней. Напротив, теперь один страх перед неизбежными побоями заставлял Руфину принимать позу аиста и тупо соприкасаться своими онемевшими от стыда ягодицами с неожиданно липкой и вязкой стеной.
Женщинам покоя не давала её холёная кожа. Аромат французский духов испарился, словно трусливый провожатый. Он наверняка наблюдал за её мучениями с безопасного расстояния, поправляя изломанные очки и потирая оскорбленную ланиту.
Руфина не удивилась бы, если бы позабыла бы человеческий язык. Она была рада молчать или просто урчать или лаять. Только бы не думать о себе, как о живом человеке. Она, видимо, что-то сделала слишком неправильно, в чём-то обманула те силы, что так долго берегли её от позора непонятного, и от того ещё более стыдного страдания.
В голове бывшей классной комсоргши роились разные планы. Она намеривалась расписать этой гордячки, словно стену в мужском туалете. Эти картинки должны были поведать миру, что сотворила эта дешёвая мразь.
Руфина понимала, что бесполезно противиться. Её уже осудили заочно, и в голове несчастной тикали уже не часы, а часовой механизм бомбы, готовый расплескать её мозги по стенкам камеры, точно так же, как расплескивают содержимое яйца от перегрева в микроволновке.
Руфина была согласна на всё. На то, что она станет бессловесным автоматом для утёх и посмотрит на мир снизу вверх, как смотрели на неё её послушные рабыни. Теперь было всё равно, всё равно, словно бы все мечты её бабушки воплотились в жизнь.
Наверняка жене какого-нибудь партийного секретаря не приходилось так страдать. Они, конечно, не могли привыкнуть к параше. Но Руфина, Руфина не могла стать здесь первой. Она тупо соглашалась на роль обычной жалкой подстилки.
Никогда раньше она не видела мир в таком позорном для себя ракурсе. Смотреть на всех снизу вверх и не видеть ничего кроме лобковых волос этой безнадежной нацистки было страшнее, чем глотать то, что ей приносили вечером. В это время она была одета в вонючие обноски и походила на затурканую более наглыми подружками пай-девочку впервые оказавшеюся в пионерлагере или в палате детдома.
Руфина вдруг поняла, что игра бесконечна, как бесконечен космос. Что все мы чьи-то куклы, и наши кукловоды тоже куклы, и так всё так бесконечно, что спазм тошноты подступает к горлу. Что и она играла со своими девочками по велению своего кукловода, Что именно он упивался её гордыней и глуповатым восторгом псевдофараонессы. Что теперь он в свою очередь опускает её, заставляя проходить то, что проходили её послушные наложницы и чтицы…
Теперь она уже ни на что не надеялась. Так, наверняка чувствует себя обмочившаяся и потерявшая ключи от квартиры школьница. Ведь страшно идти в ночной лающий и тёмный мир, идти туда, где охотно оголяют не только тело, но и душу, заставляя жить в безвременье, в непонятной земной вечности, каждый день проживая один и тот же опостылевший день.
Руфина была теперь не интересна даже своим мучительницам. Она была похожа на распятие в разрушенной церкви. Стыд и страх теперь плескались в некогда горделивых глазах. А обмякшие ягодицы напоминали полушария наполовину спущенного мяча, который не хочет оказаться на свалке.
До слуха Руфины долетал их презрительный шёпот. Она старалась держать осанку, но с каждой минутой чувствовала, как деревенеет её позвоночник, а ноги становятся похожими на желеобразные подпорки. Страх упасть в обморок, и чувствовать, как на её тело справляют малую нужду не проходил. Руфина попыталась не думать о мучащей её жажде, но та становилась нестерпимой, во рту, словно бы поработали наждачной бумагой, сдирая в кровь все-то, что было в нём.
«Не хватало тут ещё какую-нибудь мерзость подхватить…» Раньше она как-то е чувствовала близость смерти. Та противная сущность была всё время рядом, только не решалась взмахнуть косой, наблюдая, как Руфина гордится собой, словно редкий полевой цветок.
Теперь всё, что было раньше было только сном. Возможно, и сейчас ей всё снилось, но Руфина этого не знала. Она вообще не могла долго думать. В висках сразу просыпались невидимые барабаны, а мысли казались монологом заики.
Александр Таловеров понимал, что рискует. Эта дамочка могла бы очухаться и заявить. Что все её сопливые признания были из неё выбиты. Но эту клоаку разврата необходимо было превратить в фантом. Просто взять и растворить её в воздухе, словно сказочный дворец Черномора.
Таловеров пытался понять. Что заставило эту молодую девушку так рисковать. Неужели она просто очумела от безнаказанности, неужели надеялась и дальше не вылезать из своей детской. А возможно просто забыла, каков он – настоящий реальный мир.
Присутствие жертвы этой дурацкой псевдовладычицы немного смущало Таловерова. Он понимал, что несчастная девушка и так тонет в океане самоанализа. И не пытался надоедать ей нравоучениями. Да и было слишком поздно читать ей мораль. Он вдруг подумал о своей первой любви, о её дочери, которая родилась, и которую он видел только на редких фотографиях, которые высылались ему до востребования.
«И отчего мы все совершаем такие гнусные вещи?! Зачем играем с сами собой. Почему так пошло коверкаем свою жизнь?»
Ответа не было. Таловеров даже подумывал съездить за ответом в пригородный монастырь. Съездить и спросить совета у какого-нибудь монаха. О монахах он судил по сериалу режиссёра Пырьева. Образ кроткого старца Зосимы запал в его память, он был как живой, словно бы вылепленный из воску, и смотрел так чисто и кротко, что становилось страшно. Таловеров меньше всего хотел быть чьим-то палачом. Но он никак не мог простить эту разнузданную гордячку, эту Мессалину…
Не могли этого сделать и те, кто с упоением малолетних художниц разрисовывал ягодицы вчерашней неприкасаемой госпожи глумливыми эмблемами. Руфина тихо поскуливала, словно бы обиженный щенок, а умелые руки её сокамерниц колдовали над её мягкими полушариями, заставляя лицо несчастной тупо, по-помидорьи краснеть.
На ягодицах уже появилась витиеватая вязь. Темноволосая умела писать по-грузински и по-армянски и охотно устроила из седалища Руфины подобие билингвы для сексозабоченных граждан. Теперь любая посетительница обшетюремного душа могла узнать, кем по своей сути является эта по-шакальи трусливая особь женского пола
Руфина же постепенно теряла остатки гордости. Как теряла она и пряди волос. Те охотно уходили от неё, как знаменитые чайники и утюги от Федоры. То слева, то справа какой-нибудь из волосков плавно планировал на пол, и от этого Руфина начинала понимать, что окончательно становится разменной фигурой- пешкой в непонятной, но очень скоротечной партии
Рейтинг: +2
538 просмотров
Комментарии (2)