19.Чрез преграду - в Пеклоград
29 сентября 2015 -
Владимир Радимиров

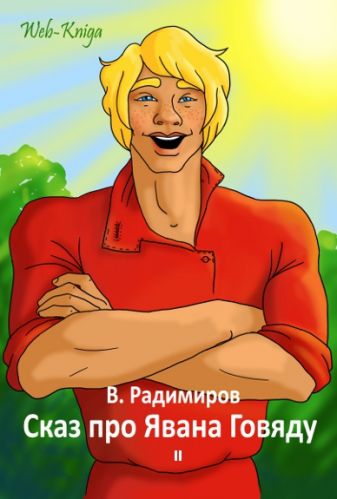
– Нам... э-э-э... вроде туда, господа, – сдавленно просипел чёртик и, озираясь, вперёд потопал.
Пошли они, тож потопали, а через недолгое времечко коридор, по которому они двигались, раздвоился, растроился, расширился, сузился, и вскоре из всех этих ходов-вариантов такая путаница завязалась, что мама не горюй. Кривулка в один проход сунулся – назад вернулся, в другой завернул – опять ватагу к прежнему месту вернул. И снова нырнул куда-то, проводник неудатый.
Короче, спустя часа два по этому лабиринту они вдосталь находилися, а под конец и вовсе, кажись, заблудилися.
– Ты куда нас завёл, хнырь безрогий?! – поднял вой кипяшливый Буривой. – Мы ж недавно тут были – вон же харчки мои. Вот щас мордой об стенку как хрясну – ей-богу новые рога у тебя появятся!
А на чёртика запамятовавшего и без того смотреть было жалко. Растерялся он нешутейно, глазёнками туда-сюда завращал да и заверещал:
– Ой, только не бейте, только не бейте! А то черти бьют один другого жутче, а пришли вы – и тоже не лучше? Виноват я, как есть виноват! Позабыл, где дверь потайная находится. Но вы не сумлевайтесь – я найду! Всё-превсё обойду, а её отыщу!
Только не пришлось им всё обходить, потому что Делиборз быстроногий им пособил. Он-то как увидал, что у поводыря не ладится ни шиша, так от черепашьей ватаги отбежал и в скором времени весь лабиринт путлявый обежал.
Затем воротился и к Явану обратился:
– Ванюш, а Ванюш, кажись я выход-то обнаружил. Тута недалече дверь есть железная.
– Она, она, родимая! – заорал в восторге их проводила. – Веди нас, человече, ежели недалече!
Ну и пошли, а чё! Делиборз проворный всю компанию и повёл.
И не прошло и четверти часа, как впереди ворота показались в стене каменной.
– Наконец мы у цели! – вскричал Буривой в весельи. – Экая же, право, дыра! Слава те, Ра!
– Это всего лишь в помещение некое вход, – охладил его пыл чёрт. – Как внутрь войдёте, то по проходу вперёд пойдёте, а упёршись в стену, увидите на ней круглый люк. Тут и странствиям вашим каюк. Хе-хе! Тот люк влево надобно повернуть – он и откроется.
Чертяка вдруг замялся, слегонца заволновался, глазёнками быстро стрельнул и вот чего ввернул:
– Ну, мои дорогие, вы помаленьку идите, а я на стрёме посижу. Думаю, как бы кто за нами не увязался, а то вроде шум мне показался...
– Фьють! Гляди, чё придумал, хитрец! – возмутился нешутейно царь царей, оскалившись зловеще. – Нам твой стрём не нужон! Топай вон ножками, а не то!..
А в это время Сильван к двери железной подошёл и приоткрыл её со звуком скрипучим. Все туда заглянули и в переливающемся мрачно сумраке небольшую, уходящую вперёд залу узрели, а в конце той залы и люк упомянутый в стене чернелся.
Дружинники, конечно, к люку этому устремилися в немалой спешке, а Яван последним без торопления шёл, приглядывая за ушлым чёртом. Тот-то двери аккуратно захлопнул и тоже вперёд потопал. А там уже торопыга Буривой в азарте за ручки взялся и люк винтить принялся. Мышцы на его руках вздулись, жилы вспучились, а лицо аж побагровело – только не пошло у него это дело: проку от стараний воина был полный ноль.
– А ну-ка, сердешный, мне дозволь! – пробасил тогда Сильван, никчёмные потуги собрата наблюдая.
Отстранил он упревшего богатыря, сам за ручки ухватился и в могучий рывок вложился. Да только как леший ни пыжился, как ни бился, а и у него конфуз получился: не вышло и у великана нашего ни фига.
– Ну, чертяка, понаставил ты нам рога! – прохрипел не дюже добро́й Буривой. – Люк-то чёртов не открывается, а!..
А тот лишь руками разводит в недоумении, стоя от буяна в отдалении.
– Ах ты ж незадача! Ой-ёй-ёй! – покачал он сокрушённо головой. – Должно быть, заржавел люк-то. Али, может, с той стороны его укрепили. Тю-тю проходец! Ага!
Даже засвистел, гад.
И не поймёшь по его роже – то ли и впрямь огорчён он стал сей препоной, то ли сделался ей рад. Ну, гад он и есть гад.
– А ну, дай я спробую, – Яваха тогда голос подал.
Приладил он ладони свои лопатные к ручкам аккуратным, мышцы богатырские как следует поднапряг да и провернул крышищу со скрипом режущим.
Но не успел до конца докрутить её, как вдруг сзади у дверей что-то как грохнет, да пламенем оттуда как полыхнёт! Глянул туда Яваха, а со стороны дверей на них сплошная стена валит пламени!
Вот так, к ляду, сюрприз – пламя в ловушку их заключило, как крыс!
Все, конечно, суетно заметалися и немало растерялися. Один лишь Давгур в ус не дул и не метался – тёпленького, видать, дожидался. Даже Яван застыл было, хоть и думу думал. Только чего ты тут удумаешь, когда до пламенного вала пару мигов осталося: с бешеной скоростью двигался на них жар!..
И вдруг, когда смертушка лютая уж совсем рядышком крылышки свои чёрные расправляла и по зале той вольготно гуляла – спасение пришло им нежданное. Яван как раз воздуху побольше в лёгкие набирал и перед товарищами мысленно винился, что не сможет он их спасти, когда целый водопад солёной воды откуда-то на них пролился.
В один миг вода помещение затопила и пламень беспощадный собою погасила. В этом ведь и есть воды великая сила, что она огня не боится.
Открыл Ванюха глаза, глядь, а его кореша, словно рыбки в аквариуме, там плавают. Кое-кто уже и захлёбываться даже стал.
«Надо двери открыть как-то, а то утонем тут как котята!» – Яваха сообразил, и что было силы туда поплыл, только помощи его не понадобилось, ибо водица-спасительница, ставшая вдруг утопительницей, начала вдруг спадать. И вскорости от всего водяного изобилия лишь одна лужица осталась в желобине, а в той лужице Упоище губами елозил и остаточки подсасывал.
Все без исключения в полнейшем недоумении на него таращатся и от его водопойства тащатся, а пропоец губы аккуратно отёр, усмехнулся довольно да и говорит, былой паразит:
– Уж вы меня простите, ребята, а ведь спас вас я-то! Помните, как я водицы хлебанул из морюшка возле гнезда Моголушки? Вот оттуда-то и вода, ибо всё, что я в себя глотаю, в себе же непостижимым образом и оставляю.
Спасённые на избавителя своего восторженно поглядели и наперебой загалдели:
– Молодец, Упой!
– Слава Упою!
– Ну, даёт!
– Он нужнее с перепою!
– От же мастак!
– Качай его, ребята!
Навалились они на героя растерявшегося и стали его качать, аж до самого потолка увальня подбрасывая. И покуда довольный дурик об потолочину башкою не долбанулся, спокойный дух в ватажников не вернулся.
А когда они мало-помалу угомонилися и для продолжения дела вновь годилися, то приметливый Сильван вдруг заорал:
– Эй, а куда поводырь наш подевался?
Хвать – нету нигде Кривула! Под шумок тягу дал оттуда. Ну всех, гадёныш, надул!
– Ах же ты ушлый хмырь! – прорычал Буривой гневливо.
– Утёк, подлец! – другие подхватили.
– Растворился!
– Пропал!
– Смылся!
Начали они его искать – да куда там! Как словно и вправду он растворился, чёртов идеист. Ярой Буривой предложил даже в брогарню возвертаться да на месте дезертира и порешить, но Яван, подумав, иное решил. Кривул-де, сказал он, после всего происшедшего наверняка язык за зубами будет держать, – поостережётся начальству их закладывать. Да и где ты его будешь шукать-то? Сыщи его поди в лабиринте этом треклятом...
Даже чуткий Сильван, навострив свои локаторы, пожал недоумённо плечами: нету, говорит, его нигде, как в воду, мол, канул.
– Да ну его к ляду! – воскликнул решительно Яван. – Сами справимся! Он и так рассказал нам много, чёрт безрогий.
И к недокрученному люку вернулся. Повернул Яван лючину до отказа и вперёд её толкнул, растворяя. И раскрылся там круглый проход – лаз тайный в Пекельный город! Горя любопытанием жгучим, немедленно Ванюха туда заглянул и узрел там вот что: то ли зал немалый, то ли подвал, то ли что-то из того же рода...
Не видать лишь было народа. Да и окон нигде не виднелося. Только призрачный мертвенный свет откуда-то с потолка лился, освещая находившиеся в зале громадные шкафищи, которые тесно везде стояли и еле слышно фырчали. Назначение сих приспособлений осталось для Явана тайной, но он не особенно этим и морочился: мало ли где каких устройств…
Вот он первым в лазейку пролез, а за ним и братва его не замедлилась: тоже все через люк влезли и заозиралися окрест, думая, а то ли это место...
Буривой решительный общее сомнение не преминул выразить.
– Во заманул нас Кривул! – сказал он, кипя от возмущения. – То же самое это подземелье! Готов спорить!..
– Погоди, дядя Буривой, со своими выводами, – Ваня его за плечо тронул. – Есть выход – найдётся и вход... А что это там в сторонке? Не дверца ли? Вон!..
Пригляделись они все вместе – и впрямь дверца в полумраке чернеется. Подошли – да точно же, она и есть, в стене дальней большая дверь. Яван её распахивает широко, а тама ещё одно помещение было полутёмное, и ход имелся по лестнице винтовой.
– Дозволь мне, Ваня, на разведки смотаться! – Делиборз тут Явана просит. – А то я застоялся, ага. Одна нога здесь – а другая там!
Ну, Яван-то не против, конечно, а за... Тот и скаканул как коза, или воспарил как орёл. Ввинтился вверх, да и был таков.
Так. Проходит времени ни много ни мало, а минут где-то пять. Наши уже стали волноваться, а тут слышат, как за стеною зашуршало, зажужжало, потом стенка одна вбок уехала, и образовалась пред их глазами кубовидная ниша, в которой на стульчике Делиборзишка посиживал с видом горделивым.
– Ну что, православные, – к товарищам он обращается, – не желаете ли в чудо-ящике наверх вознестись? Хе! А наверху и правда город. Прямо обалдеете, как узреете!
Спешить не стали. Яван сперва крышку лючную закрутить приказал, дабы не привлекать ничьего внимания, а уж после того они в кабину лифта напихались. Делиборз нажал кнопочку с номером «восемьдесят», и по закрытии дверей они тронулись. Да чуют, что едут-то быстро, со скоростью нехилою – аж в пол их малость вдавило.
А как половину пути они проехали, так их карета вдруг позамедлилась, а потом остановилась и вовсе. Что, думают, ещё за новости? А это, оказывается, некий чёрт у дверей открывшихся нарисовался и даже назад он попятился, ватагу внутри увидав. Побледнел чёрт заметно, заёрзал нервно, а потом улыбочку на личике вымучил и... внутрь протиснулся нерешительно.
– Дозвольте спросить, – обратился он почему-то к Сильвану, глыбою над ним нависавшему. – Вам... э-э-э... куда, господа?
Сильван, как водится, полез в карман за словом, засопел, сморщился, – зато Говяду за язык тянуть было не надо.
– Нам-то? – бойко он вопрошает. – Наверх. На самый!.. А тебе, брателло, куда?
– Ой, какая удача! – чёртик заулыбался. – И мне туда же. Ага. На самый-на самый!..
Нажал Делиборз опять кнопочку, и они тронулись.
Все молчат, на попутчика смущённого уставились, вылупились даже, можно сказать, а он по виду не сразу и заметишь, чем от человека отличался. Разве что глаза... Недобрыми они были, колючими и выдавали душу не лучшую. А в остальном этот чёрт вполне сошёл бы за представителя племени людского: лысенький такой, щупленький, средних по виду годков. Одет он был в скромный комбинезончик, блестящий, чёрный и застёгнутый молниями. Только одна деталь была на нём яркая, отчего в глаза бросалася: эмблема на груди, с левой стороны, необычная у него красовалася – золотая змея извивалась там яростно.
Так молчком доверху и доехали. А как дверца отворилась, так чёрт наружу-то прыг – да в крик:
– А ну вон отселя, сволота деревенская! Это кто вам дозволил по секретному объекту шастать?! Марш, кому говорю, обдолбанные карнавальщики, а то я биторванов позову! Ишь, понаехали тут!..
Но в это самое время чертяка оголтелый наткнулся на пристальный Сильванов взгляд, после чего моментально завязал он вякать, как-то сразу завял, бочком-бочком – да оттуда и дёрнул, позабыв про угрозы.
Там, правда, и без него хватало народу. Прямо скопище по площадке хаживало. Все на подъёмниках многочисленных разъезжают, входят в ниши открытые и выходят, туда-сюда снуют и в чужие дела свои носы не суют. А по двум большим широким лестницам, наверх ведущим, целые потоки чертей и чертовок, одетых в разноцветные комбинезоны, быстро передвигались и никакого внимания на прибывших не обращали.
– За мной, ребята! – Яван скомандовал и к лестнице ближайшей направился гренадёрским шагом.
Протопали они по лестнице наверх сажён двадцать, а тут и площадка им открылась немалая. Оказывается, они на вершине усечённой пирамиды очутились. Яван первым делом наверх глянул и – вот же чудеса! – будто на белом свете были тут небеса. И пекельное светило, совсем как солнце красное, с зенита своего светило. А небо в выси такое голубое было – чистая лазурь, – только вот ни одной птички не было видно, и это казалось удивительным.
Ну а окружающий их город собою потрясал просто. Кругом, куда ни глянь, чудовищной величины здания одно над другим громоздились, и были они как призмы и параллелепипеды, пирамиды да кубы... И все эти великие домины сверкали в лучах светила разноцветными гранями, так что Яван зажмурился даже. Улочки же внизу совсем узкими меж громад казались, и видно было, как по тем улицам черти двигались. Всё там сновало и суетилось, будто масса муравьиная внизу копошилась. Но самое удивительное было то, что некоторые личности – в немалом, надо сказать, количестве – просто так гулять по грешной земле гнушалися, ибо они воздухопарением занималися. Правда, выси негорние сии воздухоплаватели не штурмовали и в большинстве между домами неспешно лавировали, по одному, а то и по двое на стульчиках летучих сидя, и куда им надо летя.
Вот и сейчас, чуть ли не над самыми их головами какой-то хмырь расфуфыренный абсолютно бесшумно пролетел, вниз брезгливо поглядел, сверху на них сплюнул и ручкой им помахал. Вот же нахал! Хотел было Ванюха оплёванный чем-нибудь в него швырануть, да жаль – нечем было запустить в это рыло.
А где-то через полчасика, на жарком солнце прогревшись да обсохнув совершенно, порешили наши путешественники вниз сошествовать. Топать да ножки трудить им не пришлось – там очередное приспособление нашлось. На боковинах пирамиды самоходные лестницы плавно двигались, несколько штук вверх, а несколько вниз. Это дело оказалось для наших подходящим, шагнули они на лестницу нисходящую, на ступеньки сели да вниз и поехали.
Довольно скоро к самому подножию они спустились, с ныряющих под мостовую ступенек соскочить заторопились, да первым делом окрест огляделись. И вот какие наблюдения им со свежака в ум втемяшились. То был каменный и неживой мир – и точка! Ни тебе деревца захудалого вокруг не было, ни даже кусточка. Ну всё сплошь в камень, в металл да ещё в какой-то твёрдый материал было заточено. Правда, покрашено, отполировано и приколочено всё было замечательно, и дома были построены тщательно: никаких тебе трещин нигде да щербин, пятен да перекосов – не подточит и комар носу. А всё ж таки чего-то было не так...
Да и местных обитателей, таковыми, как они оказалися, Яваха увидеть не ожидал. Он-то, темнота, полагал, что тут чудовища да юдовища повсюду должны были шляться – ан тебе нет. Таковых и в помине тут не было. А болтались по городу обычные спервогляду двуногие – и мужики, и бабы – акромя стариков и детей, коих ни в одном месте не виднелось.
Фигуры же у местных лепностью форм не поражали вовсе. У половины они были хилыми весьма и даже тщедушными, а выражения на лицах выражали у них бездушность. Не, попадалися там и тучные и собою могучие, и даже атлеты ладные, но в общей мозглявой массе они терялись. Да и по цвету кожи однообразия никакого среди аборигенов не было. Многоцветие тут было феноменальное: и белые здесь хаживали, и чёрные, и жёлтые, и красные – да ещё и промежуточных форм хватало... Там же, как Кривул сказывал, праздник в то время проводился, карнавал. Шум да гам с каждого закоулка доносилися, и звуки музыки резкоритмичной вперемешку с завываниями ошалелыми везде носилися. Горожане же неистово и, прямо сказать, расхристанно тут и там скакали, вертляво плясали, прыгали, хохотали, орали и чёрт те как визжали – своими действиями безумную радость изображали. И все почти были полуголые: в повязках, перевязках, цветастых обвязках и чуть ли не в одних поясках...
На улицах была ведь духота, и стоял жар – не обманул подлец Ловеяр. Фу-у-у!
Яван с компанией по проспекту и марширнули! Идут просто так, куда глаза глядят, и не в своей тарелке себя ощущают.
Посмотрел Ваня зорким оком, а повдоль обочин, под навесами красочными небольшие лавочки были понаставлены, и сидящая в них молодёжь из кружек какую-то пакость пила и очень раскованно себя вела. Чего-то они все орали, блажили, хохотали – показать себя, видно, чаяли... Девицы же пеклоградские как на подбор смотрелись развязно, волоса́ у них в цвета были покрашены несуразные, а тела какими-то брескушками оказались проколоты, узорами яркими размалёваны, и обколоты замысловатыми татуировками. И всё больше на телах видны были: драконы да львы, змеи да тигры, акулы да орлы, – и прочая хищная порода, коя в чести была у местного народа.
Большинство здешних обитателей по улицам бездельно слонялось, и многие из них не шли, а ехали. Там, на мостовых, что-то вроде самодвижущихся лент было устроено, на перекрёстках дорог то в туннели нырявших, то над головами вверх возъезжавших. Вот на этих-то лентах, не дюже быстро летевших, черти и ехали. А по воздуху, очевидно, важные господа передвигались, ибо им, вероятно, такое передвижение по статусу полагалось. Так те-то собой были видные: росту завидного, фигуры у всех точёные, рога золочёные, а рожи правильные и холёные. Сами-то наружно красивые, только выражения на лицах у них гордые были да спесивые.
Прикинув про себя что к чему, решил Яван дворца Чёрного Царя немедля достигнуть и в сношение переговорное с ним вступить. Ну а добравшись до самого нутра, спланировал Ваня не особо там менжеваться, а сразу же за рога вздумал чёрта старого взять и Борьяну себе потребовать. Ну а коли царское величество соизволит на эти требования наплевать, то Яваха ведь на уступчивость чертячью и не собирался полагаться – он хоть с целым городом готов был драться.
Без промедления Ваня к осуществлению своего плана и приступил. Начал он дорогу у окружающих бездельников спрашивать. Ну, народ на удивление отзывчивым оказался, очень охотно ему дорожку все указывают, пальцами кажут, да языками рассказывают... Они туда и шли, только никакого дворца царского нигде не нашли. И усёк тогда Ванька, что мошенническая эта банда их просто-напросто дурачит да за нос водит.
«От же я и олух!» – подумал про себя Ванёк. Не стерпел он такого к себе отношения, а схватил очередного прохиндея за шкварник, да как тряханёт его во гневе разов пять. И ну из него сведения вытрясать. «Хватит, – орёт, – моё терпение, гей хренов, испытывать, – а то как дам по мозгам! Говори, христопродавец, как до дворца царя дойти, а то отсель тебе не уйти!»
Перепугался чёртик ухваченный, головою закивал, придушенно заверещал, да вдруг со страху дал маху: обгадился, выкормыш гадючий! И так-то вонюче, что Ванька для себя посчитал за лучшее паразита сего отпустить восвояси, дабы не нюхать эту мразь.
Пришлося им далее наугад брести – ведь помощи не дождёшься от нечисти.
Вот шли они, шли, а дворца так и не нашли. Картина же бесшабашного праздника не менялася. По-прежнему все окружающие вели себя вызывающе; то тут, то там промеж резвящихся обывателей всяческие разногласия выявлялися, да раздоры возгоралися. Благо ещё, что имевшиеся повсеместно биторваны этим конфликтам накаляться не позволяли и где кулаками, а где пинками бесчинников усмиряли.
Особенно бабы тутошние и девки своим раскованным поведением удивляли. Почитай что все молодыми по виду они были да собою юными. В крайнем случае моложавыми. И вот эти самые профурки нахальные Яванке проходу просто не давали: по́шло они ему улыбалися, многозначительно подмаргивали, прилипчиво на него таращились, кривлялись, за шкуру львиную хватались, и вообще где ни попадя под ногами у него шараёхались. А ежели он на призывы их страстные не оборачивался и от их прелестей, бесстыдно трясомых, отворачивался, то эти бесовки дурными голосами хохотали и отборнейшей ругнёй его поливали. Те ещё были крали!
А одна молодая особа, полуголая и размалёванная, на шею Ванюхе прытко прыгнула. Ущерепилась она в парня, как кошка, и с томным придыханием на ушко ему зашептала, что, мол, такого красавчика она отродясь не видала, что она-де от него горит вся и тает, что полюбить его жутко желает, а ежели он её душевных порывов не поймёт и от неё уйдёт, то она тогда горько зарыдает и себя убьёт, вот!
Потянул Ваня ноздрями идущий от неё дух – и чуть было не припух. От этой ведьмы перегаром несло крепким да плюс к тому благовониями ядовитыми вперемешку с потавониями тела немытого. Эдакий коктейль ядрёный тянул от этой местной матрёны, что хоть стой, хоть падай.
Насилу он от неё отбился, и прочь оттуль устремился. А эта гуль ужратая вдогонку ему плюнула, пронзительно завизжала и деревенщиной неотёсанной его обозвала. Буривой после того случая долго ещё не мог отойти, беспрестанно слёзы с глаз вытирая.
В общем, распущенность в этом городишке царила фантастическая и дикая. Тяжело там было порядочному человеку находиться и этой свистопляской пропитываться. Видимо, о морали местное население даже не размышляло... Зато швали всяческой тут хватало. Пьяные юнцы и девицы при всех пылко обнималися, взасос целовалися, миловалися, а потом тут же друг с дружкою заковыристо ругались и разухабисто собачились, и сразу же, без перехода, бузили лихо и всяко дурачились...
А всё же истого веселья и в помине там не было. Так – одна шальная дурь из чертей этих пёрла, да мешанина высокомерия и к прочим презрения чуть ли не изо всех душевных пор сочилась. О настоящей любви и говорить даже не приходилось. Тут, видать, такие чувства не водилися отродясь.
Да и не все буйному гулянию предавались. Тут и скучные, и мрачные, и злые физиономии попадались. Видимо, среди городского стекла, металла и камня было место лишь для душевного льда и пламени, тогда как скромность, спокойствие и умеренность на задворках сознания здесь тихо прятались.
В это время наши явановцы, проходя мимо призмовидного здания, чуть ли не в самое небо уходящего, на юношу некоего странного внимание обратили. Тот, в золотистый плащ закутавшись картинно и живо жестикулируя, о чём-то громко то ли говорил, то ли напевал и порядочную толпу вокруг себя собрал. При ближайшем осмотрении обнаружилось, что это местный стихоплёт горло дерёт – вирши окружающим зевакам глаголит.
Явахе сиё явление, для него неожиданное, показалось весьма интересным – чай, он-то был не дебил, и сам ведь стишата любил. Протиснулся он к поэту этому поближе и уши свои развесил для его виршей, а тот венок из цветов декоративных на рога себе повесил, над головою руку вознёс и витийствовал, зараза, чуть ли не в полном находясь экстазе:
Из-за крыши жабой-ляпой
Туча выползла опять;
Что-то свыше заставляет
Душу въедливо копать...
О, до самой до могилы
Нам уюта нету тут;
Видно, это злые силы
Нас безжалостно гнетут...
Они властно захватили
В руки радость и покой,
И рассудок замутили
Грязной мутью и трухой.
Тщетны ярые стремленья
Сих врагов вовне душить,
Ибо это повеленья
Нашей маленькой души!
– Да пошли отсюда, Ваня, – Буривой за шкуру его потянул раздражённо. – Чего там слушать-то, право слово – бред какой-то, ей-богу...
– Э, не-ет, не скажи! – наш любитель поэзии ему возражает от души. – С чувством парниша стишки кроет – ишь как выводит-то! Ещё малёхи послушаем, ага...
А поэтик между тем раздухарился, ещё пуще языком чесать пошёл – аж в полный раж вошёл. Другой, третий, четвёртый стишок в массовое сознание он запускает, даже толику критики подпускает, что-то насчёт чертовского недостатку прошёлся: тот порок, этот остроумно затронул, глупость верхов, раболепие черни слегонца тронул... Видать, поэты везде одинаковы. Всё им, понимаешь, как-то не так, не по фасону. Вот ежели бы чего-нибудь несколько по-другому, а это бы не по-такому, то тогда бы, пожалуй, и да... И всё в таком же духе чушь и ерунда... Короче– смутьяны! Всюду им, понимаешь, изъяны...
Ну а окружающей толпе эта поэзия была по нраву. Галдят собравшиеся, свистят, в ладоши хлопают, орут, визжат, ногами топают... Даже парочка биторванов, с виду грубых таких болванов, поодаль остановилася и на сборище стихолюбительское без ментовского рвения воззрилася. Ноги широко они расставили, мускулистые руки на груди сложили, и промеж себя о чём-то перебрасывались словами да презрительно усмехалися.
И тут молодой поэт неожиданно сменил тему и о любви безответной словесные излияния начал производить. И не про кого-нибудь там, не про вихлозадых сисешмар, коих тут везде шоркалось прямо тьма, а – надо же! – про саму Борьяну, от которой он, дескать, ходит как пьяный, с надрывом в голосе пиит сей запел:
О, Борьяна, свет очей!
Я давно не сплю ночей.
О тебе мечтаю...
Просто погибаю!
Ты прекрасна и нежна!
О, как жаль, что ты княжна!
Я ж – поэт-невежда.
Нету мне надежды!
Ты – как луч во тьме ночи́!
Сердце – плачь, а не молчи!
Моя люба – в путах
Жалких лилипутов!
О, тебя облапит вор!
Мерзкий, грязный Управор!
Я ж – люблю ужасно!
Неужель напрасно?..
Но ему не дали излить душу до конца. От толпы вдруг отделились два здоровых молодца, оба в чёрной униформе с золотыми на груди эмблемами-драконами и с огромными, точно у баранов, рогами. Переглянулись они на ходу, нехорошо ухмыльнулись и к поэту решительно двинули, мешавших чертей с пути отшвыривая. А подойдя вплотную к юнцу, на полуслове осёкшемуся, уставились на него угрожающе, поздороваться позабыв, а затем бедного малого за шиворот они схватили и, сатанея на глазах, забухтели властно:
– Ты про кого это здесь гундишь, крыса брехливая?!
– А?!!!
– Язык бы тебе обрезать за такие слова, виршеплёт ты драный!
– Ага!
– Мы счас мозги-то те вправим!
И один из них вдруг как треснет диссиденту кулаком по носу, а другой без замаха в пах его ткнул. Тот аж в две погибели согнулся и в ножках враз подогнулся. Палач же первый вдругорядь размахнулся да локтищем по хребтине ему – хрясь! Ну тот, понятное дело, мордой в грязь – захрипел, закашлял, засипел и о любви уж боле не пел.
Зрители же неожиданно в восторг визгливый от такого поворота событий пришли. Заорали они, засвистали, в ладоши заколотили – чисто взбесилися. От таковских жестоких зрелищ они, очевидно, куда как круче веселилися, чем от какой-то там поэзии высокопарной. Ну а эти бандитские хари между тем уже ногами принялись горемыку несчастного добивать – так распинались, твари, что и не остановить. И ни единый подлец, только что восторженно поэту внимавший, спасти избиваемого был не пожелавши.
Яваха на биторванов взглянул недоумённо, а те с непроницаемыми мордасами на всё это безобразие глядели и вмешиваться, по-видимому, не очень-то хотели.
Пришлось тогда Ваньке в экзекуцию эту встрять, потому как невтерпёж ему стало в сторонке стоять. Палицу он Сильвахе передал, подошёл походочкой спешною к месту избиения, сгрёб обоих охальников за шкварники да – бац! – лбами рогатыми их друг об дружку и стукнул.
Показалось, что даже искры из чертячьих лбищ повыбились!
Ваня обоих истуканов немедля из рук выпустил, и те, словно мешки с дерьмом, на мостовую брякнулись. Толпа же азартная от нового оборота событий в совершенное исступление пришла и рёвом психованным вся изошла. Зато биторваны вдруг повернулись и под шумок поспешили оттуда убраться – видимо, не хотели с сей шнягой разбираться.
Яван же тем временем к поэту затоптанному наклоняется и в чувство его привести собирается. А тот и сам уже малость очухался. Вот поднялся он с помощью Вани на ножки дрожащие, точно ветка на сильном ветру качаясь и взором безумным окрест озираясь, а сам едва-то-едва на месте стоит, до того страшно он был избит: сплошные на лице его были синяки и кровоподтёки.
И вдруг – вот те номер! – отверг он с негодованием Яванову помощь и в лицо своему спасителю в истерике выкрикнул:
– Отойди, богов ангел! Ненавижу! Всех вас, мерзавцев, ненавижу! Все-ех! Что уставились, твари – вам смешно? Тупое сборище! Проклятые! Чтоб вы вознеслись ко всем ангелам!
Запахнулся он в свой плащ и, шатаясь, восвояси устремился. Яван же такой реакции неблагодарной подивился, а потом решил, про себя смекая, что черти эти от жизни своей гадской того маленько все... с прибабахом. А и пошли они все прахом! Простого человеческого отношения от этих богоотступников ожидать ведь было нельзя, ибо всё тутошнее население, без единого, видимо, исключения, находилось в душевном извращении.
Что ж, дальше они потихоньку пошли, и показалось Явану, что и с беспутья они даже сбились – чёрт те куда зашли. Ну, он у кого-то из спешащих чертей и спрашивает, а правильно ли они ко дворцу царскому топают? А из толпы его в свой черёд пытают: а за каким таким ангелом тебя туда несёт? Яваха сдуру возьми и ответь: за Борьяной я-де шествую, за своей невестою... А в ответ со всех сторон – хохот прямо гомерический. Ишь, орут, куда прёт, деревенщина сивомордая – не по рылу-де рука, гляньте вон на дурака!
И тут вдруг толпища обывательская раздвигается, и пред Яваном впечатляющего вида великан возникает, который к его компании направляется уверенным шагом, подходит и останавливается.
Говорит затем мощным басом:
– Ты, паря, чё – не дурак ли часом? Эк, куда тебя понесло – во дворец! Рази ж ты не ведаешь, что всем женишкам Борьянкиным турнир давеча был объявлен? Я как раз туда направляюся – могу и тебе дорогу показать, на словах-то тут не расскажешь...
Видя Яваново удивление, он было повернулся идти, лишь равнодушно сквозь губу процедив:
– Ну, коль не хочешь, то катись...
– Отчего ж не хотеть – идём! Я с тобою! А моя ватага – со мною!
Громила тогда завистливо на Яванову свиту покосился и пробурчал ворчливо:
– У тебя, парниша, я гляжу, средств выше крыши. Ишь каких телохранителей себе надыбал... Только это всё лишнее. Главное – каков ты сам! А у меня хотя и нету никого, кто бы сопли за мной подтирал, зато вот что имеется!
И он кулачище свой огромный поднёс Явану под нос, для вящего впечатления очевидно, и так его сжал, что даже костяшки на нём оттопырились. Да уж, маховичок у него был внушительный, не скажешь тут ничего – прямо кувалдометр какой-то бронебойный!
Поглядел Яван на бахвалившегося чёрта со вниманием явным, и ему должное принуждён был отдать, ибо нечасто такие экземпляры на свете попадаются. Всенепременно, что лихой этот молоде́ц искуснейший был боец. Не ниже Явахи длинного даже ни на дюйм, плечищи эдакие широчющие, ручищи длиннющие, грудь бугристая колесом, а живот, словно у волка, впалый. Видон у него был бывалый. Ни одной лишней жиринки на плотном теле его в глаза не бросалось. Кажись, из одних сухих мышц и прочных, как канаты, сухожилий оно сплошь состояло... На плечах же у него висел простой выцветший плащ, на ногах виднелись стоптанные сандалии, да нож в ножнах болтался у талии. На вид ему лет сорок можно было дать, если не с гаком, и для жениховства вояка был староват, да уж сиё суждение Яваха благоразумно высказывать не стал, потому что шуточек, по всей видимости, тот не понимал. Лицо у буяна было как каменное, и улыбка черты его грубые отродясь, видать, не искажала. Вдобавок ко всему два толстых, но коротких рога – пошкрябаных таких, некрашеных, – лоб его украшало, виски были выбриты гладко, а меж рогов назад натурально спускался хвост конячий – волосьев чёрных струя прямая.
– Меня, между прочим, Бравы́ром зовут, – представился он угрюмо. – Ярбу́й Бравыр, если угодно вам... С Козьего острова прилетел женихаться, – и добавил высокомерно. – Я, паря, всегда рад помахаться. Среди нашего легиона мне равных нету, угу. Так что я не я буду, если царевну не добуду!
– А тебе, паренёк, – и он на Ваньку поглядел оценивающим оком, – я не советую драться. Загодя можешь ушиваться. Молодой ишо... Кстати, каким именем ты зовёшься да откелева идёшь?
Яваха мгновенно создавшуюся ситуацию оценил и посчитал за лучшее по таковскому случаю своё имя не открывать – да в то же время и не особенно врать.
– Буйвол я! – заявил он чёрту, не моргнув глазом.
Здорово придумал-то, надо признать: и на имена-клички чертячьи похоже здорово, и по сути ведь верно.
– А живу я, Бравыр, так далече, что и говорить неча... Ну, что ещё о себе могу я поведать? Никогда не тужу, никому не служу, а за Борьяну биться буду рьяно. Вот так!
– Ну-ну, – прорычал невозмутимо Бравыр. – Бейся-бейся! Хоть в лепёшку разбейся! Только я тебя, юнец, предупреждаю: коль на буёвище сойдёмся – добром не разойдёмся! Хоть ты мне чем-то и показался, но на противника я зол страшно... Пошли-ка давай!
Да, взявши Явана за локоток, за собой его поволок и вдоль по улице шагом размашистым двинул. И пошёл языком чесать – видать, любитель он был поболтать.
– Тут все негодяи отпетые – однозначно все! – истекал новый знакомец злобным раздражением. – Посмотри – да разве это черти?! Ну какие из них, на хрен, воины, а?! – Дерьмо! Все без исключения!
– Поверишь, нет, – и он кулаком Яваху огрел, – у нас на острове жратвы не хватает, коз да баранов выводим, траву сеем да жнём, а всё равно впроголодь живём. Снабжение с города нерегулярное, недостаточное – того, мол, нету, сего... А откудова ему взяться, когда тут одно сплошное ворьё! Глянь на них – ишь разъелись, мерзавцы! Зато как воевать, так их и не сыскать, а нам – пожалуйте первыми в рать вступать!.. Не, ты посмотри, глянь-ка!
И он ручищей широко размахнулся, словно на экскурсии виды показывая:
– Жируют, сволочи, резвятся! Да сладко, ангелы, живут: до горла пьют, до сы́та жрут!.. Не, обрати внимание, какие у них хари – сытенькие да упитанные. А у нас на острове ни броги не хватает, ни питы! О кроваре да образии я даже и не заикаюсь...
А в это время какая-то рыжая и наглая деваха пред ними откуда-то выхватилась и на Явана сладострастно уставилась.
– Пойдём, красавец, со мной – не пожалеешь! – проворковала она, кривляясь и вихляясь. – У-тю-тю, моя радость!
Да только Бравыр ей завершить представление не дал. За волосищи распущенные сгрёб он её молниеносно да на вытянутой руке на воздух и вздёрнул. Та, вестимо – в визг да в крик, ручонками когтистыми замахала, ножонками босыми заболтала, да чего-то залопотала, вырваться пытаясь.
А Бравырище жестокий в рожу ей плюнул преточно и прорычал угрожающим тоном:
– Ты куда это, хырла, суёшься?! Разве не видишь, тля, что порядочные черти идут по своим делам и беседуют попромеж себя?!
А эта чертовка ловкая как-то вдруг извернулась, на Бравыровой ручище подтянулась да зубами в неё и впиявилась.
– Ух ты подлая мразь! – возопил тот в негодовании. – У-у-у-у!
Да, размахнувшись широким махом, как запустит её в толпу веселящуюся!
Ну натурально словно бита городошная эта ведьма полетела вперёд и, врубившись в окружающую толпищу, с дюжину чертей фланирующих собой повалила – прямо просеку в их рядах прорубила. Позади шум да гам такие поднялись, что только держись, а Бравыр и ухом не повёл. Не оглянулся даже. Руку покусанную к глазам он поднёс, кровь с раны облизал и вновь языком зачесал.
– Не, ты видел, а? – обратился он к Явану, поддержки ища. – Ну, у этих городских и нравы! И где стыд у них делся?! Одна срамота у бездельников! Тьфу!
Буривой тут не выдержал более и захохотал во всё горло. Он-то сам на чертовок вертлявых не без вожделения поглядывал – охоч был до женского полу, старый греховодник, – только те его не цепляли: кому-де нужен такой старый?
– Чего ты ржёшь, старикашка? – оярился чёрт на Буривоя. – Чай, ведь не лошадь! Смеху, скажу, тут мало – разврат войне не брат!
– Послушай, Бравыр, – смущённый таким жестоким к женщинам отношением и желая на себя внимание отвлечь, спросил Ваня, – а ты, я гляжу, девушек не очень-то любишь, а?
Тот аж остановился и на Ваньку воззрился.
– А ты, можно подумать, их лю-ю-ю-бишь! – издеваясь, он протянул.
А потом на Явана повнимательнее глянул, скривился на харю, сплюнул на мостовую смачно и заметил сочувственно где-то даже:
– Ну и дурак, коли так...
– Зато у меня – не так!!! – заревел он, суровея, и даже ногою топнул в остервенении. – Эти бабёнки вона у меня где!..
И он кулачище сжал и начал пальцами перебирать, словно пойманного комара ими давя. «Ох и досталося тебе, брат, от твоих подружек, видать!» – подумал про себя Яван, но мысли сей не выдал ничем – а зачем?
– Я их, шаромыр продажных – в кулак, да под пятку! – никак женоненавистник не угоманивался. – Ножки мне лизать, рать их побора́ть!..
И Бравырище сызнова руку кровоточащую облизал.
– Пылинки с моих сандалий сдувать!..
– Ну а Борьяна тебе зачем тогда? – Яваха этого грубияна пытает. – Неужели и её – под пятку?
– А чё? И её… А как же! Чем она других-то лучше, харахора оборзелая?! Али ты не слышал, что она с папашей своим учудила?.. Э-э! Все они с одного теста...
– А всё ж как же без любви-то? – Ваня не унимался. – Тошновато же... Пресная жизнь какая-то получается...
– Ты чего это себе воображаешь, – уже спокойнее продолжал этот психопат, – чтобы я, боец высшего разряда, сломя голову сюда бы ломанулся за какой-то смазливой бабой? Ну уж дудки вам – не желаю я тут пропадать! Мне, паря, власть нужна – высшая власть!
И он по груди себя кулаком для пущей убедительности постучал – ажно гул оттуда зазвучал.
– А зачем тебе, чертяче, власть-то? – неожиданно для всех молчальник Сильван голос подал и на Бравыра исподлобья уставился.
Ох и удивился же тот! Тормознул он резко, как словно вкопанный встал, и слова даже не мог сказать – начал ртом воздух хватать…
Потом всё же оклемался, в сторону Сильвана пальцем потыкал и поражённо воскликнул:
– Это надо же – обезьяна чертячьим языком заговорила! Ну и дела-а...
Буривой, конечно же, такого выкрутаса со стороны этого козопаса не ожидал, поэтому первый не выдержал и закатисто заржал. Да и прочие его поддержали и что твои лошади зареготали. Один Яван внешне невозмутимым остался и смеху дурацкому не поддался. А у лешака обиженного шерсть на загривке стала подниматься и глаза кровью начали наливаться... Видя такой оборот, ему не нужный, Яваха в бок его локтем предусмотрительно саданул и подмигнул заговорщицки: потерпи, мол, братуха, слегонца – не дубасить же в горячке этого наглеца...
– И никакая это не обезьяна, а брат мой названный, – Яван Бравыру ситуацию объясняет. – Дикий это чёрт, лесной великан. А зовут его – Сильван.
Тот же головою охотно кивает: ага, дескать, всё понимаю...
– Говоришь, Сильван? – усмехаясь, Ванюху он вопрошает. – А по виду – ну чисто обезьян! Ха-ха! Я-то думал сперва, ты зверька с собой волокёшь для забавы. Ну-у... дрессированную такую обезьянку. А это – ва-а! – смотри ты! – ещё и говорит. А как люто глядит!
И захохотал смехом злорадным, весь трясясь и за брюхо держась.
Яван же, дабы возникшее напряжение снять, вопросец Бравырке кидает опять:
– Так зачем ты бишь, говоришь, власть поиметь норовишь, а?
– Ха! А то ты сам не знаешь, зачем черти к власти стремятся! В кои-то веки и мне удача поблазнила. Это ж надо – с самим царём могу породниться, коли дочку его у других удастся отбить!
И он неожиданно остановился и даже глаза закатил в предвкушении предстоящего турнира.
– Ух, я как лев на махалове буду биться – как даже дракон! А когда турнир выиграю, то уж после того не растеряюсь – как есть на всех моих начальничках отыграюсь! Засели, твари, наверху, ни ангела о жизни не знают, а нас поучают. А тут я – раз! – по мордасам всех, по мордасам! – и уже зятёк царский! Это ж автоматом высокий чин! Не менее, чем на начальника потяну... А может статься, и во властители влезу. А чё? И влезу! А там и до предстоятеля рукою подать... Мне, Буйвол, положение высокое – во как надь!
И для вящей наглядности ребром ладони по горлу он себе провёл, лошадиные зубы оскалив и красный язык вывалив.
– Всё же прогнило, к ангелам собачьим! – продолжал он ругмя ругаться. – Черняк-то, между нами, староват уже стал, к делам насущным на глазах холодеет... Видно, на печке старые кости греет... Ни для кого ведь не секрет, что за него этот пройдоха Двавл да мой шеф Управор всё разруливают – а толку-то! Один должон властвовать, один! Дел накопилось – невпроворот: людишки от рук отбилися, с нашего путя́ воротят, черти чужие так везде и лазят, где только захочут! А унять их и некому. Все, понимаешь, дипломатию гнилую разводят, с послами ихними тары-бары растабаривают... Нет бы их – хвать! – и на фиг! Желающих воевать с этими гнусами попробуй-ка сыщи. Уж не эти-то хлыщи... У-у-у! Я-то сам воевать люблю. На войне я родился – ей и пригодился. Семь раз уже убитым был, все восемь своих жизней бьюсь да сражаюсь, а до сих пор в не шибко высоких чинах обретаюсь...
И пошёл своими подвигами блестящими хвастать. Такого порассказал, что только за уши держись, чтобы не завяли ненароком. И чё там в его россказнях правда была, чё там была ложь – ни шиша и не поймёшь. Потом он сызнова на начальство перекинулся, так сказать на любимого конька уселся; как принялся костерить их да клеймить почём зря – ну прямо не унять...
Больше всего от его нападок Двавлу досталось, как чужого ведомства никчёмному главе, а своего шефа Управора он поначалу не трогал и даже начал его похваливать, но потом вовремя остановился, кисло скривился да и говорит:
– Не, всё-таки Управор не совсем того... не дюже ладно делами заворачивает. Да и вообще... болван он, ага! Бездарное существо. Недотёпа какой-то... А-а! Одним словом – блатняк! Из-за папаши своего только и вознёсся. Уж я бы правил не так, как этот дурак. Ух и показал бы я им! Ы-ы-ы!
Размечтавшись, он так разошёлся, что на подвернувшегося на пути биторвана налетел. Тот как раз у обочины стоял и безмятежно в носу ковырялся. Освирепененный Бравыр, в грёзах, возможно, на месте Управора себя представлявший, ка-ак пиханёт вдруг от себя блюстителя порядка зазевавшегося! Тот, не ожидавший такого напора, враз с ног-то долой – да об стену головой!
Там, бедняга, и остался – видно, с сознанием порасстался.
– Я гляжу, ты и биторванов не опасаешься, – Яваха уважительно замечает.
– Вот ещё! – выпендривается тот. – А с какой стати я их бояться должон?
– Ну так, вообще... А ежели он пламенем своим пальнёт по долгу службы – тогда что?
– Ха! Да плевать я хотел на них со всем их дерьмовым пламенем! Крысы тыловые! Голову даю на отсечение, что никто из них ангела живого не видал – в момент бы, твари, в штаны наклали!
– Да и какое там у них пламя, – скорчив харю, он продолжал, – Так, хлопушка, не более... Я и не таковское пламя видывал, да-а... Сгорал даже дотла, и пылинки от меня не оставалося, – и он быстро переменил тон и добавил гордо. – Да теперь-то мне опасаться нечего, ибо у меня средство от любого огня имеется. Во!..
И он побитую фляжку с пояса отцепил, крышку у неё отвинтил и Явану хлебнуть предложил. Тот с любопытством пойло баклажное понюхал и чуть было в дугу не скрючился, ибо такая вонь оттуда высачивалась, будто крыса дохлая там вымачивалась. Наотрез Яваха от предложения сего отказался, а Бравырище довольно хохотнул, флягу взболтнул и добрый глоток оттуль отхлебнул. Потом крякнул, крышку завинтил и флягу Явану тычет.
– На вон, держи, – говорит снисходительно. – Дарю!.. У меня этого добра хоть залейся... А ты, Буйволина, не смейся, говорю тебе – лучшего средства от пламенного оружия нету.
Яван, недолго думая, эту фляжку раз – и в сумку. Авось и впрямь пригодится-то, думает? А сам Бравыра похваливает: вот же, говорит, и щедрый ты чёрт, не то что остальные, жадные да скупые!
А и в самом-то деле – странным на фоне других был этот ярбуй Бравыр, настоящий, с лихвой даже, мужчина, по рангу четвёртого чина, от прочих чертей отличный и в чём-то даже приличный. Был он скорее на плохого человека похож, чем на хорошего чёрта... Это, видать, питание на него так подействовало, смекнул про себя Ваня. Известное ведь дело – что мы едим, из того и состоим, а из чего состоим – тем во многом и являемся... Эх, размечтался Ванька, вот если бы всех этих чертей, людское горе едящих, перевести бы на простой чистый харч, тогда бы, может статься, и удалось многих из них от неправого пути отвадить...
И, о том да о сём балакая, до цели своей они наконец дошкандыбали.
Рейтинг: 0
506 просмотров
Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Новые произведения

