Большевичок
16 февраля 2014 -
Лялин Леонид

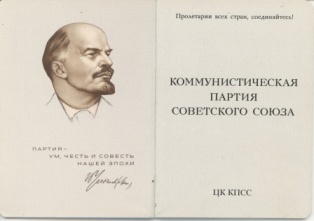
Лето тихо умирало. Из неприветливого оловянного неба, вспученного грязными отрепьями облаков, готов был выпасть мокрый дождь. Порывистый ветер, подвывая, бился в окна серых зданий. Казалось, что само небо плакало, словно малое дитя. Под скукоженными деревьями корчилась и шуршала опавшая листва.
- Ну и жизнь пошла, ядр-рена мама! - с рычащей отрывистой интонацией в голосе матерится в пивном баре отставной полковник, стоя за одноногим столиком а-ля фуршет. - Все у них пинком наизнанку! Разве можно так выжить? - тут не отвечать, а требуется слушать.
Мерзопакостная мгла навевала меланхолию и уныние. Чувствовалась тоска, разбавляемая слабым треньканьем замученных трамваев. Из автобусов дуло. В такую погоду хотелось выпить стакан водки, набить кому-нибудь морду, а потом с глубоким чувством выполненного долга завернуться в теплый плед и уснуть.
- Опять цены скаканули как д-давление, - отставник, вибрируя от нервов бровями, суетится призраком забытого прошлого в углу прокуренного пивбара. - Инфляция, эта продажная девка к-капитализма, размножается как с-сифилис! - демонический пенсионер с глазами дохлой рыбы исступленно тычет скрюченным пальцем в газету и сметает ее на пол как мусор. - Страсти г-господни! - некрещенный атеист с понедельником в голове вспоминает в сердцах бога.
Старика зовут Одой Сергеевич. На вопрос: «Откуда такое нелепое имя?», заржавленный дед всегда отвечает: «Матушка, после моего рождения, вместо того чтобы сходить в церковь и окрестить, пошла в сельсовет, где пьяный одоевский писарь записал меня в амбарную книгу под именем «Одой!»
В пивнушке было душно. Сквозь слоистые облака табачного дыма еле-еле виднелись ноздреватые своды, с которых на израненные рыбьими костями столики капал блестящий пот присутствующих. Черные бра на стенах моргали как лампадки на панихиде. Справа от небольшого росточка пенсионера рекламный щит «Лучше пива водки нет!» с сарказмом смотрел на пьяных посетителей.
- Все льготы эт-та отняли, ети их б-бабушку и всю дорогу по неудобному, - взяв в руки бокал с пивом малахольный старик со злобной сосредоточенностью на сморщенном лице, вместо того чтобы радоваться, что живой, продолжает матерно тарахтеть полосатым геморроем о пол. - Воистину, как говорил э-э поэт «Были хуже времена, но не было подлей», - дед по крысиному зыркает по сторонам, что у окружающих вызывает смешки.
У обшарпанной стойки бармена с пустой стеклянной витриной стоял беззлобный матерный галдеж. Толпа работяг вспухала и пульсировала от напора жаждущих получить пиво без очереди. Спертый воздух обволакивал сумрачный зал, словно туман. Над гамом и возней посетителей, будто насмешка слышался голос одного из пивопойцев, который напевал слова сакральной песни: «Губит людей не пиво, губит людей вода!»
Набухшие перебродившим солодом мужики терракотовыми приведениями проплывали мимо по окуркам и рыбьей чешуе на полу. Из сырой подсобки тянуло скандалом. Окна были затянуты пивными парами. Было тревожно, как перед началом партсобрания.
- Сталина эт-та на них н-нет, - заикаясь от негодования, безумный старик выглядывает канареечной лысиной с пигментными пятнами из-за проголодавшегося столика, как задница из кустов. - П-поубирали бы эти младореформаторы с-снег в Сибири. В-весь! Мало бы э-э не показалось, с-сапог им в глотку, яйца в кошелку! - от зловещих слов, веющих Колымой, на потном потолке лопается запаутиневшаяся могильная лампочка, от чего становится еще страшнее.
Пенсионера-пионера завсегдатаи пивнушки зовут «Большевичок». Он прошел путь от овуляции агрессивного сперматозоида до не терпящего возражений советского полковника. В отставке.
Родившись в глухой предвоенной тульской деревушке, Одой как Филиппок окончил сельскую избу-школу, потом советский токарно-слесарный институт, после чего чтобы не работать на заводе записался в армию. Для этого даже вступил в коммунистическую партию. Одним словом - «пиджак».
Однажды на службе ему как-то поручили задание. «Пиджак» отказался его выполнять, с апломбом заявив: «Я его перерос!» После этого начальник перед началом очередного совещания всегда спрашивал: «Где наш переросток? Здесь?»
Всегда все одобрял, если надо - осуждал, потребовалось бы - расстрелял. В жизни никогда не колебался, а если и колебался, то только вместе с генеральной линией Партии. По взглядам - старик безудержный до окаянства левый большевик. Левее только стенка - расстрельная, куда он мысленно ставит оппонентов, когда у него кончаются терпение. Не такие ли людишки в тридцать седьмом боролись с «врагами народа»?
Большевичку не хватает марксизма, советской власти и карательных органов. Кроме жизни при КПСС пенсионер ничего не знал, да и не видел. При капитализме не жил, а переучиваться - поздно. Дед всю жизнь мистически верил в коммунизм, как девушки в непорочное зачатие. От него до сих пор пахнет совнаркомовскими галошами. Большевичок даже видел Ленина. В гробу.
Одой с лихорадочным блеском в глазах много говорит о будущем России, хотя сам еще не разобрался с ее прошлым. Отставник еще витает в старорежимном времени. Не достигнув генеральских вершин с возрастом, «переросток» стал злобным консерватором, зубоскалящим везде над современной армией и обществом. Слушая его хочется напиться и повеситься.
Старик с разбухшим от злости сердцем любит фанатично изгаляться над новыми российскими правителями, которые предали одну идею, а новую еще не придумали. По его мнению, современная жизнь - это живое надругательство над устоями морали. Достается и простым людям, которые попадают в уборной под его злую струю. Покоя от него нет никому. Воистину, как говорил один из классиков: «Маленький клоп страшнее сатаны».
Порой похожий на ощерившегося дворового кота, в глазах которого беснуется очередная драка, Одой Сергеевич из мерзкого духа противоречия постоянно встревожен. Особая страсть - нетерпимость к людям. Кажется, что он оборотень или энергетический вампир, питающийся жизненными силами окружающих. С упорством швабры и спесью бывшего военного чиновника хвастается характером: «Я корявый!» Невыносимая гомогенность старика не вызывает никаких сомнений.
Доподлинно неизвестно кто, где и когда заронил Одою в душу семена вечного недовольства. Кто его обидел, отравил душу злостью, ревностью и завистью? Семья? Школа? Может, он курсы какие-то дополнительные кончил?
Ощущение, что в детстве его уронили с молотилки, после чего у него на всю жизнь возникло чувство обойденности и обездоленности. Появилось стремления как-то подняться, возвыситься, снять обиду. Грубость и нескладность в душе у Одоя Сергеевича разрослись чертополохом.
Хорошо, что старик из-за ветхости забывает то, что говорил накануне, наглядно доказывая аксиому: «Между маразмом и склерозом, лучше всего иметь склероз - забываешь о маразме!» На него часто жалко смотреть. Старость - не радость.
Свою дряхлость скрывает нудными нравоучениями и воспоминаниями о советском времени, которые у окружающих вызывают головную боль. От чувства своей гениальности часто выглядит старым дураком с фанабериями. Может из-за таких индивидуумов и не любят стариков? Хотя, что мы знаем о старшем поколении? Ничего!
Все-таки странная штука - жизнь. Ребенок при рождении, словно чистый лист. Проходят годы, человек взрослеет, обогащается знаниями и мудростью человечества. К закату жизни мы как-бы должны стать самим совершенством. Ан-нет, не редко получаемся такими, как Одой Сергеевич. Почему?
- Т-такого бардака эта при с-советской власти не было! Все были равны! - сердитый дед с вздутыми сухожилиями мозга моргает пергаментными веками и ядовито продолжает стонать, будто из одинокой могилки. - Зажрались, г-гады! - вздорный старик пьяным голосом бьет по окружающим, будто разрывной шрапнелью.
Подсвечивая зал багровой от волнения лысиной, Одой продолжает тифозно бурфектовать желчными мыслями то ли от песка в почках, то ли от простатита. От его хрипа бокалы начинают нервно дребезжать. Шторы на окнах заворачиваются в стальную стружку. Капли пролитого пива на столе символизируют слезы деда по коммунизму. Кот, дремлющий на подоконнике, подымает голову и вопросительно шевелит усами: «Драка скоро или как?»
- Дед! Не грусти! - обнимая Одоя за плечи, пытается успокоить его приятель по пивнушке, Владимир Николаевич, такой же военный пенсионер, но помоложе. - Конечно, плохо сидеть в куче дерьма без лопаты, но все будет хорошо, - натянув на лицо лукавую улыбку, как презерватив на забор, с дурнинкой в бесстыжих глазах «молодой» продолжает. - Мы новоявленных распутиных переживем! - слова разбивается о лоб Большевичка, как волна о камень.
В отличие от «старшего» Владимиру Николаевичу на пенсии было хорошо. На «гражданке» после офигенной службы на безумном Тихоокеанском флоте ему нравилось решительно всё. Он не утратил чувства юмора и мечтательности, спасающих его от суровой российской действительности.
С некоторой придурковатостью, что делало его практически неуязвимым, он благодушно наслаждался жизнью. Каждый день, безмятежно попивая пивко, улыбался и радовался, да так что морда лица от счастья чуть не трескалась. Про «политику» разговоры не вел, зная, что от его «пенсионного» мнения в жизни ничего не изменится.
У одессита Владимира Николаевича, где-то похожего на биндюжника на покое к таким как Одой Сергеевич еще со времен службы была идиосинкразия. Он терпел их, как слабительное. Любил с мерцающей улыбкой на губах послушать и понаблюдать за очередным закидоном «пиджака», зная, что во флотской среде такой публики не было. Экипаж рихтовал человеческие характеры быстро.
Сами посудите. Месяцы без берега и семейной жизни в замкнутом ограниченном пространстве корабля в небольшом человеческом коллективе, где прыщ на лице товарища становится, как родной. На корабле каждый знает друг о друге всё - характер, семью и любовницу, увлечения и триппер, горести и радости. Кто что ест, пьет, кого и как «любит».
В море моряков постоянно сопровождают одни и те же боевые посты с ограниченным жизненным пространством. Если будешь кого-нибудь доставать, то могут быстро облик лица подправить или просто за борт выкинуть.
«Молодой» с лицом добродушно улыбающейся лошади в буфете, вместо того чтобы как на Одессе просто ответить пехоте: «Не раскачивай мне нервы, их есть, кому расчесывать!», берет графин с пивом, подливает деду в кружку, чтобы тот хоть минуту помолчал.
Соблюдая сакральную пивную ритуальность, доливает себе. Как боцман, облизнувшись, благоговейно берет очищенную от чешуи спинку воблы. Делает жертвоприношение и смачно сосет серьезную на вкус сушеную рыбину. За картиной чревоугодия с завистью наблюдает рыжий таракан, застывший среди ободранной рыбьей чешуи.
- Одой! - Владимир Николаевич, хорошо зная деда, ему не перечит, но не может удержаться от риторического вопроса. - Впервой что ли в России кризис? Почитай Карамзина, Соловьева, Ключевского, - вопреки желанию рассказать какую-нибудь юморную байку, флотский с замысловатой логикой продолжает иронически ерундить. - Их в современных суждениях обвинить нельзя, но они тоже описывали сто-двести лет тому назад, то, что у нас сейчас происходит, - «аристократически» вытерев рукавом свитера пивную пену с седых усов, «молодой» умничает, лишний раз, доказывая народный постулат «Пиво пить - это вам не в шахматы играть. Здесь думать надо!». - Сколько в России было катаклизмов, но все ушли в небытие. Прорвемся!
- К-куда? - дед белеет. Вибрируя семидесятилетней селезенкой, боком наскакивает на Владимира Николаевича, чуть не опрокидывая столик. - В задницу п-пьяного сапога? - отзвук голоса старикашки отзывается в зале как щелчок выстрела в висок.
Одой Сергеевич, словно мучимый тошнотой, захлебывается желчной слюной в горле. Пивной насос у бармена начинает шипеть, будто смеясь над ним.
-Так мы в нем уже к-ковыряемся м-много лет, а дна у него не видно, - дед с искаженным от гнева лицом продолжает бесчинствовать. - В-вчера эт-та одни законы, сегодня другие. Те и э-эти никем не выполняются. У н-них эта по семь пятниц на неделе, - «любитель посолить селедку», как говорил Максим Горький почесав дрожащими руками съежившуюся в комочек горбатую мошонку, капризным тоном стучит языком о столик. - Правители г-гонятся за долларом, чтоб он с-сгорел. Нефти не хватает на всех! Военных свели к положению швейцаров в к-кабаке! - в бокале с пивом отражается лысина старика с синеватой ссадиной от граблей.
Владимир Николаевич в пол-уха слушая Одоя Сергеевича невидящим взглядом смотрит в пространство. Задумчиво шевеля на столе скелетиком воблы обглоданные рыбьи кости, вспоминает своего последнего замполита Колю-ортопеда. Тот, как и Большевичок тоже любил кудряво говорить лозунгами и девизами о советской власти, долге и чести офицера, а сам перед очередными выборами в Верховный Совет назюзюкался до поросячьего вида и встретил утром начальника политотдела с бешеным «выхлопом», без головного убора и в носках. Фуражку и ботинки у него ночью стащили матросы.
- Дед, охолонись! - флотский пенсионер, смахнув воспоминания, отхлебывает пиво и с пьяной насмешкой смотрит на сатанински одухотворенного старика, как на сумасшедшего с искренним желанием отвесить ему добрый смачный поджопник, чтобы язык отнялся. - Не ори, всю воблу распугаешь! - и обглоданной костью решительно пришпиливает затаившегося таракана на столе.
- Старый пердун! Вот из-за таких болтунов и просрали великую страну! - мужик в мятой кепке и замасленной спецовке стоящий за соседним столиком, будто угадав желание Владимира Николаевича не выдерживает и обращается к своему дружбану. - Дать бы деду пенделя, да грех на душу не хочется брать!
С открытым ртом, будто вагина перед опылением, «переросток» ковыряет пальцем в ухе и вытирает серу о мятый, пахнувший большевизмом пиджак. Сконфуженная вобла на столе начинает моргать соленым глазом. Злые, как Большевичок, мухи взлетают над столом.
Хмыкнув, флотский архаровец с языком под мышкой смотрит на старика и не может отрешиться от забытого чувства, что находится не в обычной пивнушке, а на серьезном партсобрании. Как двадцать лет назад. Ему становится страшно. «Неужели через некоторое время и я стану таким как Одой?»
- Я понимаю, что из мужских органов, у тебя остался твердым только палец, - «молодой» сморщив губы в сарказме, раззадоривая старика, закуривает термоядерную «Приму». - Оглянись вокруг. Гражданским пенсионерам еще трудней. У них пенсия, на которую можно только разве что два раза поссать мимо унитаза. На большее просто денег не хватит, - хочет стряхнуть со стола слова отставного полковника, но не получается.
- Вглядись в русскую многострадальную историю. На казнокрадство, бояр, князей, чиновников и олигархов. На Руси из века в век повторяется все снова и снова.
Огрузневшие от пива посетители за соседними столиками доливают себе в бокалы водочки и с немым недоумением слушают разговор двух старперов, то есть, как пиво побеждает ум.
- Ты, только не лепи из меня д-дурика. Ладно? - с перекисшей душой Одой начинает ездить чумой по мозгам собеседника. - Когда я уже носил шинель, ты эт-та еще капелькой висел на заборе. Н-не надо мне «мужскими органами» по г-голове стучать. Ты дело г-говори, а не ликбез п-проводи, - старик, забыв о пиве и вобле, начинает от нервов припадочно подпрыгивать перед столиком.
Втянув голову в плечи, как геморрой в задницу Владимир Николаевич пригибается от плевков горячими углями, словно под обстрелом и сдерживает позыв ответить Большевичку про «забор». «Нас тоже не топором делали в поленнице».
Флотский, запив бред горе-патриота смачным глотком пива, хочет напомнить пехоте, что согласно Военной присяге тот до последнего дыхания не был «преданным своему народу, своей Советской Родине и Советскому правительству» и государство, которому присягал на верность - не защитил.
Казарму только в кино видел. От лейтенанта до полковника провел «бои» в кабинетах, перекладывая бумажки с места на место и поедая, как волчара не согласных с его мнением подчиненных. Дежурно-вахтенную и караульную службу не нес, в окопах не сидел, про полевые учения только в учебниках читал на военной кафедре института. С рядовым личным составом не работал, настоящей службы не видел. Не знает даже с какой стороны подойти к обычному солдату, зато сейчас все знает, во всем разбирается.
Застегнув живот и неся ответственность за то, что вовремя Одоя не послал за горизонт, флотский обалдуй делает очередной добротный глоток пива и крякает от удовольствия. В очередной раз затягивается сигаретой и толкаемый чертом на левом плече, бесшабашно продолжает:
- Через двадцать лет после Октябрьской революции, где были все царские полковники? - Володя, улыбаясь, смотрит на уши кислотного старика, похожие на рога полковой коровы и думает: «Тебе бы Одой не пиво, а ромашку пить и священника пора звать, а ты все разглагольствуешь о политике».
- Г-где, где? В звизде! Не томи, г-говори дальше! - все больше сатанея матерно бурчит отставник, сжимая трясущейся рукой взопревший бокал.
- Где? - сделав артистическую паузу, повторяет вопрос флотский чудик и с «умным» видом, что ему ну никак не идет, распевно отвечает. - «В тундре, на широкой дороге, по которой шел поезд Ленинград-Колыма». На лесоповалах, осваивая суровые дальневосточные просторы нашей любимой Родины. Это в лучшем случае. Многих из них «вздернули на реях», то есть расстреляли, царство им небесное.
Владимир Николаевич тушит окурок о рыбную чешую, скорбно перекрещивается и вспоминает знаменитый Владивостокский флотский экипаж на Второй речке, где был по молодости ротным командиром. Из этой бывшей пересыльной тюрьмы в страшные времена отправляли людей на баржах в магаданские лагеря.
- А ты живешь, можно сказать, в Европе, рядом со столицей. Приговорен не к стенке, а к хорошей пенсии и критике современной жизни. По сто-двести рублей каждый год подбрасывают, - «молодой» звенит мелочью в кармане, хотя хочет ругнуться матом.
- Квартиру от государства на халяву вырвал? Вырвал! И не на Колыме, заметь. В черные списки бывших Красных Командиров не внесли? Не внесли! Дают возможность переходить тебе на красный огонь светофора и носить красные генеральские лампасы на кальсонах, о которых ты всю жизнь мечтал? Дают! За то, что был агрессивным коммунистом, не преследуют по политическим мотивам? Нет!
«А пора бы это сделать», - думает хитрый черт на плече Владимира Николаевича, помахивая покусанным чертенихой хвостом.
- Радоваться бы тебе и радоваться, ежедневно повторяя: «Жизнь прекрасна, сосед мне должен три рубля!», а ты все стонешь и стонешь, разбавляя пиво желчью, - «молодой» пенсионер, очередной раз счастливо улыбнувшись, продолжает «воспитание» старика.
- Тебе дают возможность каждый божий день пропеть одну и ту же «песню», критикуя капиталистический бардак? Дают! Не расстреливают три года подряд и каждый день до смерти? Нет! - флотский, следя за наполненностью бокалов, напоминает старику. - Одой! Ты пиво то подливай, не жлобись! Здесь «шестерок» нет! - Владимир Николаевич делает много значимую паузу и выдает очередную «сентенцию».
- Вообще-то ты враг этим правителям! «Пятая колонна», готовая в любой момент сунуть нож в демократическую спину капитализма, - флотский сияющий, словно кафель в гальюне с сожалением как отец на младого сына-придурка, смотрит на старика. - А ты все: плохо да плохо. Жить нам, да жить, молиться и благословлять надо наших правителей! Радуйся чудак, что не лишили званий и регалий, угла, пенсии, куска хлеба, жизни, наконец, не заставили эмигрировать в какой-нибудь полярный суринам!
Большевичок, вместо того чтобы успокоится, и закусить пиво воблой, с лицом, будто крысой подавился, злорадно начинает грозить окружающим сморщенным кулачком.
- Я еще п-покажу им кузькину мать! Они еще пожалеют! - мутное окно тяжелеет от беременных капель начавшегося проливного дождя.
Рейтинг: +4
652 просмотра
Комментарии (6)
| Серов Владимир # 16 февраля 2014 в 12:02 +2 | ||
|
| Лялин Леонид # 16 февраля 2014 в 12:13 +1 |
| Лялин Леонид # 19 февраля 2014 в 18:26 +1 | ||
|
| Александр Виноградов-Белый # 4 мая 2014 в 10:14 +1 | ||
|
| Лялин Леонид # 12 июня 2014 в 20:28 0 | ||
|






