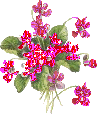Сталинградские сны
13 июня 2017 -
АНДРЕЙ ГЕННАДИЕВИЧ ДЕМИДОВ

АНДРЕЙ ДЕМИДОВ
СТАЛИНГРАДСКИЕ СНЫ
РОМАН
Глава 1
День 2-го августа 1942 года,
Авангард 208-й стрелковой дивизии
- Эй, там, не материться я сказал, аж с души воротит!- старшина обернулся, строго оглядел поверх голов первой шеренги красноармейцев, длинную, пыльную змею батальона, медленно выползающую на пологую возвышенность, за которой, вдалеке, будто разорванные, и брошенные в траву стеклянные бусы, среди плотных серо-зеленых кустарников, поблёскивала река Курмояровский Аксай. Она то пряталась за крутые берега речной поймы, в местах, где делала повороты, то виднелась вся. В одном месте, рядом с узкой полосой лесопосадок из речной долины слегка приподнимались рыжие крыши калмыцкого села Караичев, мимо которого батальон прошел на рассвете, ещё дальше серые полоски свиноферм совхоза имени Ленина с серебряным гвоздём водокачки, а совсем на горизонте на западе, вверх поднимались три вертикальных столба черного дыма, которые на той высоте, где обычно бывают облака, начинали загибаться на северо-восток, туда, в сторону Волги и Сталинграда.
Кто-то из шеренг бойцов не то заворчал, не то пощутил:
- Ну, вот, сначала ни шагу назад, потом не матюгнись, потом ходи по нужде по списку …
Старшина цокнул языком, покачал головой, но ничего больше не сказал, он всё ещё шел, полуобернувшись назад, глядя на эти три огромных чёрных дыма, в основании которых находилась станция Котельниково, на которой, начиная с полуночи этого второго дня августа, начали разгружаться эшелоны с Дальнего Востока, с батальонами из их 208-й стрелковой дивизии.
Старшине было жарко и душно, как и всем.
Наконец он повернул голову по ходу движения, скользнув взглядом по короткой полосе защитных лесопосадок невдалеке от дороги, за которыми, виднелись разномастные крыши села Нижние Черни, и извилистые берега Курмояровкого Аксая. Впереди тоже были дымы, но только очень-очень далеко. Не дымы, скорее чёрно-серо-голубая стена дыма поднималась из-за горизонта в синее небо. До этих далёких дымов на северо-востоке, лежала гладкая как стол, буро-жёлтая степь. От края до края, и из под ног, уходила она в бесконечность, за горизонт. Сверху степь была накрыта однотонной синей плоскостью высокого неба, в котором, беспощадно спалив ранним утром все облака, неподвижно висело солнце. Кое-где в степи, убегающей на восток, в Калмыкию, виднелись горбы курганов, зелёно-серые полоски кукурузных полей, оранжевые пятна плотных зарослей подсолнуха, буро-зелёные пятна степных разнотравий, рассыпанные бисером стога сена и пылевые хвосты от чего-то, передвигающегося в разных направлениях по видимым и невидимым отсюда дорогам и тропам, этим извилистым сухим колеям, пробитым за многие-многие годы в невероятно живучем травяном покрове. Обычно безлюдная степь теперь была вся в движении. Везде виднелись черные точки, чёрточки, нитки, идущих и едущих в разных направлениях людей, лошадей, коров, овец, верблюдов, машин, тракторов, повозок. Земля под ними пылила ручейками и облачками, или реками пыли. И всё это вместе, дрожало, словно на поверхности не то озер, не то слоёв раскалённого воздуха. Может, там действительно было озёра, только вот плескались они чуть выше уровня горизонта. В небе, то ближе, то дальше, в основном на западе, висели, медленно перемещались в голубом небе серые точки самолетов. Иногда они вспыхивали как искорки, когда солнечный свет отражался от стекол их кабин.
Старшина отчего-то провёл пальцем по зелёным треугольникам в своих петлицах, сощурился больше обычного, отвинтил крышку пузатой фляги, и набирал в рот полглотка тёплой воды.
- Опять у Михалыча халхингольские штучки будут сейчас - слегка повернув голову направо, тихо сказал идущий во второй шеренге долговязый красноармеец, на котором, кроме винтовки СВТ-40, скатки шинели, каски, подсумков с патронами, сумки противогаза, саперной лопатки и вещёвого мешка, была навьючена катушка с чёрным проводом полевой связи...
Его сосед справа, несущий за спиной сразу три вещевых мешка только вздохнул, хлопая рыжими ресницами.
Старшина тем временем держал глоток воды во рту, наслаждаясь ценной влагой.
У красноармейца с катушкой провода и его товарища, вода кончилась ещё на рассвете. Говорить не было сил. Они, как и все, не спали пол ночи, не ели и шли без остановки уже десять часов. Пилотки у обоих были сдвинуты на затылок и не падали лишь оттого, что стрелки шли, наклонившись, и вытянув вперед, как лошади, черные от пыли и пота шеи. Густая пыль прилипала к мокрым лицам, въедалась в новые гимнастерки, запорашивала обмотки, ботинки. Была в носу, во рту, в ушах, в карманах, на оружии, в сумках, в воздухе, и казалось именно из неё, мелкой и обильной, словно рассыпанный вокруг серый цемент, и была сделана вся эта степь.
Не было видно, но было понятно, что старшина, наконец, проглотил свою воду.
Красноармеец с рыжими ресницами пробубнил:
- Слушай, Петь, Петя…Я кажись, ногу стер. Правую. Саднит, сил нет…
Петр, перекинул катушку с проводом на другое плечё, вздохнул и облизыал потрескавшиеся губы:
- Отвяжись ты, Петрюк, у меня на плечах синяки от провода, пушкой на ногу наехали при разгрузке, и в животе крутит как штопором. Что нога…Не оторвало же… На привале посмотрим…
-Так у тебя все просто… Ты лучше скажи ещё, Петь, отчего во всей дивизии ты один с Москвы…Чего к нам занесло тебя, Надеждин Пётр…
- Да не один. Вроде есть еще…А у тебя почему фамилия украинская…Украина от Дальнего Востока ещё дальше, чем Москва. Из ссыльных сам, что ли…
Петрюк призадумался. Это было видно по выражению его веснушчатого лица и серых глаз, которые от яркого солнца казались вообще бесцветными.
Среди идущего впереди взвода ПТРщиков, кто-то начал неуверенно запевать:
- Есть на Волге утес, диким мохом оброс…
Запевалу поддержали слабо.
Голоса рвались отдышкой, не вытягивая длинные фразы былинной песни, и она вскоре утихла. Длинные тела двенадцати ПТРСов, каждое из которых несли по двое красноармецев на своих плечах, качались при ходьбе, словно весла лодок, уносимых течением.
Где-то сзади затянули иное.
Это запела третья рота, которая шла в хвосте колонны, за ротой 45-мм противотанковых пушек, и перед вереницей конных повозок с десятисуточным запасом продовольствия и боекомплектом. Сейчас эта рота, почти полностью набраная из казахов, была почти скрыта от глаз в пылевом облаке.
Через шум, издаваемый при ходьбе тысячей бойцов, увешанных снаряжением, двадцатью повозками, полусотней верховых лошадей и тремя гудящими перегретыми моторами полуторками ГАЗ-АА, идущих в колонне, это заунывное пение, почти без слов, было еле слышно.
Ровная, без украшений мелодия неведомой большинству песни, сливалась с жарким воздухом и гулом, идущим отовсюду, от земли, от неба, и от движущихся в степи и в небе точек. Эта казахская песня была очень похожа на этот липкий от безветрия, душный воздух, который дрожал и колеблется над жёлтой травой.
От неё, запах разогретой солнцем полыни, пыли, и тревоги сделался, как будто, сильнее…
Кто-то за спиной Петрюка не выдержал, и сипло крикнул, повернувшись назад:
- Братцы родные, не тяните душу, не тяните это всё, и без вас жуть как муторно!
Казахи то ли поняли, толи допели, но умолкли, толи посреди слова, толи нет.
Опять все некоторое время шли молча.
Теперь, у поворота дороги, в обход лесопосадок к Курмояровскому Аксаю, к крышам Нижние Черни, уже не поодиночке, а группами, почти вереницами, стали попадаться, идущие в том же направлении, от Котельниково на восток, люди: калмыки, русские, с возами, навьюченными верблюдами и лошадьми, пожитками, детьми, стариками, конные, пешие, с коровами и козами, даже, однажды, с десятком крикливых гусей. Уже несколько раз до этого командиру батальона, ведущего батальонную колонну, приходилось на повышенных тонах требовать освободить дорогу. Теперь он вынужден был ехать всё время впереди, потому, что на пути их движения беженцы, шли уже почти толпой, а на повороте дороги к реке стала различим крупная помеха движению: несколько тракторов ХТЗ впряженные в хлебоуборочные комбайны «Коммунар», и в прицепы, заполненные с горкой, разнообразным сельскохозяйственным инвентарём и домашним скарбом. Тракторы надрывно рыча и пуская сизые струи выхлопных газов, еле двигались.
Небольшой, и не освежающий, а всё такой же жаркий, как воздух, ветерок, сзади, с юго-запада и запада, приносил гулкой рокот фронта, словно невидимая пока гроза пробовала свои силы.
Когда ветерок был чуть сильнее, гул грохот разрастался, и становились слышны отдаленные гулкие вздохи, толи взрывы тяжелых авиабомб, толи взрывы промышленных объектов. Потом звук вместе с ветерком слабел, и, казалось, что фронт мотается туда-сюда как детская скакалка.
Все невольно прислушивались, невольно стараясь прикинуть расстояние до него.
В небе постепенно рос гул, и, наконец он вырос в натруженный гул самолетов.
Все кто был на дороге, закрутили головами. Во многих глазах появился страх: “Неужели началось…".
Но нет, скорее всего это были свои. Самолеты приближались откуда то с северо-востока, со стороны Абганерова.
Штурмовики Ил-2, тремя звеньями, блестя новой заводской краской, с огромными красными звёздами на крыльях, демонстрируя фугасные бомбы ФАБ-100 на наружной подвеске, низко и грозно прошли над колонной.
Замыкающая строй тройка самолётов краской не блестела. На крыльях и фюзеляже одного из них, виднелось множество заплат и мелких дырок, и размашистая надпись белой краской «Гроза». У другого штурмовика было не убранно одно шасси - он так и летел, как утка с подбитой лапой.
Если бы можно было посмотреть против ослепиляющего солнца, то там, высоко-высоко, можно было бы увидеть, как крутились маленькие точки истребителей.
Там шёл бой. Очень высоко, даже звук до земли доходил еле-еле.
Штурмовики медленно превратились в чёрные точки и, унося свои прыгающие по земле тени, один за другим скрылись за холмами на юго-западе, между которыми, как карандашом, кто-то отчертил высокую насыпь железной дороги Тихорецк-Котельниково-Сталинград. До железной дороги было километров десять, может чуть больше. В колеблющемся, плавающем воздухе можно было легко ошибиться. Невольно пригнувшиеся под пролетевшими самолётами люди распрямились, а лошади перестали мотать головами, и пошли ровнее.
Старшина опять сделал глоток из фляги, оглядел небо от края до края:
- Моща пошла на фашиста…- на его рябом лице, под короткой щеточкой усов, скользнула тень улыбки.
Мимо него, в хвост колонны, прогарцевал полковой комиссар.
Ремешок его фуражки был опущен под подбородок, новая гимнастерка выглажена, синие командирские галифе бодро топорщились в разные стороны, хлыстик был элегантно отставлен мизинцем, на хромовых сапогах поблескивали стальные шпоры. Он нарочито небрежно держался в седле, как бы давая понять окружающим, о том, что в пехоту из кавалерии он попал абсолютно случайно. На левом боку у него, в доказательство этому, красовалась кавалерийская шашка с желтым прибором.
За ним, с измученным лицом, нелепо подпрыгивая в седле, тащится помощник начальника штаба полка по связи.
Он весь был увешан сумками, планшетами, фонариками, ракетницей в холщёвой кобуре, и всем тем, что можно было пристегнуть к себе или навесить. Странно смотрящийся на груди у этого капитана, автомат ППД, довершал его экипировку.
Когда всадники поравнялись со второй ротой, всё тот же сиплый голос, что недавно обращался к казахам о, как бы невзначай, но очень громко произнёс:
- Вот всё пылим, да пылим, а привала всё нет и нет. Ноги по колено постирали. А ещё водички обещали подбросить, а воевать давай…
Несколько голосов поддакнули, заворчали в поддержку.
Полковой комиссар дёрнулся, как пулей задетый, натянул поводья, привстал в стременах:
- У кого что там стёрлось? Чего, дальневосточники, на боковую захотели? Опять в тылу отсиживаться, пока страна кровью истекает? Вы у меня эти штучки бросите. Ещё ни одного выстрела по врагу не сделали, а уже… Туда-же… Я вот ещё позавчерашний приказ товарища Сталина № 227 буду сегодня вам зачитывать… Там ой, как про эти разговорчики написано… К стенке, и всех делов, без суда и следствия, по закону военного времени. Не для того, знайте, вас Родина-мать обмундировывала и вооружала, чтоб вы тут ныли, тут вам не санаторий!
- Так что ж, теперь и не облегчаться, раз она вооружила, а мы не сделали?- вновь раздался над понуро бредущей ротой тот же голос.
- Стоп! Кто сказал?- не смотря на пыль, стало видно, как лицо комиссара наливается кровью:
- Что, балагур, под трибунал просишься? Сукин сын, ты с кем разговариваешь тут в строю? Что за пораженческая агитация? А ну-ка, выдь из строя кто говорил?
Стрелки продолжили монотонно брести мимо.
Некоторые из них с опаской посматривали то в небо, то на разъяренного комиссара полка.
- Может не надо сейчас, Виктор Петрович…- наклоняясь вперед в седле, осторожно сказал помначштаба.
- Что-о-о?! Ну, и настрой тут в батальоне… Рота стой! Командира роты ко мне!
- Виктор Петрович, командир второй роты потер ноги и едет с противотанковой ротой. Они его там его на зарядный ящик посадили. - наклоняется ещё дальше вперед помначштаба.
- Ну-ну, командир роты не умеет портянки наматывать. Чего тогда ждать от бойцов! Одно слово – пехота…Но это всё так не пройдет…Кто там за него? Замкомроты ко мне!
Тем временем растянувшаяся при ходьбе рота подобралась, даже сгрудилась к первой, остановившейся шеренге.
Многие, и прежде всего бойцы, несущие стволы, станины и щитки пулемётов «Максим», и части 50-мм минометов, стали опускать их на дорогу, садиться. Садиться куда придется, стали и другие красноармейца, несмотря на пассивное сопротивление сержантов.
В роте казахов, решили, что скомандовали долгожданный привал и, они остановившись, начали разбредаться, высматривая, где поудобнее расположиться, на какой кочке, или пятне травы.
Старшина второй роты, с сожалением пропустил время очередного глотка воды из фляги, и, подойдя к всадникам, чётко приставил правую ногу при последнем шаге, козырнул:
- Товарищ комиссар полка, докладываю: заместитель командира роты младший лейтенант Левченко в составе двух повозок с отделением разведчиков собирает отставших по приказанию заместителя начальника штаба по связи, капитана Нефёдова.
- Кто приказал?- комиссар полка недоумённо повернулся к помначштаба – Ты приказал отставших собирать, у нас что, ещё и отставшие есть за какие-то девять часов марша?
Помначштаба кивнул.
- Нас комдив к этому батальону прикомандировал чтобы что? Чтобы авангард дивизии тут баловался у нас? Не ожидал я от тебя, товарищ Нефёдов, такой мягкотелости и пораженчества.- комиссар, как актер Бабочкин в кинофильме «Чапаев», кинематогрофично покачал головой: - Ладно… Значит так, старшина. Ты разберись, кто там вёл у тебя пораженческие разговоры и доложи. Мне. Лично. Всё ясно? Спрашиваю - ясно?
- Так точно.- бодро ответил старшина, придав лицу строгое выражение.
- Фамилия как?
- Кого фамилия, товарищ полковой комиссар?- переспросил старшина, стараясь не смотреть на налитый кровью глаз комиссарской лошади прямо перед собой.
- Кого? Мерина моего, старшина… Твоя фамилия как?
- Березуев.
- А, ну да, халхинголец. Обстрелянный, ведь, а такой бардак в роте. Ну, вот и разберись, Березуев. Кто у вас командир первого взвода?”
- Младший лейтенант Мелованов.
- Что, он тоже где-нибудь лазает?
- Никак нет. Вон он стоит.- старшина указал на невысокого юношу с испуганными глазами и одним кубиком в петлице.
Тот сделал вперед несколько неуверенных шагов, останавливается, приложил руку к пыльной пилотке:
- Товарищ полковой коми...
- Ну, что это тут у вас во взводе происходит?- перебил его тот:- Почему все сидят, была команда?
- Никак нет.
- А известно тебе, младший лейтенант, что к восемнадцати ноль-ноль, батальон должен занять положенный ему участок обороны у Шарнут? Известно? Так какого хрена вы здесь боевой приказ срываете мне?
- Это не мы, товарищ полковой комиссар.- промямлил Мелованов, и казалось, слегка вжал голову в плечи.
- Так это я, что ли, устраиваю?- не то лейтенанту, не то самому себе сказал полковой комиссар оглядывая остановившуюся и потерявшую форму колонну.
Бойцы окончательно разбрелись. Кто уже дремал, положив на лицо каску, кто шарил в вещмешках и ранцах, разыскивая запасённые сухари или консервы, кто закуривали. Среди красноармейцев, обходя их, смешиваясь с ними, уже двигались гражданские: женщины с детьми, старики, подростки с тюками, велосипедами, тележками, чемоданами, детскими колясками, используемыми для перевозки вещей.
Комиссар скрипнул зубами, нервно заиграл хлыстиком, собираясь с духом, чтобы обрушить на стрелков толи убедительную команду о продолжении движения, толи отборную брань.
И тут помначштаба от чего-то резко схватился за поводья, весь повернулся в седле лицом на юг, сощурился, набрал в легкие липкий, горячий воздух, но чей-то срывающийся, истошный крик опередил его:
- Во-о-озду-ух!
Бесформенная колонна моментально стала раскатываться в разные стороны, как горох, рассыпанный по полу.
- Во-о-озду-ух!- мгновенно пронеслось по колонне на все лады.
Комиссар с помначштаба двинули своих лошадей в сторону лесопосадок, почти на ходу повылезали из сёдел, и повалились в пыльный ковыль. За ними тоже самое повторили остальные офицеры бывшие в колонне верхом. Возницы спрыгнули с повозок, артиллерийских упряжек, водители остановили грузовики, полезли прятаться, кто под кузова машин, кто под лошадей.
- Во-о-озду-ух!
Большая часть красноармейцев последовали их примеру: легли на животы, вжались телами в горячую землю:
“Вот сейчас…Вот сейчас жахнет…”- стучало у них в висках.
Некоторое количество красноармейцев падать не стали, а только присели на корточки, не сходя с дороги, особенно те, на ком ещё оставались навьюченными части пулемётов и миномётов, и лишь немногие, вроде старшины Березуева и, практически всех гражданских, остались стоять, а то и вовсе продолжали идти, как и до этого шли.
Тёмные силуэты, отблескивая стёклами кабин, стремительно увеличились, натужный гул перегретых моторов превратился в рёв. Самолёты шли рассыпанным строем с юго-запада, на высоте всего пяти-десяти метров над землёй.
-Господствует гад, в воздухе… – зло сказал Березуев, и сжал зубы, оглядывая бугорки солдатских спин, и то, как некоторые из них инстинктивно закрывали ладонями коротко стриженные затылки.
В этот же момент, на повороте дороги через лесопосадки к Пимен-Черни, показалась чёрная «эмка» ГАЗ-М1, за ней следом открытая полуторка ГАЗ-АА с бойцами в кузове, и закрытый ЗМС-5. Эти машины уткнулась было в чадящие выхлопами тракторы с комбайнами, но тут же стали их объезжать по целине, прыгая на кочках.
Неожиданно вокруг раздалось улюлюканье, гомон и, кое-где, радостный мат.
Самолеты были своими. “Илы” возвращались со штурмовки. После того как первый ИЛ-2 прошёл над дорогой, устроив пылевой вихрь, все стали быстро подниматься, отряхиваться и осматриваться.
Некоторые радостно улыбались, будто перехитрили кого-то.
Через мгновение над дорогой пронесся второй штурмовик, потом третий, с надписью «Гроза». Это точно была та самая группа, которая совсем недавно ушла на юго-запад. Но теперь штурмовиков было заметно меньше. Того, с неубранным шасси уже не было. Словно блики на мокрой краске, у большинства самолётов сквозь крылья и хвосты, просвечивались рваные дыры в крыльях, хвостах и фюзеляжах. Из кого-то тоненькой струйкой лился, не то бензин, не то масло, а замыкающая машина оставляла за собой шлейф сизого дыма.
- Что ж, братцы, так смотришь, без одной бомбежки доберёмся! - сказал небольшого, роста красноармеец с худым длинным лицом, и угольно-чёрными глазами, голосом, сильно похожим на тот, что некоторое время назад заставил нервничать комиссара полка.
- Не каркай, Зуся Гецкин, Зуся - ворона, хвост обдеру, кажется, это ещё не всё - проворчал старшина Березуев.
Пока сидящий неподалёку на корточках Петрюк, огорченно рассматривал несколько темных лоснящихся капель на рукаве новенькой гимнастерки и произносил: «Петь, а Петь, смотри, на меня с самолета накапало», а Надеждин произносил в ответ фразу «Слушай, Петрюк, то пятку ты натер, то с самолета на него сделали», откуда-то сверху, будто камни упали, возникли два Messerschmitt Bf.109G, все в крестах, в каких-то нарисованных краской полосках, цифрах, буквах. И сразу из их крыльев и корпусов выплеснулись огненные струи в сторону уходящих штурмовиков, из всех их шести пушек и четырёх пулемётов. Прямо на головы пехотинцев посыпался каскад стрелянных гильз, а в уши ударил сильнейший стук и грохот, словно заработала огромная железная трещотка, размером с конвейер механосборочного цеха. Это продолжалось всего несколько секунд, после чего, раскачивая крыльями, как бы выискивая точку равновесия, фашистские истребители резко ушли высоко вверх, и начали делать круг над "Илами", чтобы повторить всё снова. Одновременно, от замыкаю его, отставшего Ил-2, который до этого уже дымил, посыпались куски обшивки, и он вспыхнул, от мотора до кабины.
Но это было ещё не всё. Вслед за истребителями, едва только они пронеслись, над дорогой, уже гораздо выше, оказалось были ещё самолёты, фашистские самолеты, и это были уже двухмоторные бомбардировщики Ju-88. Их было больше десяти. Через большие выпуклые стёкла передних кабин, хорошо просматривались тёмные фигуры пилотов. Из каких бомбардировщиков пошли вниз по две бомбы SC-250, с жёлтой маркировкой на оперении, сказать, было тяжело. С высоты двух сотен метров, бомбы до земли летели считанные секунды. Две из них попали в группу комбайнов на повороте дороги, и две в обоз батальона. Дорога качнулась под ногами, как бывает, когда резко затормозит поезд. Грохот четырёх мощных взрыва слились в один. Вместе с огненными столбами и кусками комбаинов и тракторов, земля поднялась вдруг как стена, разрывая пыльный воздух, ураганом отшвыривая в разные стороны степной сор, людей и животных. Раскалённый воздух ударил как стена воды, свалив на землю тех, кто до этого ещё стоял на ногах, тут же вспыхнула сухая трава вокруг. Одна бомба не долетела до обоза батальона метров двадцать, но вторая попала прямо в повозки, превратив три из них в мелкую щепу, а три других опрокинув вместе с лошадьми. Пока оседала, и падала комьями сверху земля, бомбардировщики, не меняя строя, прошли поперек колонны, обдав её пулемётным огнём из нижних пулемётных установок, ориентированных для стрельбы в задней нижней полусфере. Сразу десяток пулеметов МG-15 мгновенно наполнили всё небо визгом пуль. Между лежащими людьми, как бешенные, заплясали зловещие фонтанчики из пыли, искр, и кусочков травы. Раздался токот, словно кто-то невидимый очень-очень быстро бил дорожными трамбовками по сухой земле. Было видно, как от бортов и кабины одного из ГАЗ-АА в хвосте колонны летит щепа, из мотора вырывается струя пара, и тут же капот вспыхивает как факел. За несколько секунд, пока ещё продолжали падать сверху комочки земли, а пыледымовые столбы на месте падения авиабомб ещё не осели, Ju-88 успели поравнятся с лесопосадками на берегу Курмояровского Аксая, и прекратили огонь. Совсем вдалеке, за ними, было видно как горящий Ил-2, добиваемый двумя истребителями, в конце концов, ушёл вниз, и глухо взорвался, подняв над местом своего падения чёрно-огненный шар. Из него никто даже не пытался прыгать с парашютом .
Первым звуком возникшим в оглохших ушах, было завывание моторов «эмки» и двух грузовиков, успевших до взрывов проскочить группу пылающих теперь, искореженных тракторов и комбайнов. На их пути, по кочкам вдоль дороги, быстро вскакивали пехотинцы, чтобы не быть раздавленными этой небольшой колонной.
- Петя… Ты где?- Петрюк, ошалело вращая глазами, поднялся, опираясь на винтовку.
Рядом поднялся на ноги Надеждин, Зуся Гецкин, и старшина Березуев. У Березуева правый рукав, от локтя до кисти, был в чёрной крови, с пальцев она капала в пыль:
-Зацепило…-сказал он озадаченно, сгибая руку в локте, и пробуя шевелить пальцами.- Ну-ка Зуся, есть пакет… Перевяжи-ка…
Зуся сбросил с плеч вещмешок и принялся в нём рыться.
- Фельдшера! Фельдшера! Санитара! Тут раненные…- закричал кто-то из бурьяна.
С нескольких сторон послышались стоны и матерная ругань. Красноармейцы медленно поднимались, трогая уши, кашля от отвратительного запаха аммонала, и пыли, которая на мгновение, отпрянув при взрывах, теперь снова была густой и чёрной, как дым.
- Тут двое убитых… -донеслось от хвоста колонны.
- У нас сержанта убило…- вторил им голос неподалёку.
- Снаряды спасай! Берегись! - в обозе началась суета возле горящего грузовика. Сквозь дым и пыль, было видно, как несколько красноармейцем пытаются шинелями сбить пламя с кабины ГАЗ-АА, а другие, как муравьи вытаскивают через борта ящики с артиллерийскими снарядами. Другие, кто пытается перевернуть опрокинутые повозки и поднять лошадей, кто собирает мешки с крупами и консервами, кто оттаскивает в сторону бездвижных товарищей, другие ловят скачущих в безумии верховых лошадей. Неподалёку надрывно, взахлёб плачут дети, какая-то женщина в ситцевом платке пытается им что-то бодро петь, а старуха, с развивающимися седыми волосами, тянет их всех поскорее к реке:
- Айда! Айда!
- Это они из-за того, что ты еврей, Зуся…-сказал Березуев, с сожаленим наблюдая, как Гецкин разрезает рукав его гимнастёрки, и начинает накладывать жёлтый бинт на локтевой сустав, стараясь, чтобы рваные края кожи легли под бинт ровно. Кровь продолжает ещё идти, но уже не брызжет, а лишь сочиться.- Они ж мимо летели…Заметили, вот твои кудри, и, как Гитлер повелел им…
- Наоборот, товарищ старшина, из-за того, что я еврей, они и не стали всех бомб сыпать… Испугались, что сдачи дадут…- это и не с трусами в Германии бороться. Советские евреи, это ударный отряд Коминтерна…- усмехнулся тот.
-Ладно. Давай – ударный отряд Коминтерна, туже затягивай. Всё равно больно так, хоть зубы ешь…- усмехнулся старшина и повернул голову в сторону остановившейся «эмки».
Следом за черной некогда, а теперь пыльно-серой машиной, остановился ГАЗ-АА, из которой тут-же на землю попрыгали красноармейцы в касках и с автоматами ППД на груди. Над кабиной грузовика торчал, неизвестно каким образом закреплённый от болтанки по кочкам крупнокалиберный пулемёт ДШК. Двое солдат остались при нём. Из последней машины, с крашенным зелёной защитной краской фургоном вместо открытого кузова, из небольшой задней двери выбросили лесенку, вылез младший лейтенант, несколько солдат с петлицами связистов и, вытянув за собой несколько деревянных и металлических стоек, стали из них быстро монтировать антенну на растяжках.
Из «эмки» неторопливо вылез плотного телосложения генерал-лейтенант в полевой форме, без фуражки, водитель - сержант, который тут-же открыл боковые щитки машины и начал там что-то изучать, ещё один сержант, с пистолетной кобуры на ремне, и капитан с малиновыми стрелковыми петлицами на воротнике гимнастерки.
Генерал – лейтенанту было на вид лет сорок пять, густая шевелюра зачёсана назад, сабельный шрам поперек лба, хитро-сощуренные глаза, мясистое лицо с глубокими складками, крепко сжатые губы, на груди, под ремнями бинокля, несколько боевых орденов, несмотря на жару, верхняя пуговица кителя застёгнута. Он быстро огляделся махнул рукой Березуеву, подзывая к себе:
- Старшина, быстро мне вашего командира. Я генерал Чуйков, заместитель Шумилова, командующего 64-й армией, которая обороняется в этом районе. Или пошлите бойца…- добавил он, разглядев не до конца перебинтованную руку Березуева.
- Слушаюсь, товарищ генерал-лейтенант… Надеждин, Петрюк, быстро в голову колонны, найдите и доложите майору, что его вызывает генерал. Бего-о-ом... - старшина нагнувшись, поднял из пыли пилотку. Ударом о колено стряхнул с неё сор, надел на голову, и забинтованной культёй отдал Чуйкову честь.
Надеждин и Петрюк, рысцой побежали в голову колонны. Вокруг уже звучали команды на построение, рассыпанные в пыли и дыму фигуры красноармейцев стали стягиваться к дороге. Горящую машину удалось от боеприпасов разгрузить, и теперь она горела ярким костром, распространяя вокруг удушающий запах горелой резины, а ящики укладывали на оставшиеся повозки и машины. Тяжело-раненых сажали туда же. Убитых положили под щинелями на замыкающую повозку к активному неудовольствию возницы. Над убитыми или раненными гражданскими собрались их родственники, или оказавшиеся рядом беженца. Кто стоял, как каменный, кто всхлипывал. Слышались плач и причитания на русском, украинском и калмыцком языке. Несколько колхозников и детей бегали вокруг. Пытаясь криками и прутами собрать перепуганных коров и верблюдов. Несколько овец, наоборот, стояли плотно прижавшись друг к другу, неподалёку он остановившейся «эмки». Убитую корову, пожилой колхозник в расшитой косоворотке, тут же на месте стал её освежёвывать и, вырезая огромные куски капающего кровью мяса, раздавать окружившим его солдатам и сержантам. Вокруг все кричали:
- Рота строиться!
- Становись, первый взвод.
- Курдюмов, где конь? Ищи коня!
- Становись второй взвод…
- Фельдшера, фельдшера, я ранен.
- Становись третий взвод…
- Клава, Клава. Ты где, девочка…
- Петро, иди сюда…
Около трехзвездного генерала, мгновенно собрались любопытные беженцы, охрана с решительными лицами, была вынуждена образовать вокруг него кольцо. Ближе всех удалось подойти старику в старой, похоже, что еще со времён гражданской войны казацкой фуражке с треснутым козырьком, но аккуратной стиранной рубахе, подпоясанным наборным кавказским пояском и новых сапогах. Старик снял фуражку и, стиснув её в огрубелых от работы ладонях, быстро заговорил:
- Тут вот как получается товарищ генерал, мы собственно, мил человек, ой, товарищ, из Пимен-Черни, туда-сюда ходим на оборонные работы, в Котельниково шли. Вчерась к сельсовету приехали товарищи военные, пососкребали всех с огородов и коровников да им туда, за Гиблую балку, оборону, значит, копать. А мы что, мы не против подсобить обороне. Тока вот скотина не доена, да птица не кормлена. Утром с пол дороги, уж обратно пустили, всё мол, свободны, отработали, вроде и не нужно теперь никому копать. Домой, в Пимен-Черни идем, а тут стрельба, пальба. Неужто германец пробрался?
- Идите, товарищи колхозники - начал было адъютант, но Чуйков его остановил:
- Пусть доскажет, это тоже относиться к сбору сведений по заданию командующего армией об обстановке. Это ж наш тыл ближний. Возьми-ка ты, Григорий, посмотри у красноармейцев их красноармейские книжки, что за часть такая тут в новых галифе, как на параде по степи днём щеголяет, потихоньку только… Ну? Дед, что дальше-то…- Чуйков поднял глаза, и щурясь от солнца тут-же выхватил опытным взглядом в синей вышине далёкий силуэт двухфюзеляжного немецкого самолета разведчика Focke-Wuif Fw 198 Uhu, или, по другому, «рамы», верный признак скорого появлени авиации и наземных войск врага.
Дед, словно опасаясь, что ему не дадут договорить до конца, и быстро, без пауз затараторил:
- У нас тут последний месяц дети пропадают сильно. В Даргановке, и в Пимен Черни, и в Нижнем Черни, и вот вчера снова, у Андреевны дочка малая пропала, Машечка. Двенадцати годов от роду. Товарищ военный, просьбочка. Ежели увидите девочку лет двенадцати, шлепните ее по заднице, пусть домой поспешает. А то вон на матери лица нет. Мы уж и товарища председателя, и участкового и сами все обыскались… Тут всегда нехорошие места были, вокруг Гиблой балки. Нет, нет, да пропадет кто-нибудь из малышни несмышленой. Скот пропадает тоже. Абреки всякие, шастают. Калмыки тоже. Может, тут, где болото тайное имеется из зыбучего песка. Как фронт стал подходить, так вообще началось. Чуть ли не каждый день пропажи. Матери уж малышню в домах начали запирать. Да за ними разве уследишь. Понятно, мальчишки на фронт бегали. Тут намедни комендатура двоих вернула. В Сталинграде с поезда сняли. С воинского. Но девки, девки-то куда деваются. А тут еще беженцев толпы проходят. Неспокойно всё это… – он повернул обветренное, заросшее седой щетиной лицо к всхлипывающей крестьянке, стоящей рядом.
Судя по всему, это и была Андреевна, мать пропавшей девочки.
Она была бледна, сквозь крестьянский загар, на слипшихся ресницах проблескивали слезы, платок сбился на спину, обнажив запылённые русые волосы, на сарафане не хватало нескольких пуговиц. Она вдруг быстро зашептала:
- Маша...Маша, Машечка...Маша...: - и так громко и горько зарыдала, и осела на землю, что все строящиеся в колонну неподалёку красноармейцы, как по команде, повернули в её сторону головы.
Стуча подковами по сухой земле, как по барабану, и бряцая амуницией, к группе людей вокруг Чуйкова, подскакал полковой комиссар, помначтаба полка по связи и командир батальона. Они спрыгнули с лошадей и прошли сквозь расступившуюся толпу и охрану.
Командир батальона чётко приставил ногу, поднял руку к козырьку фуражки:
- Товарищ генерал-лейтенант, командир первого батальона 435-го полка 208-й стрелковой дивизии из состава Дальневосточного фронта, по вашему приказанию явился. Согласно плана первозки дивизии, ночью выгрузились из первого эшелона, с подразделениями усиления. По плану прикрытия участка Котельниково, являемся левофланговым соединением дивизии. Двигаемся к деревне Шарнут походным порядком. Только что подверглись налёту авиации противника. Ещё три эшелона в настоящий момент разгружаются на станции Котельниково, остальные разгружаются на перегонах Котельниково - Чилеков.
- Откуда отправлялись? - Чуйков покосился на своего адъютанта, листающего красноармейскую книжку Березуева.
- Отправлялись от посёлка Славянка, что на берегу залива Петра Великого, двенадцатого июля.
Чуйков встретились взглядами со своим, адъютантом и тот, возвращая красноармейскую книжку Березуеву, чуть заметно кивнул:
- Дальневосточники, Василий Иванович.
- Подарок от Апанасенко стало быть, из состава Дальневосточного фронта.
Что ж, дальневосточники, Иосифа Радионовича вашего, хорошо знаю, был у него в Хабаровске несколько раз. И в Славянке вашей был, укрепрайон осматривал. А командарм ваш, Апанасенко, кстати, местный, тутошний, с Дона, казак. В двадцатый годах в Чеченских горах ещё тамошних бандитов по аулам ловил. Крут был. Да и на Дальнем востоке был хорош. После Блюхера, быстро порядок в Дальневосточной армии навёл. Изжил всю партизанщину. Плохих солдат и командиров он готовить никогда не умел… 208-я, значит… - Чуйков повернулся в ординарцу – Револьд, давай-ка к связистам, связь мне с Гордовым, если нет, хотя бы с Хрущёвым… Собачья свалка. У меня тут по степи, оказывается, свежая дивизия беспризорная бродит, как воздух нужная, а комфронта мне не говорит ничего… Я-то тут уже из стариков строительных батальонов, аж 1889 года рождения начал было команды воинские создавать... Быстро… А ты, Каюмчик. Живо давай мне карту!
Ординарец быстро двинулся в фургону связистов, над которым, на растяжках, уже стояла четырёхметровая антенна с метёлкой наверху, а шофер Чуйкова, бросил изучать мотор, и, нырнув внутрь «эмки» вынул сложенную гармошку оперативную карту.
- Какие потери, майор, и что у тебя ещё, кроме стрелков с собой?- Чуйков развернул карту. С одной стороны её край остался держать его шофёр, другой край карты подхватил полковой комиссар.
- Во время налёта вражеской авиации погибло три красноармейца, один сержант, ранено двадцать человек, трое тяжело. Сгорела одна машина ГАЗ, уничтожены три повозки, ёмкости с водой, музыкальные инструменты музвзвода, три мешка пшена, передок 45-мм пушки, сильно повреждена резиновая лодка, двенадцать лошадей. В качестве усиления от сил дивизии имею огневой взвод 120-мм миномётов, взвод 45-мм орудий, взвод ПТРС, саперный взвод, полтора боекомплекта, продовольствие на десять суток.- майор хотел ещё что-что добавить, но Чуйков, пристально разглядывая карту, отчего даже наклонил набок голову, его перебил:
- Вот зараза, немчура. Пока в Котельниково базировались ЛАГГи из 270-го истребительного аваполка, таких безобразий небыло. А ты, я смотрю, богато живёшь, майор. И миномёты, и сапёры. Особенно с музыкой тебе повезло… Да и налёт не по твою душу был… Представь, если все бомбардировщики сбросили все свои бомбы, да не поперёк тебя, а вдоль колонны бы зашли? Мешком бы пшёнки и резиновой лодкой не отделался. С барабанами…
Пока все натужено улыбались, Чуйков повернулся, и, чуть прихрамывая,пошёл в сторону машины радистов:
- Комбат и комиссар, ну-ка за мной…
- Товарищ генерал…- увязался за ним дед:- Детишки-то…Милиция-то убегла вся…Председатель тоже… Детишки, ведь пропадают…
Один автоматчик из охраны вытянул ладонь поперек его движения. Дед схватился за неё, как за край лодки.
- Обожди, дедуля, немного…- Чуйков весьма проворно полез на крышу фургона.- Отсюда повиднее будет округа…
Следом за ним, стуча каблуками по крыльям, капоту и крыши кабины. Полезли комбат и комполка.
Поднявшись наверх, Чуйков, морщась от боли, полусогнулся держась за грудь.
-Товарищ генерал-лейтенант, вам плохо? - дёрнулся было к нему полковой комиссар.
Чуйков отмахнулся:
-Я тут, товарищи офицеры, недельку назад решил над Доном полетать на У-2, посмотреть, чего там происходит глазками. И тут бомбардировщик немецкий Ju-88, шальной, один, ну, как те, что только что над нами прошли… У него-ж пулемётов во все стороны понатыкано а на нашей «уточке» ничего. Хоть из «ТТ» стреляй…Ну, и начал он нас гонять. Сбить хотел. Как-же, советский самолёт без спроса летает…Может, петлицы мои разглядел с орденами… Как кот с мышью…Раз десять бросался…Палит из всех стволов…Лётчки мой, молодец, над самой землей шел змейкой. Вправо-влево… Прицел ему сбивал…По солнцу на восток шёл, лесок какой. Деревушку. Чтоб за дома сесть… Но, как назло, голая степь…Потом мы всё-же цапанули зеплю, ударились в неё. Хорошо. скорость небольшая. У-2 пополам разломился, задымил. Нас из кабин выбросило. Стервятник решил, что с нами покончено, ушёл на запад. Мы живы. У меня рёбра, позвоночник, всё тело в синяках. У лётчика колени разбиты… А тут неподалеку машина была из оперотдела 62-й армии. Подобрали…А у меня ж, ещё с Гражданской войны, четыре ранения…- Чуйков, всё ещё продолжая сгибаться, и держась за грудь, огляделся.
С крыши фургона ЗИС-5, над лесопосадками уже отчетливо виднелись белые, мазанные глиной стены домов Пимен-Черни, сараи, навесы, сенники и скотники, колодезные журавли и красный флаг на здании, похожем на школу, или сельсовет.
Стали видны за лесопосадками у реки яблоневые сады, ранее скрытые от глаз высоким скатом берега Курмояровского Аксая, и огороды, и горбики маленьких лодок, вытащенных на берег, козы и курицы на улицах Пимен-Черни, крохотные фигурки бегающих ребятишек, женщина идущая с коромыслом через плечо, сидящие на заваленке бабки в белых платочках, велосипедист спускающийся с горки к мосту с сумкой через плечё. Чуть дальше на запад, в сторону Котельниково, виднелось село Нижние Черни, дальше калмыцкое село Караичев, ещё дальше поселок Котельниково, и, наконец, совсем вдалеке, всё в черном дыму до неба, угадывалась станция Котельниково. На востоке сквозь лоскуты дыма горящих тракторов и комбайнов на повороте дороги, виднелись крыши села Даргановка, села Нижний-2, и даже, несмотря на расстояния, станицы Ширнутовской, а на юге белели, скрытые до этого от глаз складками местности, длинные белые прямоугольнички овчарен савхоза Выпасной.
Чуйков, наконец распрямился, приставил к глазам армейский шестикратный бинокль и начал рассматривать южное направление вдоль железной дороги Тихорецк-Котельниково-Сталинград:
- Кто у вас, говоришь, командир 208-й дивизии?
- Полковник Воскобойников, Константин Михайлович. Начштаба Малявин. Разгружаются со штабом дивизии в Чилеково по плану перевозки сегодня вечером.
- Радиостанция у вас есть в батальоне?
- Есть, РБ и аккумуляторы в порядке.
- Давай, связывайся со своим комдивом-208 и докладывай, что я, как заместитель командующего 64-й армией, подчиняю 208-ю дивизию себе: - Чуйков на секунду оторвался от бинокля, мрачно взглянул на майора: - Если связи не будет, свяжись со своими батальонами в Котельниково, а те дальше по цепочке до комдива. Пусть доложат мне состояние своё. И будут готовы к отходу на Чилеково.
Майор козырнул, и, подойдя к краю крыши фургона, на которой был ряд свежих пулевых пробоин, нашел стоящего внизу среди автоматчиков охраны и несколькох гражданских, помначштаба полка:
- Товарищ Нефёдов, товарищ капитан, товарищ генерал-лейтенант требует связь с командиром дивизии и батальонами в Котельникова. По его приказу дивизия подчиняется 64-й армии. Сбор всей дивизии в Чилеково.
Нефёдов, что-то пробормотав себе под нос, неуклюже переваливаясь во всей своей избыточной амуниции, медленной рысцой побежал в сторону обоза.
Снизу донёсся голос ординарца Чуйкова:
- Василий Иванович, штаб фронта не отвечает, "Альбатрос" не отвечает.
- Вызывайте…- Чуйков продолжал осматривать горизонт: - Беженцев вижу…Скот вижу… Армейские повозки, машины, несколько гаубиц за тракторами вижу… Вереницы и кучки солдат и всадников вижу… Ладно, товарищи офицеры, держите карту и слушайте:
На севере от вас, на Дону, на восточном берегу в районе Верхнее - Рубежного обороняется 214-я стрелковая дивизия Бирюкова. Хорошая дивизия. Слаженая. Бирюков умница. Фронтом на запад. Участок у него великоват, раза в четыре от уставного для обороны дивизии, да река помогает. Там на него на прошлой неделе 51-й немецкий корпус всеми тремя дивизиями наваливался. Ничего устоял, ни одной винтовки Бирюков не потерял…Там у него сейчас подозрительное затишье…Немец, видимо решил в другом месте ударить…В восьмидесяти километрах от того мест, где мы сейчас стоим, по северному берегу реки Аксай, у села Новокосицкого, Генераловского, фронтом на юг, занимает оборону 29-я стрелковая дивизия. Туда - же подходит 154 морская бригада. В общем, загнули мы наш фронт в сторону юга. В качестве завесы, по ту сторону железной дороги Тихорецкая - Котельниково-Сталинград находятся части 225-го отдельного кавалеристкого полка. – Чуйков, не отрываясь от бинокля, прикоснулся согнутым пальцем в какие-то две точки на оперативной карте М1:5000000, которая была вся испещрена кружочками и флажками с цифрами и сокращенными наименованиями соединений, и, которую перед ним, как музыканты ноты, развернули и держали офицеры, и потом, вытянутой рукой очертил широкую дугу от горящего Котельниково на север.
- Километрах в тридцати от вас, в этом районе: - продолжил он спокойно, как преподаватель в военной академии: - От реки Сал, на север, на Сталинград, отходят части, какие остались, 138-й дивизии Людникова, и 157-й дивизии Куропатенко из бывшей 51-й Армии Кавказского фронта. Всё, что от них осталось, я поставлю вдоль Аксай, рядом с 29-й дивизией и моряками. Вашу дивизию поставлю восточнее на Аксае в районе Бутово. Несколько батальонов оставлю на линии Котельниково - Курмояровский Аксай как передовые отряды: - Чуйков опустил бинокль, взялся за край карты и сощурился больше обычного, типографская печать была почти слепой, в добавок, посередине карты, было лысое пятно, словно её песком затёрли.– А вы что ж, товарищ майор, не записываете. Память, она на такой жаре вещь не надёжная. Дать карандаш?
Комбат вздрогнул, и передав и второй край карты комиссару, проворно перетащил планшет сбоку на живот, привстал на одно колено, положил планшет на другое колено, и, быстро вытащив блокнот и карандаш, принялся рисовать схему.
- Но это цветочки…- Чуйков начал медленно водить неровным ногтём по бумаге, по линии железной дороги Тихорецк – Котельниково - Сталинград, то с юга на север, то с севера на юг, словно хотел нащупать подушечкой пальца жесткую стокилометровую линию железнодорожных путей от реки Сал до реки Курмояровский Аксай.- А теперь ягодки… Волчьи…Такие значит... С юга, прорвав два дня назад оборону 51-й армии у Цымлянской, и гоня перед собой остатки дивизий Куропатенко и Людовникова, движется десять вражеских дивизий, в том числе танковые, которые фашисты развернули от Кавказа в тыл всему Сталинградскому фронту. Это у них называется 4-я танковая армия генерала Гота. Я вот тут вам сказал намётки про оборону по реке Есауловский Аксай… Но, три дивизии против десяти немецко-румынских, это пшик. Особенно, когда над каждым танком у них по два самолёта летит. К тому - же я не знаю точно, да и никто не знает, где они всей этой массой будут бить. Толи западнее Котельниково, толи через Котельниково, толи восточнее, через Пимен-Черни, или сделают крюк ещё восточнее Пимен-Черни. Для бешенной собаки, сто вёрст не крюк… А они собаки. Ой, бешенные…Они нас со своих самолётов видят, а мы только по ночам можем взлететь, хотя комавиацией Хрюкин, позавчера при Хрущёве и Гордове в Сталинграде рассказывал, что немецко-румынские войска, чуть-ли не разбиты все…Так что, не понимаем мы, где они навалятся завтра-послезавтра вдесятером на одного… Это только у русских, десять одного не бьют... И вот, если немцы с румынами пройдут линию Есауловского Аксая, они разгромят все склады, все тылы 64-й и 62-й армии, и эти все наши войска, без боеприпасов, без горючего, без еды, воды и связи, они отрежут их от Сталинграда, и через несколько дней обе армии, а значит и весь фронт - погибнут… Сталинград будет без защиты, всего с двумя полками НКВД, зенитчиками, и полуготовыми Т-34 в цехах СТЗ… Так что слушай боевой приказ твоему батальону, комбат…
В этот момент, легко вспрыгнув на крыло, шофёр Каюм поднял на вытянутых руках две алюминиевые кружки с водой и, блестя белыми зубами, сказал:
- Товарищ генерал-лейтенант, водички со льдом…
- Мне тут комдив-214 вчера из ледника в армейский бидон льда набрал.- улыбнулся Чуйков, показывая полные два ряда сверкающих вставных золотых зубов и коронок. Он подбирал у шофёра ледяные на ощупь кружки:
- Вот. С барского плеча. Угощайтесь товарищи пока на растаяло… Жара-то…
Офицеры переглянувшись, стали по очереди, мелкими глотками пить воду, на поверхности которой плавала корочка ледяной шуги. В этой горящей, пыльной, зловещей калмыцкой степи, обжигающе холодная донская вода, казалась каким-то сверхъестественным чудом.
Глава 2
Диверсант, убийца и жертва
В муравейнике происходило что-то невообразимое, чёрные и рыжие муравьи, перемешались, будто ромашка с клевером, на поляне, окружающей небольшую деревянную беседку с перголой, которая располагалась в самом дальнем углу сада.
Чёрные и рыжие муравьи вцеплялись друг в друга, на мгновение до этого постояв как вкопанные, перекусывали тела, откусывали головы, сцеплялись один на один, трое на одно, пятеро на одного. Чёрных муравьёв было меньше, и сами они были меньшего размера, но это ровным счётом ничего не значило в этом хаосе.
Маленький мальчик, в лакированных ботиночках, на которые налипла листва и земля, в белых льняных штанишках, и фланелевом блузоне без пояса, с шёлковым голубым бантом на шее и широкой белой панаме, изо всех сил старался помочь, как ему казалось, хозяевам муравейника. Он на лопатке из куска коры, то и дело бегал на другую сторону беседки, где у корней старой вишни, был муравейник чёрных муравьёв, и там он своей импровизированной лопаткой черпал муравьёв прямо вместе с веточками, листочками и хвоей, из которых был сделан муравьиный дом, нёсся обратно, сквозь солнечные июньские зайчики, и полосы солнечного света, которые пробивались через тенистые ветви старого сада, для того, чтобы высыпать своё подкрепление прямо в гущу событий. Мальчик не видел, как всё это началось, и не знал, что у муравьев, которые занимаются строительством муравейника и добыванием пищи, и не предназначены для схватки с врагом, нет шансов выжить этой хватке, и что муравьиная почта, и без него мобилизовала всех подходящих муравьёв на войну. Рабочие муравьи тут же погибали. А мальчик всё носил и носил подмогу, вместе с гусеницами, жуками, личинками муравьев, и садовым сором. Он даже нашёл, и специально раздавил каблуком небольшую лягушку, чтобы бросить её в муравейник, думая, что это остановит сражение, отвлечёт нападающих, но, та часть муравьев, которая сражалась, так и продолжала сражаться, а лягушкой, как огромной добычей занялись другие, в несметном количестве, неизвестно откуда, вдруг, взявшиеся чёрные муравьи - рабочие. Мальчик был так увлечён всем происходящим, что не обращал внимания ни на оводов, вьющихся над ним, и их укусы, ни на перепачканные в земле руки и замаранный блузон, ни на настойчивые крики служанки Клавы:
- Барин… Барин…Маменька Вас к чаю зовёт… И их превосходительство Вас спрашивают-с, видеть хотят… Барин Василий Владимирович, а барин Василий Владимирович…Вы где? Ах, вот Вы где…
На полянке перед беседкой появилась молодая женщина в новом красно-белом сарафане и с красной лентой на лбу, перехватывающей чёрно-смоляные волосы. Она на секунду опешила, увидев одежду мальчика в таком ужасном состоянии:
- Ой! Васечка, ой, барин…что ж Вы так…Маменька Вас к чаю зовёт и злится уже…- она взяла мальчика, сидящего на корточках у муравейника за руку, слегка, даже, её дёрнув. Подняла его, не отводящего взгляда от муравьиного побоища, и потащила за собой в сторону большого двухэтажного жёлтого дома с колоннами, и пристройками-флигелями, контуры которого проглядывали среди садовых деревьев. Под ногами заскрипел мелкий гравий, которым были усыпаны дорожки, сильно запахло шиповником,бело-розовые цветки которого обильно покрывали аккуратно подстриженные кусты вдоль дорожек сада. Пройдя мимо конюшни, дворовых построек, они вышли к большой центральной клумбе, посредине которой стоял постамент с греческой амфорой, из которой, мраморным водопадом вытекали фруктовые волны.
- Не тяните меня так, Клава…-сказал Василий уже на ступенях, полукругом выводящих их к главному входу. Пройдя сквозь высокие витражные двери, они вступили в прохладный вестибюль, устланный коврами и заставленный большими китайскими вазами, бронзовыми скульптурами, диванами, столиками, креслами и живыми пальмами и драценами в больших керамических кадках с восточным орнаментом. Над светлыми дубовыми панелями, желто-золотистой краской был накатан трафаретный рисунок, в виде небольших пчёл и стрекоз, чередующихся в шахматном порядке. С потолка свисали кованые светильники с витражными стёклами. Миновав ещё две двери и короткий тёмный коридор, скрипящий половицами, в котором им навстречу попался конюх Илья, с возгласом «Э-эх…» попытавшийся, было, схватить Клаву за грудь, но, разглядев идущего с ней за руку барчука, поостерёгшийся, Клава ввела мальчика в гостиную, где возле длинного стола накрытого чайным сервизом, стояла высокая пышноволосая дама в тёмно-зеленом платье с белым кружевным воротничком и манжетами, украшенное длинным рядом перламутровых пуговиц спереди и на рукавах, и стройный мужчина в тёмно синем мундире жандармского штаб-ротмистра, с серебряными аксельбантами на груди. За столом сидела девушка, лет семнадцати от роду, в розовом платье и лентами в косах, и пожилой, почти лысый мужчина в пенсне, в сером сюртуке и желтой жилетке. За мужчиной, с серебряным чайником в руках стояла вторая служанка, в накрахмаленном переднике, рот которой был вечно приоткрыт, словно она чему-то постоянно удивлялась.
Все они, как один, повернулись к вошедшим. Судя по выражению их лиц, разговор шёл на весёлую тему.
- Ах вот он где, мой Васенька…Видите, сударь, Леопольд Петрович, он весь в путешествиях, в походах…- сказала пышноволосая дама и сложила на груди длинные бледные пальцы, украшенные кольцами с большими разноцветными дымчатыми камнями.
Штаб-ротмистр, приосанившись, и отчего-то взявшись за кончик уса, подкрученного вверх, важно заметил:
- Ваш сын, дорогая Маргарита Павловна, просто вылитый первопроходец и солдат, как тут в «Военном вестнике» последнем заметку видел о том, как кавалерия армии Американских Штатов сразилась недавно с племенами миконжу и хункапапа, кажется, у реки Вундед, кажется…Пионер Америки, в общем-с…
Девушка в розовом платье за столом, захихикала, прикрыв полные губы ладонью:
- Ни, и словечки вы говорите, Леопольд Петрович. Не совестно Вам...
- Испачкались-с…-невпопад сказала Клава.
Штаб-ротмистр рассеянно посмотрел на девушку в розовом:
Мужчина в пенсне неожиданно прекратил сутулиться, и, повернувшмсь к смеющейся молодой особе, заявил:
- А что вы смеётесь, Анна Владимировна… Ваш младший брат всех нас перепрыгнет…У него задатки… И к языкам и к счету. И к письму отменные…- он отчего то показывал при этом вправо от себя, туда, где, в глубине гостиной, мерцал чёрной полировкой огромный, как лодка, рояль.
- Я думаю, Леопольд Петрович,- продолжил он, притрагиваясь к чашке, в которую вторая служанка начала наливать янтарный чай.- Это всё, как в давешнем номере «Северный вестник», там. где новая вещица этого, как его, потешника этого, Чехова, вроде…Вроде, «Хмурые люди», называется… Ха.. Вот умора…
- Что это за «Хмурые люди»?- перестала хихикать Анна, и потянувшись, взяла с блюда шоколадную конфету в виде маленькой бабочки:- О чём там, господин граф? И к чему тут Васечка?
- Вот так… И всё такое…И дай то Бог наш Вседержитель, чтоб наш батюшка - император Александр III, опять оградил Россию от войны - вдруг сменил тему граф, и добавил, глядя в лепнину потолка: - И же, таки, начал за счёт казённых средств строительство Сибирской магистрали по линии Омск-Иркутск-Владивосто, чтоб эти французишки утёрлись… L’affaire est dans le sac…И дело в шляпе.
- Ах, граф, ну, что вы опять про ваши министерские дела, смотрите какие дни стоят тёплые!- излишне нежно всплеснула руками Маргарита Павловна.
- Совершенно верно, мадам. Всё это дым. L’argent ne fait pas le bonneur. Не в деньгах счастье, сударыня. Позвольте ручку. – штаб-ротмистр принял руку Маргариты Павловны и прикоснулся к ней усатым ртом.
Василию, которого всё ещё держала за руку служанка, было видно, как жёсткие чёрные волоски усов ротмистра укалывают мраморную кожу его матери, как чуть дольше обычного ротмистр прикасается губами прямо к коже, чего в общем-то не требовалось, да и сама ситуация перед чаепитием, не требовала целования руки,и как мать Василия заметно краснеет от удовольствия, и видно, как зрачки её чуть прикрытых прекрасных глаза, немного поднимаются вверх, а свободная её рука, опущенная вдоль тела, сжимает в складки ткань платья, отчего ниже его подола, становится видна белая полоска нижней юбки, и кусочек каблука…
- Чай готов…
- Быстро переодеваться в чистое, пить с нами чай и заниматься немецким.Ohne Schweis kein Pries- назидательно проговорила мать Василия, и, наконец, отобрала у штаб-ротмистра свою ладонь…
***
Неожиданно сквозь сон прорвался далёкий гул, лай собаки во дворе, треск приёмника коротковолновой радиостанции Torn.Fu.g, и низкий мужской голос, с чуть различимым украинским акцентом, который, покашливая повторял одно и тоже:
- Переменная-3 вызывает Переменную-2… Переменная-3, вызывает Переменную-2…
Наконец, кто-то дотронулся до плеча:
- Господин Василий…Что с вами…Эй, Виванюк…
Перед глазами всё ещё стояла картина высокой, светлой гостиной, с хищно изогнувшим спину штаб-ротмистром жандармского отделения Леопольда Штраухом, но прямо на эту картинку наложилось изображение грубых дощатых стропил чердака, с торчащей между досок серой соломой, слепые квадратные окошки с обоих концов чердака, через которые бил ослепительный и жаркий, полуденный солнечный свет, в котором густо летала мелкая и крупная пыль, кусочки перьев и сора, а также вездесущие мухи. Мужчина, лет пятидесяти, привстал на локте, и потёр глаза ладонью, словно пытался отогнать толи одно, толи другое видение. Он дет был в синюю косоворотку, прямых чёрные брюки, с чуть засаленными коленями и короткие, мягкие калмыцкие сапожках. Рядом, на соломе, которой был выстелен пол чердака, лежала его серая кепка, серый же, сильно мятый льняной пиджак, полупальто, похоже, что перекроенное из офицерской шинели, кожаная почтальонская сумка. В руке, на которую он опирался Виванюк, был советский армейский бинокль.
- Господин Виванюк…- напротив него, скрестив ноги по-турецки, сидел коротко остриженный детина, лет тридцати, или моложе, в расстегнутом кителе капитана войск НКВД СССР, и в соответствующих галифе. Хромовые сапоги с наброшенными на них портянками и портупеей с кобурой, стояли рядом. В его офицерской фуражке, лежащей тут же, тулией вниз, были свалены большой кучей папиросы, спички, офицерская книжка, толстая пачка каких-то справок, компас, брикет шоколада в алюминиевой фольге, продолговатая лампа от рации, компас, плоский немецкий фонарь со сменными цветными стёклами, скрученная в трубочку пачка советских денежных знаков, перочинный нож и маленькая отвёртка. Тут же лежала запасная батарея от Torn.Fu.g, новая шинель, стоял туго набитый вещевой мешок. Другой, пустой, лежал рядом. Перед работающей рацией был раскрыт планшет, на котором, поверх местной газеты «Ворошиловец», была раскрыта записная книжка. Автомат ППД, с запасными дисками в брезентовых подсумках, кусок вяленого по - калмыцки мяса, на обрывке какого-то плаката, фляга, большой армейский нож, несколько кусков ржаного хлеба и обкусанные стрелки огородного лука, дополняли предметы, окружавшие офицера. Он пристально смотрел на Виванюка, а тот смотрел сквозь него.
Наконец Виванюк пришёл в себя:
- Так… Задремал от жары…: - он опять лёг на живот, и через бинокль, сквозь оконце, стал рассматривать пригорок за мостом через Курмояровский Аксай, на котором, за последними домами и сараями Пимен-Черни, за садами и широкой лесополосой, горели, испуская густой чёрный дым, тракторы и комбайны из местного совхоза «Красный Аксай». Поскольку местность на юг от реки всё время поднималаськ голубому горизонту, то сквозь градуировочную сетку бинокля было отчётливо видно, как перед лесополосой, выше верхушек деревьёв, на крыше какой-то машины, стоят три человека. Рядом с ними, выше их голов, поблёскивают на солнце лучи радиоантенны. До них было по прямой, через реку, сады и лес, километров пять-шесть, может меньше.
- Там не ваши ли уже загорают? Сверху, вон, на крыше фургона…Глянь, солдатик…
Капитан положил наушники и микрофон, и, придвинувшись к Виванюку, взял у того бинокль. Всмотрелся. Пока он это делал, Виванюк старался не дышать его запахом крепкого пота и лука.
- Нет, это большевики. Старшие офицеры. Делают рекогносцировку. И радиостанция у них, похоже, судя по антенне, типа РАФ, фронтовая. Это, наверное, кто-то из командования 64-й армии, а, может и всего фронта. Эх, Donner wetter, мама рiдна… Сейчас сюда бы хоть один самолетик фон Рихтгоффена. Те, что пролетели на Абганерово, только тракторы и сожгли. Трактор, конечно, вещь важная, он гаубицу может тащить, или танк в ремонт, но офицеры при фронтовой радиостанции. Это хороший был бы ущерб Советам… Эх, Scheise, коляда моя, колядка, …Чуть позже им бы пролететь, машину с антенной, они бы точно не упустили…-он вернул Виванюку бинокль, снова подсел к рации, огромной ладонью добродушно ударил сверху по её кожуху:
- А эта чёртова железяка германская не хочет работать. У РККА и то аппараты надёжнее!
- Ну вот, Петро Петрович…- притворно весело сказал Виванюк, недобро рассматривая в спину огромную фигуру капитана: - Сам у немцев в диверсантах-шпионах, а немецкое - ругаешь.
- При чём тут в диверсантах, Василий? Я тебе уже говорил, что я из немецкой военной разведки, из Абвера, из батальона «Нахтигаль», что в составе особого полка «Бранденбург-800». И ты мне взялся помогать, и деньги взял, и расписку дал, и после освобождения вашего села от большевистской нечисти, ты будешь управлять и своим селом Пимен-Черни, и, может, и всем районом от имени Великой Германии, и нашего великого вождя Адольфа Гитлера. Германия никогда не забывает своих преданных помощников. Hail Hitler!- бело-голубые глаза капитана при этих слова сделались стеклянные, а подбородок выпятился вперед.
- Тише, Петро…- вон, соседи уши греют у забора.- Виванюк спрятал злое выражение лица: - Уж я и не знаю, что Великая Германия может взять с бедного сельского учителя. За какие такие заслуги мне может так много причитаться… А неровен час красные опять вверх возьмут… Меня ж до виселицы не доведут, растерзают свои же колхозники…
- Ой, мама рiдна…Не производите Вы, господин Виванюк, впечатление труса, который боится чего-то, или кого-то, особенно при таких вот занятиях.- диверсант ухмыльнувшись, кивнул в дальний угол чердака, где, среди пустых, и с каким-то старым барахлом, плетёных корзин и коробов, шевелилось, и, чуть слышно дышало,что-то завёрнутое в камышовую рогожу, вроде той, которую бедняки-калмыки стелют на земляной пол в своих кибитках.- Не бойтесь ничего. Великая Германия пришла навсегда. В прошлом году мы разбили и уничтожили триста советских дивизий. На одного германского, венгерского, румынского, итальянского, испанского или финского солдата, пришлось триста убитых, или взятых в плен, красных солдат. Я видел лагеря военнопленных в Белоруссии и под Киевом. Это зрелище просто поражает воображение. Сотни тысяч вшивых, испуганных большевистских солдат под открытым небом, за колючей проволокой. Кормят их супом из шелухи подсолнечника, которую из задницы потом нужно палочкой выковыривать. Пьют воду из луж, и умирают по тысяче человек в день. Всё… России теперь не подняться… Её живая сила уничтожена! Промышленные территории захвачены. Германская и румынская армия ведёт наступление на Кубани. Дальше мы захватим всю советскую нефть в Баку, и все танки и самолёты Красной Армии останутся без горючего. Вся армия большевиков станет тогда одним большим партизанским отрядом с берданками и тачанками… К концу этого года мы выйдем на линию Астрахань - Архангельск. С этой линии авиация разрушит оставшуюся промышленность на Урале. Большевики станут жить тогда в Сибири как индейцы, с луками и стрелами. После этого с Востока ударят японцы. Всё, говорю Вам. Вам нечего бояться. Красные вверх никак не возьмут.
- Давай-давай, агитируй… А как же случай и судьба? Вот тебя готовили год, в твоём «Бранденбурге». Ну, всё – всё тебя научили делать, а то, что орден Красной Звезды носится на правой стороне груди, а не на левой, как другие большевистские ордена, это твои германские учителя забыли… Вот ты со своим боевым товарищем и попал под кавалерийский разъезд… И всё… Стрельба, пальба, уноси ноги, да в двери стучи, прятаться… Хорошо, на меня попал…А так… Выловили бы, и шлёпнули на месте…Вот случай-то, как? Москву-то, не взяли в прошлом году. И Ленинград держится ещё…- Виванюк прислушался в шумам снаружи дома.
- Нет, нет, у войны с Советами уже явно нет никакого другого исхода…Я, и германское командование сильно признательно Вам, господин Виванюк за сотрудничество и помощь… И это всё не агитация, и не пропаганда. Это так и есть. Теперь всё иначе…Я очень хорошо знаю…Сейчас большевики присылают на фронт одноразовые дивизии по уменьшенному штату. В дивизиях людей, вооружения по штату, да вот боеприпасы только из одного комплекта. Они занимают позиции перед нашими войсками, расходуют свой комплект снарядов и патронов, потом другие боеприпасы не получают, или получают не достаточно, а потом попадают в окружение, или уничтожаются, не имея возможности вести бой. Командиры у них, или бывшие председатели каких ни будь колхозов, или директора фабрик, или плодоовощных кооперативов, главное, чтоб партийные были. Опыта ни у офицеров, ни у солдат нет никакого. Послать на войну необученных, не подготовленных солдат, это всё равно, что выбросить их. Эти дивизии в бою живут неделю, максимум десять дней. Я в курсе этого. А Вермахт и СС, это закалённые в боях ветераны, которых ведут командиры из потомственных военных семей, прошедшие Великую мировую войну и на Западном, и на Восточном фронте, которые всю жизнь либо воюют, либо учатся воевать, либо занимаются организацией войск. В 4-й танковой группе Германа Гота, которая несётся сюда через степь, 500 танков, тысяча самолётов. Смотри, представь, если разделить все войска 4-й танковой группы Гота на количество танков, ты - же учитель, ты математику знаешь, то получиться, что за каждым танком будет ехать два грузовика с пехотой, грузовик с горючим, грузовик с боеприпасами, грузовик с едой, и тягач с пушкой, а над танком будет лететь один истребитель и два бомбардировщика. Этот один танк, с опытным экипажем, пусть даже средний Pz.kpfw III тогда, стоит десяти русских КВ и Т-34, без авиаприкрытия, снарядов, горючего, с дураками командирами, и танкистами, которые не знают где лево, а где право. А таких танков сюда Гот ведёт 500 штук. Они у Котельниково будут уже сегодня, если уже не там. Обороны здесь нет никакой. Большевики её не успевают построить. Так жидкие цепочки. Перед нами открытый фланг и тыл Сталинградского фронта, и сам город. Сталинград будет захвачен с хода через две, три недели. И всё. Дальше за Волгой только безводные степи, где последние войска русских на юге, найдут свою могилу. Это не агитация, это так…Правда…
- Два самолёта…- Виванюк кивнул головой, и показал перед собой два выставленных из кулака пальца.
- Шо?
- Два самолёта, говорю… 1000 самолётов разделить на 500 танков, получается два самолёта на танк… Третий класс… Шучу…Ну, и зачем Германии-то, это всё нужно? – Виванюк прекратил демонстрировать, сложенную из пальцев букву «V», и, потянувшись вперёд, взял кусочек вяленого мяса, затем положилего на язык, ипринялся его медленно пережёвывать: - Скажи, Петро, такую вещь… У них там, вроде, в Германии, и еды полно, и одежды, и домов, и заводов разных, театров, кинотеатров, коров, свиней, рыбы, хоть завались. Эти румыны с венграми, итальяшками и финнами, хорватами, это я понимаю, голь перекатная, нищета-нищетой. А немцы-то что забыли в этих степях. В СССР люди-то, сам видел, ой, небогато, бедно живут. В Гражданскую войну всю страну несколько раз разорили и разграбили, города, сёла сожгли и на топливо растащили, в коллективизацию крестьян разорили и постреляли, в голод 33-го года то-же, в индустриализацию вообще до нитки всех ограбили, чтоб американские станки купить, в 36-м посадили в тюрьмы всех, кто мог думать, а теперь вся страна уже давно на хлебе и воде. Колбасу только в кино показывают раз в неделю, да калмыки привозят, на керосин меняют. Зачем это всё, Германии? Весь этот разор? Германия что. собралась быть от Атлантического океана до Тихого океана, и от Северного Ледовитого до Индийского? Ты географию учил, ведь, в своём Абвере, сынок? Или только ножами тыкать, и ордена не на ту сторону прикручивать?
Петро недоумённо пожал плечами:
- Там, в школе, в Бранденбурге-на-Хавеле, в батальоне Бранденбург-800, нас учили всему: языкам разным, рукопашному бою, работе с картами, взрывному делу, маскировке на местности, тактике боя в одиночку и группами, навыкам изготовления фальшивых документов, тактике засад, борьбе с танками, владению всеми видами оружия, и ещё учили не иметь никаких моральных ограничений. Так, что не только ножом тыкать. А орден я с убитого капитана на мосту в Цимле, после захвата, снял… Солидно смотрится… Ошибка, конечно… Это, конечно, азы фон Фелькерзама. Нельзя в маскирующую одежду добавлять местные предметы, если точно не знаешь их назначение и местного правила ношения …
- Я говорю, мил человек, Германия от Атлантического до Тихого, от Ледовитого до Индийского океана. Это зачем немцам?- Виванюк, продолжая флегматично жевать вяленое мясо, поглядел на живой свёрток в углу чердака. – Историю. Может знаешь, может нет, Плутарха и Платона, наверно у вас в Бранденбурге – на - Хавеле не читали, но, чем больше страна, тем быстрее она под одной властью, тем быстрее она распадается…
- О-о-о! Я всё больше удивляюсь… Откуда учитель в богом забытом селе на границе Европы и Азии, и про ордена знает всё, и может судить о таких вещах, как Платон и Плутарх…- капитан, надев, было наушники рации, замешкался.
- Bei Wilfen und Eulen lernt man's Heulen. Я слишком из хорошей семьи, сынок… -Виванюк перестал жевать, и вызывающе уставился на диверсанта.- Тебя, Петро, не злит, что я называю тебя – сынок?
- Ещё и немецкий язык знаете! Вы же сокровище, просто агент-находка для Абвера. С такими данными Вас нужно с группой в Куйбышев, где сейчас всё совдеповское правительство и дипломатические миссии. И Сталин. Если его убить, то можно разом покончить с этой войной и спасти множество жизней германских солдат! Хорошо образованный, и дерзкий агент, это большая ценность. Та что, называйте меня, хоть дочкой, Вы мне жизнь спасли, и за Вас мне командиры будут очень благодарны…
- Сталин в Москве.
- Сталин? Ах, да…Какая разница… Ну, удивили, удивили… Послушайте, Виванюк, Вы сделали правильный выбор, когда не выдали меня вчера ночью, и решили помогать Германии. Вы встали на сторону победителя, против жидо – коммунистов, и послушайте, не как агитацию, а как правду: фюрер немецкого народа Адольф Гитлер решил, что немецкому народу нужно много земли, много воды, и много неба. Каждому солдату, каждому немцу после войны, фюрер даст здесь по сто гектаров земли, а русские рабы будут её обрабатывать. Все немцы станут богатыми и счастливыми. Мне, украинцу, тоже дадут землю, и на меня тоже будут работать русские рабы, потому, что я с оружием в руках служу Германии и Адольфу Гитлеру. Так и глава Революционного Провода ОУН Степан Бандера говорит…А Украина, наконец. Станет свободной, и освободится от ига москалей… А всех, кто всегда ненавидел русских и еврейских большевиков, всех этих untermenchen, Великая Германия берёт к себе на службу. Всех украинцев, прибалтов, все кавказские народы, всех украинских патриотов, она с радостью сделает волками, пасущими её, а значит и наше будущее русское стадо. Особенно чечен, черкесов, ингушей, дагестанцев и азербайджанцев. К чеченцам, я Вам говорю, уже послана наша зондеркоманда с капитаном Ланге из второго отдела Абвера, с огромным количеством оружия и денег. Там уже несколько очень крупных отрядов из чеченцев и ингушей подготовлено. Они уже начали активно действовать. А фельдфебель Моритц, около Майкопа, также собирает адыгов и черкесов. Они нам, судя по тому, что у нас о них известно, помогут растерзать части русских на Кавказе, пока мы здесь добьём окруженный Сталинградский фронт… Они, эти наши союзники, вечные враги русских, тоже смогут хорошо кормиться, но, только под властью Третьего Рейха. - подбородок Петро, снова задрался вверх.- И хай живе, моя вільна Україна!
- Прямо философский диспут получился у нас…Я удивлён такой разносторонней политической подготовке диверсанта…Приятно поговорить с интересным человеком. Хоть и в такой дерьмовенькой обстановке…Понятно значит…Мужиков русских в плуги запряжёте, или, как гладиаторов на арену для потехи будете выпускать, а девок в гарем всех, и в публичные дома. Стариков убьёте, чтоб лишнего не ели, и будете жить как в Древнем Риме, или в Средние Века, только с самолётами, автомобилями и радиоприёмниками. Сделаете новую Золотую Германскую Орду, в окружении верных союзников, и потом завалите американцев трупами покоренных народов, и по эти трупам перейдёте Атлантику, и сделаете в Америке филиал Золотой Германской Орды. Кстати с чеченцами и ингушами вы бы не промахнулись. Они стреляют в спины даже друзьям, если есть возможность поживы. И им всегда всего бывает мало: денег, земли, коней, женщин, оружия, еды…Спросите у любого на Кавказе, или в здешних местах. Можно ли доверять чечену, и чего стоит его дружба. Они убьют всех, кто будет мешать им грабить, после того как усыпят вашу бдительность обманом. А Германский порядок, я так понимаю, это жёсткий порядок. Значит они с Германией не уживутся. Вы их что тогда, всех убьёте, как евреев?
- Господин Виванюк, у меня уже в этой жаре голова не соображает с Вами так много говорить…Я уже ничего больше не понимаю из Вашего этого разговора. Какая Орда? Какие проблемы с чеченами могут возникнуть у Великой Германии? Вы так говорите, как будто это не Вы добровольно решили присоединиться к нашей борьбе с большевиками, и это не Вы вчера укрываете меня у себя от красного разъезда, и не Вы всячески содействуете мне сейчас и собираетесь это делать дальше… Donner wetter ! - диверсант некоторое время раздумывал о чём-то, потом тряхнул головой, покривился, выражая толи сожаление, толи досаду, как если бы разговаривал с душевнобольным, и, взяв, и прижав к голове наушники рации, принялся крутить ручку настройки рации, поглядывая при этом, то на стрелки часов, то на раскрытую записную книжку:
- Переменная-3 вызывает Переменную-2… Переменная-3, вызывает Переменную-2…
- Ладно-ладно…Ты не серчай, солдатик…- сказал Виванюк, будто устало: - Я же учитель истории и географии тут, в Пимен-Черни. А заодно математики, физики, русского языка и литературы, кружки там разные…Мне ж, с умным человеком, уже лет двадцать разговаривать не приходилось. А тут, в самой Германии, в Бранденбурге учёный…А эти наши колхозники, и большевики из отделов Наркомпроса, и книжки все, и газеты, ну, до чего ж тупые. Быдло. Пионеры, комсомольцы, партийные, кандидаты, члены этого, члены того…Ахинея просто. Какая-то…Просто ненавижу их всех, ненавижу всю эту вонючую жизнь, эту тупую, мерзкую страну, этих жалких, ничтожных, завистливых и подлых людишек. Они же все воры, мерзавцы, слышишь, Петро, все растленные, жадные, глупые… Просто биологическая масса какая-то, из которой вылеплены уродцы на двух ногах…- глаза Виванюка вдруг налились кровью, лицо сделалось пунцовым: - Ко мне в школу приводят маленьких, миленьких светлых ангелов, мальчиков и девочек, и я вижу с ужасом, страхом и болью, как они за несколько лет всего, превращаются в жалкие, отвратительные, мерзкие ничтожества, которые кроме того чтобы жрать, гадить и перепихиваться под кустами, ни на что не способны. Они становятся как все эти… Но… Ничего, ничего, мне удаётся спасать хоть часть ангелов от пожирающего их Большевистского Молоха и Сатаны, где все говорят одно и тоже, делают одно и тоже, едят одно и тоже, поют одно и тоже, одеваются в одно и тоже, думают одно и тоже… И тебя, Машечка, я спасу… Спасу…
Виванюк неожиданно ловко для своего возраста поднялся, и, сделав несколько рысиных шагов, опустился на корточки над большим кулем из камышовой рагожи, перевязанной толстой шерстяной верёвкой. Он отогнул один край рогожи, под которым обнаружилось лицо белокурой девочки с широко раскрытыми от ужаса серо-голубыми, глазами полными слез.
Рот девочки был завязан грязной тряпицей, судя по строчке, бывшей когда-то толи рукавом рубашки, толи занавеской, ноздри её широко раздувались, из-за жары, ужаса и стеснённого верёвками дыхания, в кудряшках был сор, ползали мухи, вокруг глаз, носа, рта были грязные подтёки. Она что-то обессилено промычала, что-то пыталась сказать.
- Я спасу тебя, девочка, от этого ужасного мира, ангелочек мой…Ты не станешь такой, как они: - Виванюк погладил горячий лоб девочки ладонью с достаточно ухоженными для сельского жителя ногтями, и, наклонившись, слизнул с её дрожащих век, соль от слёз: - Потерпи, Машечка, мы с дядей военным все дела поделаем, а потом я смогу быть с тобой, только с тобой, моя радость…
- И многих ангелочков ты так уже спас, Василий?- оторвавшись от передатчика, с некоторым изумление, и, даже, некоторой, тенью ужаса спросил его в спину Петро.
Это смятение в голосе, хотя и едва заметное, Виванюк, тем ни менее успел отметить.
- Я спасаю детей уже много лет, как только понял, что не могу жить по-другому.… А теперь, когда вы тут со своими германо-румынскими друзьями устроили полный хаос, моя работа стала очень интенсивной… Одни беженцы из Донбасса чего стоят….- Виванюк погладил то место, где под рогожей должен был быть живот девочки: - Что, может, хочешь её?… Как женщину?…А? Человек, ведущий войну без моральных ограничений и будущий плантатор и владелец сотен русских рабов? На, потренируйся. Ей всё равно умирать. Она, правда, немного нагадила под себя, но я принесу воды и помою её. Хочешь, а, диверсант? Эй…
Петро, скосив взгляд от панели рации, озадаченно заглянул в глаза Виванюка. При желании в этом взгляде можно было различить борьбу противоположных чувств: от желания убить этого странного учителя, встреченного в тысячах километрах от своей родины, до желания сесть и послушать, что будет рассказывать про мир этот необычный человек. Наконец диверсант, нашёлся:
- Она ещё маленькая, не за что подержаться. Никакого удовольствия.
- Да ей уже двенадцать лет исполнилось…- Виванюк ещё раз похлопал куль, закрыл лицо девочки рогожей, и снова подобрался к окну: - Фу, пылища-то, пылища… Ладно, солдатик. Шучу я…Тебе и впрямь не до этого…А может всё таки желаешь?
- Да она на женщину-то не похожа. Одни кожа и кости. Она в ковре меньше чем нормальная женщина…Тем более ты же хочешь её спасать от мира… Не понимаю…- диверсант вытер капли пота со лба и щёк, глотнул из фляги воды, и застыл на месте, услышав долгожданную работу динамика радиостанции:
- Переменная-2 вызывает Переменную-3… Переменная-2, где ты, хохол чёртов! Приём…
- Слышу тебя, Переменна-2, я Переменная-3. Что у вас происходит? Приём…- Петро, напрягся, надел, и вжал наушники в голову так, что побелели косточки пальцев.- Что в Котельниково, я вижу отсюда, там сильные пожары.
Несмотря на то, что наушники был прижат плотно, Виванюку было хорошо слышно, как с сильным украинским акцентом говорил хриплый, возбуждёный голос:
- На станции Котельниково по нашей радионаводке, рано утром, бомбардировщики Рихтгоффена в щепки разнесли четыре эшелона 208-й дальневосточной дивизии. Только один батальон, вроде, разгрузившийся около полуночи, ушёл на восток, в твою сторону, к Пимен-Черни. Здесь ад стоит. Огонь. Тысячи и тысячи большевистских трупов повсюду. Военных и мирных кацапов. Переменная-4 передал, что два часа назад,ещё два эшелонов этой 208-й дивизии были атакованы севернее у станции Челенков. И там эшелоны этой несчастной дивизии потом ещё и советские штурмовики атаковали по ошибке, приняв их за эшелон германских войск. Уникально… Русские даже не знали, что Сталин им сюда свежие войска прислал. А, ведь, эта дивизия, могла затруднить 4-й армии Гота наступать в тылы Сталинградского фронта… Теперь свежая дивизия большевиков почти уничтожена прямо в вагонах и на платформах: орудия, танкетки, припасы, большая половина всех людей и транспорта. Разгромлена не вступив в бой…. К Котельниково, двигается разведывательный батальон 14-й таковой дивизии Хайма из 48-го такового корпуса, к которой, если не забыл, мы приданы… И скрытые беженцами и убегающими солдатами большевиков, они, как всегда, сходу, атакуют станцию, и раздавят тех, кто ещё тут выжил после бомбовой атаки «Штук». Отличная, отличная работа. Можно готовиться в отпуск…Как слышиш?. Как мост в Пимен-Черни? Приём…
- Я Переменная-2. Слышу хорошо. Хорошо, поработали. Я в Пимен-Черни. «Кота» потерял. Убит, вчера ночью конным разъездом у Гремячей. Подробнее потом…Со мной завербованный мною ценный агент. Мост в Пимен-Черни наблюдаю. Следов минирования нет. Войск в Пимен-Черни нет. Вижу группу старших офицеров на южном берегу. Километрах в трёх с развёрнутой радиостанцией, типа фронтовой РАФ. Это, или комфронта Гордов, или кто-то из его штаба, может командарм-64, или командарм-62. Если подбросите сюда Переменную-4 и Переменную-5, мы можем их захватить, или ликвидировать. Или вызовите «Штуки», или разверните мотоциклетную роту из авангарда 14-й танковой, они через два час могут достичь этого места. Генералы – это важная цель…Запроси у «Соловья» добро. Приём…
- «Соловей» молчит, из-за складок и балок местности, УКВ диапазон только трещит к нему. Переменные-4 и 5 ведут поиск и разведку в районе Плодовитого. Авиация вся занята по складам боеприпасов и горючего у Абганерово и Жутово по просьбе Хайма. Он хочет сегодня же обездвижить все машины и танки на направлении своего предстоящего наступления. Так что решай сам. Бери своего агента. Ликвидируйте генералов и получайте отпуска, «железные кресты», если докажите сделанное, или сразу выходите в пункт сбора к высоте 155.0, и ждите там. Приём…
- Понял тебя, буду решать по месту. И ты мне карточный долг верни потом, запиденец чёртов… Конец связи…
- Смена УКВ - диапозонов каждый час по кодовой книжке, чёртов шулер. Добро. Насобираю тут чего ни будь… Тут богато всего валяется…Конец связи…
Пока шёл радиообмен, Виванюк наблюдал, как по улице у моста, как ни в чём ни бывало босяком бегали дети катали обруч - старый обод велосипедного колеса, удерживая его в вертикальном положении длинным крючком из проволоки. Чуть дальше на мостках у реки, которая была всегда широкая, свирепая и бурная во время весенних половодий, и во время редких, но сильнейших ночных июльских и августовских гроз, а теперь больше походила на широкий ручей, несколько женщин, подобрав за пояса подолы, расстегнув до живота рубашки, и замотав выше локтя рукава, занимались стиркой. Среди корыт, тёрок, и кучек мокрого белья, неуверенной, пьяной походкой бродили несколько совсем крошечных малышей. Рядом, как всегда, со своим неизменным велосипедом, зубоскалил Прохор, бездельник и шут, который и у каждой юбки остановиться в деревне, и по всем садам пролезет, на бесконечные, чаще всего ложные свидания, и который вечно пытался подбить Виванюка, как холостяка, на походы на танцы по соседним сёлам, где о похождениях этого Прохора знали меньше, чем в Пимен-Черни, и шансов уговорить молодую солдатку, да ещё в компании солидного учителя, было больше. На самом мосту сейчас было оживлённо. Множество беженцев, кто крестьянской одежде, в платках и сарафанах, косоворотка, лаптях и сапогах, калмыцких бюшмюдах, хутцанах, камчатках, или кто в городских модных костюмах, в фуражечках, френчах, рубашках с отложными воротниками, лёгких цветастых, иногда даже шелковых платьях, береточках, туфельках и ботиночках, с тюками на спинах, или с детскими колясками вместо тележек, пешие, на велосипедах, конные, на верблюдах, на которых было навешено и навьючено столько, что торчали одни головы, хвосты и ноги, спускались по крутому берегу к мосту, обходя заглохший и брошенный ещё вчера, вечно ломающийся старенький совхозный АМО-Ф, который помнил, наверно, еще период раскулачивания и коллективизации, и, уж точно помнил страшный голод 1933 года. Вся эта толпа уплотнялась и пересекала реку по широкому, хоть две полуторки разъедутся, мосту, посередине которого на высоких столбах, прикрученных к бревенчатым ограждениям, был растянут кумачёвый транспорант с белыми неровными буквами: «Враг будет разбит.И.В.Сталин», и, из-за того, что на букве «и» ткань была надорвана, и сложена треугольником, отчего буква больше была похожа на прописную, а, точки были нарисованы слишком продолговатыми, из-за чего надпись читалась как «Враг будет разбит, и, В,Сталин».
-Чёрт бы вас всех побрал… - Виванюк взяв бинокль, всмотрелся в идущих, и быстро нашёл в толпе беженцев стройную молодую женщину в синем, в белый горох, шёлковом платье, рядом с которой еле брела, выбиваясь из сил, девочка лет десяти в сбившейся набок, некогда белой панаме. На женщине была небольшая шляпка и соломки с лентой, в тон платья, модные, белые открытые туфли на небольшом каблуке. Женщина почему то периодически свободной рукой придерживала шляпку рукой, хотя в раскалённом воздухе не было и намёка на ветер. В другой руке она несла огромный, но, видимо лёгкий куль, сделанный, видимо, из скатерти, или покрывала, так как, из него цепочками свисали кисточки. Следом за ней, еле волоча ноги, и пошатываясь от утомления, шли двое немолодых мужчин в светлых городских костюмах, с рюкзаками, и чемоданами в каждой руке. Виванюк, затаив дыхание, разглядывал, как пружинит тело женщины при каждом шаге под шёлком, как качаются её бёдра. Он старался разглядеть её лицо. Но тень от шляпки, и солнце. Которое сейчас стояло почти в зените, мешали это сделать...
- Ну, что, господин Виванюк, готовы Вы послужить Великой Германии с оружием в руках!- диверсант тем временем щелчком тумблера отключил питание рации, быстро смотал провод вокруг наушников, смотал разложенную вокруг рации проволочную антенну, и, положив всё это в нишу в корпусе рации, закрыл её переднюю панель защитной металлической крышкой. Щёлкнул замками:
– Генералы на крыше радио-фургона, всё ещё там? Вы туда смотрите?
- А, ведь её вполне можно пригласить в дом, разобраться вечером с мужиками, и всё…- тихо сказал Виванюк, продолжая фиксировать красивую женщину, которая остановилась, повернувшись к нему боком и начала о чём-то разговаривать со своими попутчиками. Один из них поставил рядом с ней чемодан, и она на него аккуратно присела.
- Это плохая мысль. Их не надо приглашать в дом. – возразил диверсант, думая, что сказанное относилось в цели возможного теракта: - Нужно просто хорошее место, откуда можно будет вести огонь из автомата. С чердака, с крыши, где-нибудь поближе к мосту. Генерал, наверняка, будет ехать в легковой машине. Мой ППД легко пробьёт крышу машины сверху. Я начну стрелять сначала в водителя, а потом в зону задних сидений, где он должен будет размещаться, а потом в двигатель и бак, чтобы машина быстро загорелась. У Вас будет мой ТТ и пять обойм. Вы должны будете стрелять просто в машину. Куда сможете попасть. Мы всё сделаем быстро, и отойдём через сады в южном направлении. Потом, в условленном месте сбора групп, нас заберут с помощью самолёта «Шторьх». По прибытии к месту расположения всей нашей группы, Вы, как уже оправдавший наши надежды, и, бывший в деле, сможете выбрать для себя подходящую работу в Абвере. Пройдёте обучение, и, наконец…- тут Петро мечтательно улыбнулся: - Убьёте этого упыря Сталина… А для начала, за успешный террористический акт против крупного советского офицера, мы с Вами сможем получить большое денежное вознаграждение в Рейхсмарках, и, если офицер окажется действительно значимым, может, и награды Рейха...Ну, давайте собираться…Mein Herr…Для Вас эта акция будет пропуском в счастье В счастье, вместе с великим германским народом и его великим фюрером Адольфом Гитлером. Hail Hitler!
- Ух, ну. как ты меня сагитировал за Германскую армию, солдатик. На войну, стало быть, меня забираешь…То есть, прощай школа, утренняя каша, домик, силами совхоза построенный, куры мои, прощай дурашка Прохор, и прощайте мои ученики, ангелочки мои, прощайте. Старичёк Мальбрук, в поход собрался – бог весть, когда вернётся…- Виванюк продолжал наблюдать за мостом.- Кстати, мы за этими генералами будем пешком бегать, или ты уже, ну, точно знаешь, где они проедут, вроде, как через наш мост?
Петро, начавший укладывать рацию в мешок, на секунду задумавшись, ответил:
- Там видно будет.
- Ясно… Наш план называется – импровизация…А вот тут, ну-ка, смотри, что-то интересное происходит…- Виванюк посторонился, освобождая место у окошка.
Как раз в этот момент, к мосту, сигналя идущим навстречу, и, поднимая тучи пыли, по улице села, подъехали две крытые автомашины ГАЗ-АА, новенький лёгкий бронеавтомобиль БА-64, с кургузым хоботом пулемёта ДТ-29 в малюсенькой башенке, и, следом за ним, на рычащем мотоцикле ЗИС М-72, видимо офицер, в кожаной куртке, мотоциклетных очках и шлеме, вроде тех, что использовали танкисты. Поравнявшись у моста с одноэтажным домиком, с соломенной крышей и подслеповатыми окошками в давно не белённых, серых стенах, и вывеской «Хлеб», грузовики и бронетранспортёр, остановились. Офицер слез с мотоцикла и, привалив его к груде пустых ящиков, толи из под бутылок, толи из под чего-то ещё, стал, размахивая руками, распоряжаться. Из бронетранспортёра, вбок и вниз, откинулись дверцы. Оттуда появились водитель и стрелок, по пояс голые, и, тут же побежали к реке, видимо окунуться в воду. Из кузовов ГАЗ-АА, начали лениво выпрыгивать солдаты в форме войск НКВД, вооружённые автоматами и самозарядными винтовками. Невзирая на плотную пыль, было видно, как офицер, сняв шлем, обнаружив под ней иссиня-черные волосы, и, подняв на лоб очки, подошёл к двери магазина, и взвесив на ладони навесной замок, удерживающий железный засов, указал на него одному из солдат. Тот, закинув автомат за спину, быстро юркнул внутрь бронемашины, вылез из неё с чем-то похожим на лом, и, сделав несколько сильных ударов, заставил засов, жалобно звякнув, отлететь в сторону. Пока офицер осматривался внутри дома, а солдаты проворно выгрузили из машин ящики с боеприпасами, мешки, коробки и ящики с продовольствием, какие-то цветастые тюки, чемоданы, несколько матрасов, разобранную железную кровать, станковый пулемет «Максим», скатку колючей проволоки, и много всего другого, включая, даже, пишущую машинку. В дополнении ко всему, из-под тента одной из машин, солдаты высадили двух молоденьких девушек, с городскими причёсками и в ярких платьях. Пока солдаты этим занимались, у магазина стали останавливаться идущие мимо беженцы.
- Это ещё что за партизаны?- Петро криво усмехнулся.- Что, это всё, что Сталинградский фронт решил выставить против 4-й танковой группы, или драпающие большевики перепутали где север, а где юг? Однако, они могут помешать нашей акции…Если, конечно, генералы поедут через мост.
- Ты мне, солдатик, перед акцией этой, хоть бумагу какую дай, справку напиши, чтоб я вашим, потом, показать мог, что, мол, так и так, ваш я. А то, неравён час, вдруг подстрелят тебя, а потом придут ваши, а, ведь, похоже, придут, и не посмотрят, что я пожилой человек, и заставят меня какие ни будь работы копать, или за председателя колхоза ещё примут, да расстреляют…В общем, чтоб никуда меня не мобилизовали товарищи германские друзья… Виванюк, ухмыльнулся, закончив говорить точь-в-точь так, как это сделал бы какой ни будь совхозный конюх, и покосился сначала на автомат диверсанта, потом на его ТТ в кобуре, потом на лежащий на хлебных крошках нож, а потом на девочку, лежащую как кокон бабочки в паутине паука: - Сделай милость...
- Взрывчатке. Похоже. у них нет…Это хорошо…Ладно. Справку тебе напишу от имени OKW, или по другому Oberkommando der Wehrmacht, о том, что ты являешься исключительно ценным агентом армейской разведки. Устроит? Подай-ка планшет…- Петро презрительно ухмыльнулся, продолжая с интересом наблюдать за сценой у моста: как раз в этот момент солдаты в синих фуражках начали прикладами разгонять собравшуюся толпу, решившую, видимо, что магазин открыт, и в нём можно купить хоть каких ни будь съестных припасов. Было видно, как стоящие сзади тянули над плечами передних, руки, с зажатыми в них бумажками советских денег, а офицер, с ярко выраженными кавказскими чертами, и всё теми же мотоциклетными очками на лбу, стоя на крыльце, кидает поверх их голов, что-то похожее на конфеты. Вокруг всего этого шныряли приблудные собаки и бестолково носились чьи-то, забытые в сутолоке гуси. Отдельных голосов с такого расстояния было не разобрать, был просто слышен гомон человеческих голосов, удары лошадиных копыт по доскам моста, лай собак, вздохи далёких взрывов, и гул самолётов. По теням деревьев стало видно, что солнце, наконец-то сдвинулось с точки зенита, и начало постепенно клониться на запад, постепенно всё глубже заглядывая под ветви яблонь и груш, в окна, амбары, под крыши, и навесы Пимен-Черни.
Пока Петро, лёжа на животе у оконца, писал от имени командира 1-го взвода 2-й роты батальона Бранденбург-800 справку на простом листе бумаги о том, что Виванюк Василий Владимирович является ценным агентом армейской разведки, и, что любой германский военнослужащий обязан оказывать ему любую помощь, и подписывался, давка у магазина закончилась автоматной очередью в воздух, поверх голов, после чего люди, забыв о еде, которой в магазине, скорее всего к этому дню уже и не было, бросились все врассыпную, спотыкаясь о свои поставленные, положенные под ногами вещи, падая, и, падая, увлекая в пыль оказавшихся рядом.
Именно в этот момент, Петро почувствовал, как что укололо его в спину, и сзади что-то хрустнуло, он попытался загнуть руку назад, и нащупать это место на спине, и, вдруг с ужасом понял, что всё его тело наполняется пронзительной болью, от макушки до пят, и это хрустели его рёбра и лопатка, из-за того, что из с невероятной силой пробили отточенным ножом. Яркий солнечный свет сделался как-бы вечерним, почти ночным, и зрение начало сворачиваться в точку. Как конец кокой-то кинокартины, перед надписью «Конец фильма».
- Ты что…- сдавлено выдавилось у него из горла, но ему казалось, что он кричит. Тело перестало слушаться. Он хотел вскочить, но не мог, он хотел перевернуться, но мышцы его не слушались, как будто они принадлежали кому-то другому. Перед его взором больше небыло Сталинградского неба, жёлтой земли берегов Аксая, людей, машин, пыли. Перед ним летели и плыли образы и видения улиц Львова, смеющейся Анночки, железный крест на ладони и лента к нему, падающие на каком-то железнодорожном мосту люди, пробиваемые насквозь пулями, и очень далёкий, улетающий эхом женский голос: «Петро-о-о-о…».
Нож ударил в него ещё два раза. Ко времени последнего удара он был уже мёртв.
Виванюк снял колено с позвоночника убитого, посмотрел на мутное лезвие ножа, на бычий затылок диверсанта, подняв нижнюю губу сдул со лба прилипшую муху, и обернувшись к тому месту, где лежала связанная девочка, сказал спокойно:
- Ну, вот, Машечка, никто не может нам мешать…- он оглядел вещи Петро, которые теперь переходили к нему, вынул из фуражки пачку советских денег, провел ногтем по её краю:
- Фальшивки...И сам ты, Петро, фальшивка одна…Генералы, ордена, рабы, мы, да мы…А вот теперь я тебя ноченькой в саду у Прасковьи закопаю, и будешь вечно яблонькой молодой напротив моего окошка… Mein Herr…
Глава 3
Рождение легенды
- Ну, вы это тоже видите? – Чуйков, как древнее каменное изваяние калмыцкой степи, неподвижно стоял на крыше фургона ЗИС-5, и через бинокль, рассматривал крохотные фигурки людей, всадников и машин, двигающихся с юга вдоль высокой насыпи железнодорожного полотна Тихорецк – Котельниково – Сталинград.
- Что, товарищ генерал-лейтенант? Беженцы, армейские подводы, группы отступающих красноармейцев, вижу, вроде несколько орудий с передками на конной тяге…- стоящий радом с Чуйковый, полковой комиссар, даже подался чуть вперёд, пытаясь ещё лучше разглядеть то, что видел Чуйков, и что было удалено от него километров на десять.
- Пыль… - Чуйков оторвался от бинокля, многозначительно посмотрел сначала на комиссара полка, потом на командира батальона, всё ещё стоящего на одном колене, и с планшетом на другом колене, на котором, на листе желтоватой бумаги, комбат уже успел карандашом составить схему, окружающей местности, расположенной рядом с изгибом Курмояровского Аксая, полосой лесопосадок перед ней, поворота дороги к селу Пимен-Черни: - Пыль, товарищи офицеры, другая. Там, где идут беженцы, пыль поднимается низко. Это и понятно. Они идут медленно. Чего ей пониматься-то до небес? Там, где идут группы наших бойцов и командиров из 138-й дивизии Людникова, и 157-й дивизии Куропатенко, а идут они более ста километров, от реки Сал, и не идут, а уже скорее тащатся по этой жаре, пыль, которую они поднимают своим движением, конечно, повыше, чем пыль от отдельных беженцев, потому, что идут военнослужащие более плотными группами, не совсем вразнобой, но всё равно, чего том? Несколько машин в подряд, полуторок, со скоростью лошадиных упряжек армейских обозов, или артиллерии, да повозки медсанбатов, хлебопекарен, полевой почты с полевыми кассами Госбанка, да пешие сапёры, ветеринары, химики. А вон там, если смотреть над крышами Караичева, пыль плотная, высокая, как стена. Там что-то очень быстро движется в сторону станции Котельниково большой, плотной группой. Это машины. Много машин. Длинная колонна. Видишь, комиссар, шлейф такой высокий, длинной километров в десять. Это, похоже, враг. Бензина у него много, машины исправные, войска свежие, цели решительные. Эх, товарищ Хрюкин, где ж твои соколы…Хоть бы один самолётик сюда, самый плохонький, заглянуть, за эту дымовую завесу сейчас, что за Змей – Горыныч там такой летит: Чуйков вдруг яростно топнул ногой по крыше фургона: - Эй, Климов, чёрт тебя побери? Будет связь сегодня?
Из двери, фургона показалась голова адъютанта, и он, щурясь от ослепительного солнца, отчеканил вверх, словно в небо:
- Командующий фронтом, товарищ Гордов, и член военного совета, товарищ Хрущёв, не отвечают, на связи командующий 8-й воздушной армией, генерал-майор Хрюкин…
- Ну-ка, Григорий, быстро…- Чуйков резко, как коршун на добычу, мимо отпрянувшего комиссара, быстро двинулся к краю крыши фургона и, улёгшись на живот, прямо над крохотным оконцем в стенке фургона, свесил к оконцу руку: - Давай ка, Гришка, сюда трубочку…
- Не дотянется, Василий Иванович. - донёсся из двери, сквозь возню, скрежет и кряхтение, словно там двигали мебель, приглушённый голос адъютанта.
- А ты дотяни. Это у вас там РАФ фронтовая, или самоделка из Осоавиахима! Два провода – штекера скрутить как-нибудь, не можете, кружок пионерский… - Чуйков исподлобья оглядел стоящих у машины гражданских, солдат охраны, и нескольких, стоящих тут офицеров батальона: - Чего рты раззявили, не видели, как генерал в цирке выступает. Ну-ка, кыш отсюда!
Автоматчики охраны, замахав руками, как чайки крыльями, оттеснили всех к дороге, вдоль которой, длинной, неровной волной, полурастворившись в степной траве, расположился батальон. Красноармейцам было разрешено сидеть, и они расселись кто где, сразу принявшись уничтожать сухой паёк, сухари, консервированную кашу. Некоторые задымили папиросами, некоторые из них подложили под головы ранцы, шинели и вещмешки, и принялись дремать, как единственную защиту от солнца и мух, применяя пилотки положенные на глаза. Между сидящими и лежащими красноармейцами ходили санитары с бидонами воды и черпаками осторожно разливали воду по флягам. Тут же, с видом грибника в лесу, бродил старшина из полевой почты, собирая написанные письма. Возницы копались в конской упряжи и в поклаже повозок. Офицеры, связные, ординарцы и конные разведчики артиллеристов покинули свои сёдла и, держа утомлённых лошадей под уздцы, стояли дальше в степи небольшими группами. Они что-то обсуждали, или пересмеивались, но постоянно вновь и вновь осматривали небо. Их лошади, отчаянно мотая хвостами из-за обилия мошкары, мух и слепней, водили мордами по непривычной для себя степной зелени, выискивая и пробуя, то разлапистую бакманию, то кустики астрагала, то стебли кияка. Справа на дороге, среди разбитых армейских повозок между чёрных воронок от авиабомб по-прежнему горел грузовик. За ним проплешинами горела сухая трава, а вдалеке у Котельниково, казалось, горел весь горизонт, поднимая на большую высоту чёрные столбы дыма. Артиллеристы, пользуясь остановкой, принялись срезать, и прикручивать с помощью бечёвки к щиткам, стволам, лафетам и зарядным ящикам, и даже к конскому снаряжению, пучки кустистой травы, чтоб хоть как-то снизить свою заметность с воздуха. В третьей роте, среди казахов стоял какой-то совсем юный политрук и, развернув газету, что-то громко рассказывал. Казахи слушали его напряжённо и неподвижно, словно окаменевшие, даже от мух никто не отмахивался. Все люди вокруг и, похоже что и животные, казалось, усиленно щурились от пыли, дыма, ослепительного солнца, летящих из разнотравий мелких семян, бесчисленных насекомых. Среди красноармейцев, обходя грузовики и подводы батальона, по-прежнему цепочкой, группами, или по одному, тянулись беженцы. Женщины, мужчины, старики, дети, но больше всё же женщины и дети. Реже попадались на глаза молодые мужчины в гражданской одежде, а иногда, и в военном обмундировании без знаков различия, без оружия, пилоток и ремней. Несколько калмыком в халатах и маленьких островерхих шапочках, ехали чуть поодаль верхом за десятком рассёдланных лошадей. Очень многие беженцы гнали перед собой своих мычащих коров, блеющих овец и кричащую птицу. Беженцы сидели на своих телегах, придерживая кули и малолетних ребятишек. То там, то здесь, среди них попадались величественные верблюды - дромадеры, навьюченные поклажей, наверное, в большем количестве, чем могло бы вместиться на крестьянскую подводу.
- Вот, Василий Иванович.- перед Чуйковым появилась рука адъютанта с коричневой бакелитовой телефонной трубкой радиостанции.
- Наконец-то, блин горелый! - генерал - лейтенант рывком схватил эту трубку и, нажав рычаг на её ручке, выдохнул: - «Тимофей два раза», рад тебя слышать, товарищь мой дорогой… Я у Котельниково сейчас…Шумилов послал тут, на месте, в обстановке разобраться, что тут происходит. Где кто находиться, особенно части Людникова и Куропатенко, да неотложные меры организовать… Думаю, ещё Шумилов подальше решил меня с глаз Гордова и Хрущёва, отослать. Может, забудут они там, в горячке, с меня объяснений письменных требовать за те бои на Дону в конца июля. Да. Слушай: сейчас, из-за удара немцев и румын с юга, Ставка, наверняка начнёт весь фронт перекраивать, организовывать заслон Сталинграда с юго-юго-запада, менять всё и всех, как всегда. Может и уляжется с объяснениями, не до меня им будет…Да, да…Тут, восточнее Котельниково, что-то активно больно противник авиаразведку ведёт, радиообмен очень интенсивный у него, и похоже, он ближе, чем мы думаем… Может получиться что-то, типа как в Керчи немцы заняли высоты на Турецком валу, когда в наглую шли, перемешавшись с отступающими… Мехлес, знаю - Мехлес… Ладно, Тимоша, друг, выручи по быстрому самолетиком, посмотреть надо с птичьего полёта, что южнее Котельниково… Не-е-ет… Сам не полечу больше, не бойся…
Некоторое время Чуйков слушал, то что ему говорит через трубку командующий 8-й воздушной армией, наблюдая при этом исподлобья, как левее, километрах в трех, похоже, что из района Даргановки, и не на север, северо-восток, куда шли и шли, уже привычные глазу вереницы беженцев, машины и стада животных эвакуирующихся совхозов, а наоборот, на юго-запад, навстречу немцам и румынам, десятка полтора всадников, торопливо гнали большой табун лошадей. Табун, точно повторяя рельеф местности, казалось, плыл, как густые морские водоросли в лёгком прибрежном прибое. Еще одна группа всадников, чёрными столбиками неподвижно стояла невдалеке. Наконец, Чуйков снова заговорил, на этот раз огорчённо:
- Знаю, друг мой Хрюкин, что все прикрывают Сталинград, штурмуют переправы и прикрывают отход Крученкина и Москаленко… Но, послушай, ты же меня, как облупленного знаешь ещё по Китаю… Помнишь, друг, Чан Кайши в Ханькоу? Вместе же, считай, и японских самураев били, и на Карельском перешейке белофиннов дожимали… Я, ведь, просто так, со страху, просить ничего не буду… У тебя, слушай, аж 10 авиадивизий, 35 авиаполков! Ну, хоть какой-то самолётик, да есть у тебя для старого товарища… Ну. что я тебя как девку красную упрашиваю, Хрюкин! На день всего прошу… Ну, спасибо, спасибо, всё, хоть так… Пускай он на позывной «Акустик-1» идёт. Я его сориентирую…Жду… Жму руку, тебе - «Тимофей два раза».Конец связи.
Чуйков сунул коричневую, бекелитовую трубку от радиостанции обратно в окошко фургона. Затем медленно поднялся на ноги и отряхивая ладонями от пыли китель на груди и животе, сказал сквозь зубы комиссару полка и командиру батальона, и было видно как в нём бушует раздражение:
- Вот, хоть прилёг, первый раз за сутки…Ладно, через час, через два, воздушный разведчик у нас будет. Поздновато, конечно… Зато будем знать. Что вдоль железной дороги происходит, да. и вообще…А что, ваш комдив-208, Воскобойников? Связь есть с ним?: -генерал-лейтенант закончил сбивать с себя пыль, подошёл к краю кабины, простучав каблуками по жестяной обшивке крыши фургона, и начал спускаться. Спускался он уже не так складно, как поднимался. Перед тем, как перебраться с капота на крыло ЗИС-5, он жестом подозвал своего шофера, и тот помог ему преодолеть последний метр до земли.
- Как больно-то…Спасибо, Каюм. - Чуйков сморщился, как от острой боли, и схватился обеими руками за поясницу: - Вот так вот, товарищи офицеры, как с самолётом на землю падать. Больно, хоть криком кричи...Чего комдив-208?
- Пока не отвечает, товарищ генерал-лейтенант.- приняв положение «смирно» ответил стоящий у радиатора машины помначштаба полка по связи Нефёдов: темные круги пота на груди и подмышками его гимнастёрки были почти не видны из-за множества ремней и лямок его разнообразной амуниции, которую он, почему то, несмотря на остановку марша, предпочёл не снимать.
Чуйков перестал морщиться, но, всё еще держась за позвоночник правой рукой, посмотрел на наручные часы:
- Час дня. Мне нужно быть засветло в Генералово у комдива-29. А дорога туда, не короче пути… Так. Комбат, комиссар. Времени мало. Слушай приказ. Силами вашего батальона с имеющимися средствами усиления. А ты, комбат, записывай, записывай, жара, видишь, такая - фамилию забудешь свою, не то, что тонкости.
Приказываю: занять оборону перед селом Пимен-Черни. Не дать механизированным частям немецко-румынских войск, переправиться на северный берег Курмояровского Аксая, используя пологий спуск к реке у моста в Пимен-Черни, и сам мост. Принудить врага либо вступить с вами в бой, теряя время, технику, и живую силу, либо наводить переправу в другом месте, теряя время, либо двигаться дальше на восток, теряя время и моторесурс техники, а так же горючее, и утомляя людей. Сопротивление оказывать до последней возможности. Приказ на отход, только лично от меня, или командующего 64-й армией, товарища Шумилова. За не должное исполнение, взыщу как по приказу Народного комиссара обороны № 227 от 28 июля. В вагонах ехали в это время, значит, в ротах ещё не зачитывали. Зачитайте. Вот и весь мой приказ. Исполняйте.
- Есть исполнять приказ, товарищ генерал-лейтенант. -нестройно ответили офицеры. Комиссар полка при этом, отчего-то закашлялся.
- Теперь по организации обороны несколько предложений. Уж, послушайте трижды орденоносца, прошедшего всю Гражданскую, Японскую, Финскую войну и, ещё поход по освобождению Белоруссии и Восточной Польши, да, и к тому же отсидевшего себе задницу в Военной академии имени товарища Фрунзе. Передний край организуйте по опушке лесопосадок в 100 метрах перед деревьями. Укрытия готовите как?- крупное, загорелое и усталое лицо Чуйкова при этих словах несколько обмякло и приобрело какое-то лисье, лукавое выражение.
- Согласно Временному Полевому Уставу РККА, ПУ-36, товарищ генерал-лейтенант.- с готовностью кивнул комбат.
- Нет. Отдельные ячейки для бойцов не копай. Под огнём боец один остаётся, и чувствует себя не уверенно. У фашистов очень много автоматов и пулемётов в пехоте. Он не даст ни за боеприпасами идти, ни санитарную помощь оказать бойцу, ни маневрировать на поле боя. Огонь фашисты часто такой организуют, что просто не встанешь под ним на ноги. Так что рой траншеи в полный рос, зигзагом, чтоб враг, ворвавшись, не мог вести огонь с одного конца траншеи до другого насквозь, и мина, бомба, или снаряд, попав в траншею, не имели максимального воздействия. Под ПТРы, «Максимы», делай в траншеях уширения, выступающие вперед, чтоб можно было вести огонь вдоль линии траншеи и под острым углом. В стенках траншей сделай ниши для укрытия бойцов и боеприпасов. В бою бегать в обоз будет некогда. Любая пробежка под огнём. Это ранение, или смерть. А ползком много не наползаешь. Перед передней траншеей организуй ложные позиции стрелков и противотанковых пушек. Чучела в шинелях и макеты из оглоблей не жалей. На немецких лётчиков они работают хорошо. Сам видел. Тебе же бомб и снарядов меньше достанется, если что. Охранение днём вперёд не выдвигай, береги бойцов. Всё и так видно. Ночью парные секреты выброси вперёд на 500 метров. В первой траншее держи два взвода стрелков, с винтовками автоматами, и треть «Максимов». Пулемёты только на флангах…
Румыны, конечно гораздо слабее. Но кто тебе достанется, комбат…-Чуйков неожиданно замолчал, задумчиво глядя на лесополосу в полукилометре от них, прикрывающую собой село Пимен-Черни, и медленно пошёл в ту сторону, раздвигая голенищами сапог густые заросли ковыля, кияка, солодки и астрагала.
- Вторую линию траншей, комбат, делай у деревьев, но, не совсем, отступи метров пятнадцать. Из-за разрывов снарядов и бомб от них такая щепа полетит, не хуже осколков.
Обе линии траншеи соедини тремя ходами, чтоб можно было бойцов из первой отвести, или наоборот, первую усилить. Противотанковые пушки свои замаскируй так, чтоб сверху, словно степь, были. Они, и твои ПТРщики, это твои ангелы. Потеряешь их, и танки из тебя гусеницами фарш будут делать. Они только по танкам должны работать, и с 400-300 метров. При первых их выстрелах, ориентируясь на пыльные облачка выстрелов, немцы на твоих противотанкистов обрушат весь свой огонь, чтоб дать возможность танкам добраться до твоих позиций. Если, конечно, танки у них будут атаковать, а не стрелять издалека, метров с 900-1000. А ты молчи. Пусть стреляют себе…С такой дистанции много не настреляют твоих…Вот, если гаубицы они свои подтянут, и будут расстреливать твои окопы, тылы твои, с упряжками, машинами, эвакопунктом раненных, громить твой НП, тогда просто сиди, и жди. Терпи. Ответить тебе будет нечем…Но…Первая атака – то, будет их с наскока…Разведка… Мотоциклы, может кавалерия… Пока ты их прищучишь, и они побегут своим танкистам пожалуются …Пока они подтянутся, заправятся горючим, осмотрятся…А ты будь хитрей, сразу-то, всю силу его разведке не показывай, прибедняйся, мол не батальон свежий у тебя, а так, с бору по сосенке…Потом танкисты наскоком попробуют…Они тут, на открытом фланге, 64-й и 62-й армии, и всего Сталинградского фронта, никакого серьёзного сопротивления не ждут…Ближайшая от вас дивизия в ста километрах. А ваша 208-я, пока ещё непонятно где…Одни вы тут… Соседей нет. Ни справа, ни слева…Так вот. Пусть они ещё разок попробуют с наскока…А уж когда авиацию позовут и артиллерию свою подтянут…Тут, уж, смотришь…Пару суток и пройдёт…Ну, а если румыны на вас выйдут, а не немец, считай счастливчики вы, может, и все пять суток их помотаете…: - Чуйков резко повернулся к идущим за ним следом офицерам, и лицо его стало похоже на неподвижную маску: сощуренные глаза не мигая, смотрели, казалось, и на комиссара полка, и на командира батальона одновременно, ни одна складочка при его словах не шевелилась, только, едва разжимались губы:
- Понимаешь, комбат, для Сталинграда каждый час, каждые сутки, это как жизнь. Наступление фашистов с запада через Дон мы затормозили. А он взял, и с юга, со стороны Кавказа, целую танковую группу Гота сюда развернул. Видать, Сталинград, стал сейчас Гитлеру важнее Кавказа. А у нас здесь пустота. Ставка перебрасывает дивизии из своих резервов. Но они должны прибыть и занять свои участки обороны, окопаться, и подтянуть артиллерию и боеприпасы. Дай мне, комбат, хоть мне, хоть пару суток, хоть сутки, хоть ночь одну…Может, ваш батальон из 208-й дальневосточной, потом, в этом аду и не вспомнит никто…Но я, твоих суток не забуду никогда… Дай мне их… Мне, и Родине нашей Советской…
- Товарищ генерал-лейтенант, Вы не сомневайтесь, мы все как один умрем за нашу партию и народ! Грудью встанем, за Сталинград, за учение Ленина и Великого Сталина! – воскликнул полковой комиссар, сжимая рукоять шашки, и выкатывая глаза.
Лицо Чуйкова перестало быть неподвижной маской, на лбу, вокруг огромного малинового шрама собрались глубокие складки, а подбородок с глубокой ямкой посередине выехал вперед. Он сделал шаг к комиссару полка и, оценив расстояние, на которое они отошли от фургона с рацией, и поняв, что его, кроме двоих офицеров, никто больше не слышит, ткнул указательным пальцем в то место, где у комиссара полка, под карманом гимнастёрки и партийным билетом было сердце, и быстро, зло заговорил:
- Я комиссар, на Гражданской, на Финской, на Польской, и на этой войне, насмотрелся на художества комиссарские по горло. Войну, как в уставе и как в кино, под знаменем, толпой и криками «Ура!», я тебе запрещаю. Знаю, людей «За Родину», «За Сталинград», «За Сталина» ты поднять сможешь. Все встанут за тобой. Но у немца в пехотном батальоне, на каждую роту - по двенадцать пулемётов, да в батальоне ещё, кроме того - отдельная пулемётная рота с десятью пулемётами. Итого: 50 пулемётов на батальон. В рост, в атаку, хоть батальон весь на эти пулемёты поднимешь, через пятнадцать минут всё - не будет батальона! Собери всех политруков, аккуратно всё это им втолкуй. А вот за трусов и оставление поля боя, я с тебя спрошу, как сама Советская Родина. Кто побежит –стреляй того сразу! Комроты побежит – стреляй комроты! Комбат твой побежит – стреляй его! Понял? - Чуйков снова с яростью ткнул пальцем в грудь комиссара, отчего тот, заметно вздрогнул, словно сам только что получил пулю: - Всех отступающих красноармейцев, офицеров, мужчин призывных возрастов от шестидесяти до восемнадцати лет, задерживай, и в строй. Кто будет отказываться, а также паникёров, трусов, агентов и провокаторов - расстрел на месте. В Пимен-Черни возьмёшь всех, кто может держать лопату, и сюда, рыть траншеи. Кто откажется – расстрел. Ты теперь здесь Советская Власть, комиссар. А комбат твой – твоя Красная Армия. Понял? Да сложи, комиссар уже ты карту эту, что ты её держишь перед собой, как транспарант на демонстрации:- он опять ткнул комиссара пальцем к грудь, на этот раз уже не так сильно и, не дожидаясь ответа, быстро взглянув в красное, толи от чрезмерного быстрого загара, толи от волнения, лицо комбата, который всю эту сцену простоял с планшетом и карандашом наизготовку, Чуйков, снова повернулся лицом к лесопосадкам, медленно пошёл по пыльной, нежно шуршащей траве.
- Хорошо – продолжил он через мгновение прежним, спокойным голосом, похожим на голос лектора в академии: - Ну, вот, вроде всё. Вот ещё что…После того, как немец поймёт, что перед ним сила, он отбомбиться и отработает по тебе артиллерией и станет наступать на тебя уже по серьёзному, пехотой, переставляя пулемёты, всё ближе и ближе… И только потом в последнем ударе пустит танки… Если его пехота на бросок гранаты к твоей траншее подойдёт, тебе конец. Ты этого не допусти. Контратакуй накоротке в штыки. Когда вы будете в одной куче, он из пулемётов и миномётов стрелять не сможет. Своих перебьёт. Заставишь их бежать, и сразу обратно в окопы. До каждого красноармейца это доведи, комбат, даже поварам. Им тоже придётся потом в цепи идти. Раненых своих отправляй сразу. Тяжелораненых не вези, не довезёшь. Некуда. Медсанбатов позади тебя нет пока. По хатам в село отдай. Мины все свои, вперемешку, противопехотные и противотанковые, ставь сразу. Не береги. Не пригодятся больше. Ночью холодно тут. Костры жги в ямах, как кочевники. Сверху закрывай… Смотри-ка…
Чуйков, вдруг застыл, как вкопанный, и начал медленно приседать, опускаясьв траву…
Комиссар и комбат последовали его примеру, раскрывая свои пистолетные кобуры. Но когда Чуйков обернулся к ним, и стало понятно, что он улыбается, бесхитростно, с какой-то умилительной радостью в глазах, они и сами поняли, в чём дело: метрах в тридцати от них, со стороны лесопосадок, среди кустиков астрагала, и плотных, кустиков солодки, похожих на маленькие жёлто-зеленые взрывы минометных мин, застыв стояла, не то небольшая лисица, не то корсак, совершенно не боясь людей, и внимательно изучая их своими прищуренными от ослепительного солнечного цвета, глазами.
- Уф-ф…- комиссар полка громко выдохнул:- Я думал диверсант какой ни будь… Ну, и зрение у Вас, товарищ генерал лейтенант… Его же почти не видно в траве было…
- А вот сейчас посмотрим, что за корсак нам попался.-Чуйков, с усилием, превозмогая боль в спине, приподнялся, и в полусогнутом состоянии двинулся в сторону зверька. Когда расстояние сократилось шагов до пятнадцати, корсак, а это, судя по размерам и пепельному оттенку шерсти, был именно он, вдруг опустился в траву, и совершенно затих, словно мёртвый.
- Видишь, комбат… Обмануть нас пытается. Словно он падаль просто…-Чуйков продолжил осторожное движение, сигнализируя следующим за ним офицерам, чтобы они не торопились. До того места, где лежал карсак, оставалось всего метра три, когда, зверёк наконец вскочил, и как зигзаги молнии, понёсся в сторону лесопосадок между кустиками и плотными зарослями трав.
- Вот даёт!- Чуйков, наконец распрямился и стал смеяться беззвучным смехом, отчего его грудь и живот заходили ходуном: - Вот хитрец-то, хитрец. Я то думал сначала, что он в барсучью нору спрятался…
Чуйков, вдруг перестал смеяться и вытерев согнутым пальцем слезинки у переносицы, жестко сказал:
- Вот тут, товарищи офицеры, вам и первую линию обороны надо копать. Как раз до леска метров сто. И ведите себя как этот лисёнышь. Похитрее. Удержите Пимен-Черни, или умрите тут! Заставьте врага силы и время терять на бой и обходы. Заставьте терять горючее, боеприпасы, технику и людей! Ну, всё, пошли, а то мне в к комдиву-29 нужно ехать.
Быстрым шагом они втроём вернулись к машинам, чуть в стороне от которых, всё также стояла группа гражданских, и среди них, выглядывая из-за дюжих плеч автоматчиков охраны, всё тот же старику в старой казацкой фуражке с треснутым козырьком, и застиранной до белёсых пятен рубахе, подпоясанной наборным пояском, но новых, щёгольских новых сапогах. Старик, увидев, что офицеры возвращаются к машинам, снял фуражку, и стал трясти ею, пытаясь привлечь к себе их внимание.
- Григорий, собирайте радиостанцию. Едем в Генералово.- Чуйков тяжёлым взглядом уставился на помначштаба полка по связи: - Ну, есть связь с вашим комдивом-208? Чего руками разводишь? Продолжайте вызывать. Он должен со мной связаться. Мой позывной «Акустик-1». Ясно?
-Так точно, товарищ генерал-лейтенант, ясно. – Нефёдов вытянулся, и приложил ладонь к пилотке.
- Носов, давай сюда деда этого…Минутка есть-то всего…- Чуйков подошел к «эмке», дернув за горячую ручку распахнул заднюю дверцу, и опустил тело на край заднего сидения, взял из рук комиссара полка сложенную оперативную карту, бросил её на кучу бумаг и газет под сидением.
- Жарко то как…- Чуйков, расстегнул верхнюю пуговицу кителя, и некоторое время сидел неподвижно, положив широкие ладони на колени, и не моргая глядя на кустики дикой горчицы, с остатками некогда ярких цветочков перед своими сапогами.
- Товарищ генерал-лейтенант…Водички. - вывели его из оцепенения слова водителя Каюма. Он взял в руку прохладную кружку, блестящую живительными капельками, и поднял голову:- А-а.. Старик…Ну, говори, что там у тебя с детьми…
- Зовут меня Семён Михайлович. Михалыч… Красновы мы… Мы собственно, товарищ, из Пимен-Черни, туда сюда ходим, то копать оборону у Гиблой балки, то нет…-старик чуть ссутулился, пытаясь рассмотреть в чёрной тени салона «эмки», глаза Чуйкова, и принялся, видимо, так привык говорить, быстро, почти без пауз на дыхание: - Дети пропадают последнее время сильно. В Даргановке, в Пимен Черни, и в Нижнем Черни тоже. Председатель совхоза товарищ Ляпинш руками развёл, говорит военное положение в области, не до того, а потом бумаги совхозные по управе раскидал, и на колхозном грузовике с женой в Сталинград подался…. Участковый товарищ Худосеев, уехал аж три недели как назад, и семью всю увёз. Говорил, вернётся к вечеру… А через нас люди из Ростова, из станиц, откуда только не идут. Все в Сталинград, или за Волгу…Всё идут, идут…То водички им попить, то за бешенные деньги картошки купить…Колмыки, солдаты и горные всякие, то корову утащат, то коней уводят, чуть ли не в открытую, то по домам шарят… Одно слово, власти никакой не стало… А дети пропадают… Вчера у Андреевны дочка малая пропала, Машечка, на медни у Стеценко, девочка тринадцати лет отроду, на прошлой неделе у Журавлёвых и у Сологуб, девочки двенадцати и одиннадцати лет… Сёстры Ивановы, скотница Грищенко, те постарше, пропали две недели назад, почти сразу…И нашли их, а может и нашли…
- Василий Иванович, всё готово, рация свёрнута. Всё готово. Елянин с радистами поедет. - с другой стороны машины, на переднее сидение залез адъютант.
Слегка отстранив старика, на водительское место уселся водитель, и выжидательно обернулся к Чуйкову.
Автоматчики охраны генерала, тем временем молча стали залезать в кузов ГАЗ-АА через не опущенные борта, стуча сапогами, клацая оружием, подсаживая подтягивая друг друга.
- Дедуля, ну, что ты пристал к товарищу генералу…- стоявший рядом комиссар полка, наблюдая, как Чуйков крупными глотками пьёт воду, нетерпеливо постучал ладонью по рукояти своей шашки: - Не до тебя совсем… Похоже фашистские войска на подходе…Нам оборону нужно устраивать здесь, а товарищу генерал-лейтенанту на всём южном участке… Не видишь? Найдутся они, ваши шалопайки…
Старик не оборачиваясь на это замечание, и прижав фуражку к груди, заговорил ещё быстрее, голос его осип, толи от пыли, толи от волнения:
- И тут мы стали их находить… Девочек наших… А, может и не их…Уж больно изувечены… Кого в степи, уж и лисицы поели, и курганники поклевали, а одежды то на них никакой, что и не опознать… Только, ели волосы похожи, да родинки…
То туфельку, то кусок платья находили, когда всем селом выходили вокруг искать… Словно антихрист их унёс…Деток наших… Помоги, бросили нас всех, а мужиков позабирали кого, а кто разбежался сам… Одни бабы, мальцы, да старики…Помоги, генерал, ты тут один, наша власть теперь.- голос у Михалыча дрогнул.
Каюм в это время сделав зверское лицо, и затаив дыхание повернул ключ зажигания. «Эмка», лязгнула, скрипнула, дёрнулась и задрожала, выдав позади себя облачко сиреневого дыма:
- Как птичка поёт!- Каюм белозубо повернулся к Чуйкову.
-Да уж…Это тебе не ручку на АМО крутить…- ухмыльнулся адъютант.- Едем?
В этот момент, со стороны дороги, вдоль которой всё также, ожидая команды для последующих действий, располагался на отдыхе батальон, среди понуро идущих к переправе беженцев, похоже, что в группе колхозниц, в пыльных юбках и платках, закрученных на шеях, которые сопровождали несколько конных повозок с тюками и мешками, пронзительно заплакал ребёнок. Он плакал и кричал так пронзительно звонко, что, кажется, померкли все окружающие звуки: и далёкая артиллерийская канонада из-за дымов на западном горизонте, и гул бомбардировщиков в пылающем жарой небе, и многоголосый человеческий и лошадиный гомон, и рокот работающих автомобильных двигателей.
Чуйков поставил недопитую кружку на сидение позади себя, поднял глаза на старика. Над его головой, высоко в небе, было видно как один разведывательный самолёт немцев Focke-Wuif 198, закончив последний круг, устремляется на, а ему навстречу, на смену, двигается точно такой же Focke-Wuif. Чуть ниже них, но, всё же очень высоко, тоже на юго-запад, плывут несколько бомбардировщиков в сопровождении пары истребителей.
Плач ребёнка стих, но всё ещё звенел в ушах Чуйкова:
- Комбат… Дай этому старику трёх бойцов, пускай походят с ним по округе, по домам, по лесопосадкам. Пускай найдут девочку той гражданки. - он глазами указал на то место, где в траве, всё так же со сбившимся на спину платком, сидела женщина, которую старик назвал Андреевной.
- Това-а-арищ генерал-лейтенант…Вы же сами говорите чтоб оборона, чтоб каждого человека считать.- начал было говорить полковой комиссар, которого вся эта сцена со стариком, столько времени отвлекающим всех от важнейшего дела, явно начинала раздражать.
- На этой территории по Указу Президиума Верховного Совета СССР, действует военное положение, и я как старший воинский начальник, являю собой и милицию, и суд, и попа с кадилом. А как я отъеду, то этим попом будешь ты, комиссар, со своим комбатом. Это наши, советские все люди… Это наши, советские дети… И то, что ты с Дальнего Востока, а они их калмыцкой станицы, ничего не меняет, комиссар.- Чуйков потер шрам на своем лбу, посмотрел на пальцы, на которых остались пыльные катушки.- Может быть эта маленькая девочка, найденная и спасённая здесь, среди этой катастрофы, горя и ненависти, будет самое лучшее, что мы сделали в эти дни.
- Не понимаю Вас, товарищ генерал-лейтенант.- пожал плечами полковой комиссар, но стоящий позади него командир батальона кивнул головой:
- Есть, дать трёх бойцов.
- А тебе, Михалыч, партийная задача. - сказал Чуйков, перекидывая, наконец ноги из травы на пол «эмки», выведи, вместо твоего председателя, от имени Советской Власти, всех на рытье траншей. Этому батальону тут за вас намертво стоять придётся. Договорились?
- Выйдем все как один, не сомневайтесь, ваше превосходительство, товарищ генерал. Михалыч закивал и быстро перекрестился, добавив уже шёпотом: - Храни Вас бог…- и только тут стал, заметен в вырезе его косоворотки крохотный оловянный крестик на простом шнурке.
- Комбат…- Чуйков движением ладони показал старику, что разговор окончен: - Комбат, от штаба тыла, из Советской, подкину тебе машину мин к миномётам и патронов, тысячи три. Гранат РПГ и бутылок КС пришлю. Выстрелов к 45-мм, нет, беда с ними, экономь…Так что жди машину от генерала Лобова. Не подводите, дальневосточники! - он кивнул на прощание офицерам и захлопнул дверцу машины: - Каюм – вперёд! Машина дёрнулась вперед, и кружка с сидения упала на стопку газет и карт, оставив на них, прямо на глазах сохнущее влажное пятно.
Одна за другой, за «эмкой», вздрагивая на кочках, и завывая двигателями, в направлении переправы за леском, перед которой всё также интенсивно горели несколько комбайнов и тракторов ХТЗ, развернулись ГАЗ-АА с охраной и ЗИС-5 с пыльно-зелёным фургоном радиостанции. Комиссар полка и комбат, тряся планшетами, биноклями, и на ходу о чём-то переговариваясь, и неловко спотыкаясь о кочки травы, рысцой побежали к батальону, мимо всё так же горестно сидящей на коленях матери пропавшеё девочки.
Чуйков, проезжая мимо встающих по команде красноармейцев, рассеянно смотрел, как они толкают задремавших, укладывают в вещмешки недописанные письма, прекращают на середине слова разговоры, как начинают поднимать из травы и навьючивать на свои спины хоботы и станины пулемётов, трубы, блины миномётов, длинные железные палки ПТРД, ящики с боеприпасами и коробки с продовольствием. Офицеры залезали в сёдла и разъезжались вдоль строящейся колонны. Несколько молодых солдат, игравших до этого в догонялки с мышью - полёвкой, надели каски, которые они до этого использовали вместо сачков, на свои коротко остриженные головы, и от этого их тонкие юношеские шеи стали казаться ещё тоньше. Чуйков, проезжая невдалеке от них, на мгновение поймал смешливо – любопытный взгляд одного из них, провожающий генеральскую машину, и в этот момент почувствовал, что смертельно устал. Перед его глазами, как в мыльной плёнке поплыли серо-зелёные холмы, самолёты в небе, вперемешку с птицами, голубая даль, и высокая стена серой пыли, подпирающая голубое небо. Он ещё раз, полуобернувшись, через заднее стекло «эмки» окинул взглядом батальон, и чуть заметным движением правой руки, перекрестил его крестным знамением:
- Прощайте…
...Латунный пруток никак не хотел зажиматься в тиски, выскальзывал из войлочной оправки, и, наконец, жалобно дребезжа, как бы жалуясь на нерасторопного подмастере, упал на каменную плиту пола. Юноша в тёмной от полировочной пасты холщёвом фартуке, поверх мокрой от пота рубахи неопределённого цвета, застыл на месте, прикусив губу. Через несколько мгновений, по его зптылку ударила тяжёлая рука:
- Ты Чуйков, наверное и не Чуйков, а, наверное ты Чурков, от слова чурка поленная. Раззява – олух! Совсем работать не можешь. Ох, Васька, Васька, гляди, вышвырну я тебя на улицу, пинком под зад, обратно в свою захудалую Московскую губернию, в деревню обратно, коз с утками пасти всю оставшуюся жизнь. Лапоть - деревенщина…
Василий быстро поднял со скользкого, грязного пола капризную заготовку и обернулся. Прямо перед ним, дыша негодованием и винным перегаром, уперев руки в бока, стоял седеющий мужчина в таком же, как и на Чуйкове, фартуке, и крохотном пенсне на широком, широкоусом, красном лице. За спиной этого гороподобного мужчины, под рядом тусклых полуподвальных окон, вдоль кирпичной стены, стояли деревянные верстаки, около которых, в полусогнутом состоянии орудовали напильниками и ножовками по металлу, несколько юношей и подростков. Еще несколько человек, в углу, деревянными черпачками ели кашу из дымящегося котелка, который стоял перед ними на грубо сколоченном табурете. В другом углу гудел сильным огнём небольшой горн, перед которым были сложены всевозможные щипцы, молотки, прутки металла. Над единственным входом в подвал, которому вели несколько протертых от ходьбы ступенек, висел фотографический портрет Николая II в крашенной в жёлтый цвет деревянной рамке, и с ленточкой российского триколора. На противоположной от входа стене, в углу, мерцала крохотной лампадкой икона Николая Чудотворца. По стенам были развешены щиты с заготовками, и уже с почти готовыми парами шпор, разного размера и из разного материала. Ещё одним источником света в мастерской служила тусклая, постоянно моргающая электрическая лампочка в медном патроне.
- И нечего таким делать в столичном Санктъ - Петербурге. И еды не дам, ни пятиалтынного, ни гривенника, ни гроша ломанного на дорогу…- мужчина ещё раз замахнулся, но, наткнувшись вдруг, на взгляд Василия, полный ненависти, бить раздумал: - Прости меня, грешного, Святой дух наш, вседержитель, да святится имя твое, да прибудет царствие твоё…- он торопливо перекрестился: - К утру шпоры для их превосходительства есаула не будут готовы, собирай котомку, волчёнышь…
- Я сделаю, господин мастер. Я успею. – Чуйков сжал в руках латунный прут так, что побелели костяшки пальцев.- Я сделаю…
- И не называй меня господином мастером, чай не у нехристя Шмидта горбатишь…Никанор Кузьмич я…- мужчина развернул грузное тело, и зло крикнул: - Чубарь, в помощь этому недомерку… Чтоб шпоры к утру сделали, с колёсиками и монограммой…
После этого Никанор прошёл мимо горна, пнул сапогом корзину с углём, и, поднявшись по лестнице, исчез за дощатой дверью.
Один из юношей, с худым, бледным лицом, и шрамом на верхней губе, привстав, доел последнюю ложку жидкой каши, держа под ложкой и подбородком сложенную лодочкой ладонь, облизал ложку и, сунув её за голенище сапога подошел к Чуйкову:
- Размеры где у тебя?
-Вон там. На бумажке.- Чуйков кивнул через плечё.
Чубарь, взял с верстака, засыпанного металлическими опилками мятый листок бумаги, изучил его, покашливая в кулак, и, отойдя к соседнему верстаку, полез под него. Некоторое время он гремел там чем-то, и, наконец, вылез оттуда с парой уже согнутых заготовок для шпор:
- На, это от твоего тёзки с прошлого года осталось. Его тогда ямщик на лошади на Литейном сбил насмерть, да будет ему земля пухом. Посмотри, кажется, под твой размер подойдёт, подправишь немного, и колёсики сделаешь. На, Вась…
Василий и Чубарь присели на верстак, рассматривая уже подёрнутые зеленоватым окислом заготовки.
- Не могу я здесь больше, Андрюшка. Кровопийца этот Кузьмич, и жена, братья. Все эти Савельевы. Уйду я. В юнги хочу. В Кронштадт. - сказал Чуйков.
-Куда? Да ты мал ещё в юнги.Смотри, здесь и харч, и спать можно, и смотришь, рубль-два можно в месяц собрать для своих.- Чубарь закашлялся, прикрывая рот ладонью, посмотрел на оставшиеся после не ней розовые пятнышки, и быстро вытер ладонь об фартук.- В твоих Серебряных Прудах, только название, поди ж ты, серебряное. А кроме медяков никакой деньги и не водилось. А тут столица - Санктъ – Петербург. Скоро, говорят, война с Вильгельмом будет. Заказов много будет. Смотришь, и в посыльные выбьешься. А там чаевые. Можно и на барышень посмотреть, и в красивых домах побывать. Ты ж смышлёный, Васька, у тебя и четыре года церковной школы, и даже год училища. Если ты на казённый Путиловский завод надумал идти, то не советую. Там людей живьём в машины затягивает и калечит - убивает. Мастеру не поклонился – штраф, отвернулся – штраф, опоздал – штраф, на портрет царя не перекрестился - штраф. К концу месяца ты заводу должен больше, чем он тебе. Только и хватит в заводской лавке купить на гривенник пол пуда картошки, да на десяток яиц за пятиалтынный, … Листовку революционерскую нашли – увольнение сразу и жандармам отдадут. На заводе Нобеля, на Металлическом, Невском и у Лесснера не лучше. Может, конечно, токари и фрезеровщики по тридцать рублей и зарабатывают, да всё равно всё за комнаты заводские отдают…Я уж разузнавал…
- А ты смотри, Андрюха, как тут с нами обращаются. Как не люди мы божьи, а скотина какая. А если везде так, так надо делать что-то, менять надо…- Чуйков полез за пазуху, и вынул вчетверо сложенный желтоватый листок.
Чубарь побледнел ещё больше, и схватив Чуйкова за локоть своей загрубелой ладонью с чёрными полосками под обкусанными ногтями, задыхаясь прошептал:
-Что ты…Листовка…Спрячь Христа ради, выдаст нас кто ни будь…Вишь зыркают уже…
- Читай… «Товарищи, кровавый царизм на Дворцовой площади стреляет в ваших жён и детей из винтовок своих гвардейцев, сделанных вашими руками, он рубит вас на Ленских приисках казацкими шашками, сделанными вашими руками. Его проклятый Зимний дворец недаром окрашен в тёмно-красный цвет. Это цвет нашей крови, товарищи! Товарищи, кровавый 300-летний Царизм должен быть беспощадно уничтожен! Союз анархистов Севера призывает вас…» - Чуйков повернувшись спиной к остальным подмастерьям, разложил поверх напильников и лобзиков листовку. В этот момент скрипнула и хлопнула дверь в подвал, и через короткое мгновение раздался шип:
-А, волчёныши, заготовку покойника вытащили, обмануть решили…Теперь я вам обоим точно не заплачу ни за прошлые месяцы, ни за этот. И никому вообще не заплачу. Скажите спасибо, что учу вас, дураков, и хлеба даю.
Чубарь метнулся было на к табуретке у котелка с кашей, но полечил удар по уху и, споткнувшись, о выступ плиты пола, с грохотом упал на разлетевшийся ящик с полировочной ветошью: - За что… Никанор Кузьмич…
Тот, распространяя вокруг запах винного перегара и солёных огурцов, уже двигался к Чуйкову, замахиваясь для сокрушительного удара:
- Заморыши…Я вам покажу, как за моей спиной обманничать…Эх!
Василий, схватив с верстака листовку, инстинктивно пригнулся, и сделал шаг в сторону. Пудовая рука прошла над его головой, чуть тронув волосы, мастер всем телом повалился на верстак, заскрежетали по камню железные ножки, со звоном упали несколько напильников и лобзиков:
- Держите Ваську!
Пока другие подмастерья вскакивали со своих мест, Чуйков уже взлетел к двери сразу через несколько ступенек, и под стук своего бешено колотившего сердца, распахнув её, выскочил в темный узкий коридор, с одной стороны которого светила огоньком электрической лампочки открытый проём конторы, а с другой стороны распахнутая настежь, и подпёртая куском кирпича, дверь во двор.
Под крик «держи вора», который, к слову сказать, быстро остался далеко позади, он, что было силы, побежал через узкие высокие колодцы серых дворов, тоннели подворотен, среди дровяных сараев и конюшен, разбрызгивая в стороны брызги луж, распугивая кошек и ленивых голубей. Вырвавшись на улицу, он, не останавливаясь пробежал вдоль казарм Морского экипажа, несколько кварталов деревянных и каменных домов с дощатыми заборами, огородами и садами. У большого дома на углу Офицерской, и речки Пряжи, он остановился, и, тяжело дыша, обнял огромную афишную тумбу, с огромными косыми буквами: «Демидовский сад. Новейшие аттракционы. Для Вас, дамы и господа, в нашем театре трагедия «Владимир Маяковский» в исполнении автора. Декорации и костюмы П.Флонова и К.Малевича». С Невской Губы оттуда, где теснились корпуса недостроенных судов, цеха и портальные краны Адмиралтейского судостроительного завода, дул влажный, холодный ветер, перемешенный с запахом горелого угля, гудками буксиров и криком чаек. Чуть правее рядами стояли чёрные силуэты заводских труб, и казалось, что выходящий из них черный дым, расползаясь в разные стороны, и формирует всё это низкое, почти однотонно серое небо. Моросящий мелкий дождь, больше похожий на туман, делал булыжную мостовую вокруг похожей на блестящую чешую огромной змеи, а первые желтые листья походили на несчастных золотых рыбок, погибших на теле чудовища. В череде гулких ударов капот извозчичьей лошади неподалёку возник сбой, и после кусочка негромкого разговора «А я тебе говорю, Глафира, эти Дервизы, это фамилия такая, это ж миллионеры с железной дороги, эх, деревня ты, деревня…А Терещенко, тот будет сахарный король, уже наследство двадцати семи лет отроду получил. Аж, сто миллионов рублей. Он и есть главный миллионер россейский…», уже требовательно, густой бас скомандовал: «Тпру-у-у…Лохатая!». Чуйков осмотрелся, постепенно успокаивая дыхание. Невдалеке, рядом со здоровенным пузатыми городовым, в белом мундире, при шашке и револьвере, о чём-то оживленно беседовали, скорее спорили несколько мужчин, похожих на заводских рабочих, в картузах, и жилетках поверх не заправленных, а подпоясанных ремешками рубахах. Рядом стояла понурая старуха с корзиной на локте, из которой сонно выглядывала курица. На другой стороне, две молоденьких курсистки, которых странно было видеть в этом неухоженном месте, с широкими кожаными папками под мышками, шли, то и дело приподнимая края коричневых платьем чтоб не замочить их подолы, или придерживая за поля широкополые шляпки, чтобы их не потерять. Их сопровождал стройный морской офицер, в новеньком чёрном мундире и кортиком на боку, и видно было, что он смущается от того, что ему то и дело приходится предлагать девицам согнутую в локте руку перед очередным для них препятствием, от чего те в очередной раз отказываются.
- Эй, хлопчик! Пятак заработать хочешь? - раздался сзади Чуйкова молодой, насмешливый женский голос.
Чуйков обернулся. Из - за афишной тумбы, оттуда, где, судя по всему остановилась только что повозка, на него глядит молодая полная голубоглазая женщина в красном узкой юбке, ситцевой блузке и ярком малороссийском ситцевом платке. Она с интересом оглядела его наряд: обувь, бывшую некогда ботинками, у которой подошвы держались только лишь на кожаных ремешках, заплаты на коленях, грязный фартук, замасленная косоворотка без пуговиц.
Юноша быстро спрятал листовку за пазуху рубахи, и согласно мотнул головой. Женщина позвала его ладонью за собой:
-Вот, берёшь эти штуки ситца, и тащишь вон в те зелёные ворота, и говоришь там: Клава, вот ситец куда. Воз перетаскаешь, пятак твой. А ты говоришь, Кузьмич, за гривенник…Вон у меня теперь какой кавалер.– женщина бросила юноше на согнутые руки четыре тяжеленных рулонов ткани. Кузьмич тем временем слез на мостовую и пошел вокруг своей лошади, руками пробуя упряжу:
- Ну и берите его в артель… У вас же бабы одни…Мышь пугануть некому…
- Ну и возьму. Не тебя ж, старого козла при молодках держать.- Глаша звонко рассмеялась.- Как тебя звать-то, леший?
- Чуйков я. Василий. Из под Тулы.- юноша получил ещё две штуки пахнущих солнцем рулонов ткани, и чувствуя как дрожат от напряжения локтевые суставы, пошёл к заветным зелёным воротам…
- А я Глаша…
Глава 4
Натиск на Восток
Состав тащился еле-еле, вздрагивал и дёргался с душераздирающим скрежетом.
Тяжелые платформы с танками разных типов, лёгкими и тяжёлыми бронетранспортерами, артиллерийскими тягачами, зенитными и полевыми орудиями, штабными автобусами и бензозаправщиками, с грохотом и скрипом, сшибались буферами и сцепками. Мощные советские паровозы ФД типа 1-5-1 в голове и в хвосте состава, с трудом двигали по только что восстановленному железнодорожному полотну эту огромную стальную змею. Они то дёргали её вперёд, выпуская в стороны клубы белого пара, пробуксовывая на месте огромными колёсами, то начинали неуверенно притормаживать, со свистом сбрасывая из котлов лишнее давление.
Вдоль железнодорожного полотна, глядя вокруг невидящими глазами, всё ещё стояли с кирками, ломами и лопатами в руках сотни угрюмых, оборванных, чёрных от солнца и недоедания, советских военнопленных. Вокруг них и под ними были заметны большие круги недавно засыпанных воронок от авиабомб, проплешины сгоревшей травы, части разбившихся, распавшихся на куски, и мелкие детали самолётов. Некоторые из военнопленных, всё еще продолжали вяло кидать грунт в основание, железнодорожного полотна и уплотнять его деревянными трамбовками. Среди этой массы русских был заметен только один конвоир: пожилой солдата из какой-то, пехотной части, с трубкой во рту, вооруженный карабином, который стоял, прислонившись к столбу телеграфной линии таким образом, чтобы хоть его узкую тень использовать в качестве защиты от палящего солнца.
В нескольких десятках метров от железнодорожного полотна, и параллельно ему, по накатанным колеям, двигались непрерывным потоком, в несколько рядов и в обоих направлениях, разномастные грузовики. Здесь были и французские Renault, и австрийские Saurer, и чешские Tatra, и итальянские Alfa-Romeo, Lancia, и русские ГАЗ-АА, и бесконечнечное число германских Opel Blitz, Borgward, Mercedes, Magirus, MAN, Bussing-NAG, Krupp, Vomag. В закрытых и открытых кузовах, с прицепами и без, они везли неисчислимое количество топлива, боеприпасов, запасных частей, продовольствия, обмундирования, медикаментов. Грузовики двигались в сплошном пылевом облаке, отчего водителей в кабинах невозможно было различить, и из-за этого казалось, что все эти машины, несмотря на дистанции между ними, являются одним огромным разумным механическим организмом, змеёй, длинной в тысячу километров, которая непрерывно из Европы ползёт в Азию, и в этот же самый момент двигается обратно.
Когда эшелон длинной гусеницей начал входить в дугу поворота к небольшой станции, состоящей, как показалось в начале, только из двух сгоревших пакгаузов, кирпичного домика обходчика, или может быть стрелочника, да водонапорной вышки с длинным носом крана для заливки паровозных тендеров, из середины состава стали видны, оба паровоза, и площадки, на которых перевозились готовые к бою полугусеничные транспортеры SdKfz 10/5 с установленными на них зенитными пушками Flak 30. Чуть поодаль, из-за водонапорной вышки, там, где бескрайняя степь была нарезана квадратиками огородов, постепенно становились видны стоящие в несколько рядов лёгкие танки Pz.Kpfw. I, Pz.Kpfw.II, средние Pz.Kpfw. III, PzKpfw IV, а потом и самоходные орудия StuG III, Panzerjager I, многочисленные бронетранспортёры и бронеавтомобили, грузовики, мотоциклы,артиллерийские орудия, несколько 105-мм гаубиц leFH 18, и 88-мм зенитных пушка FlaK 18. Вся это боевая техника имела видимые значительные повреждения: на некоторых танках отсутствовали башни, или были вырваны из корпусов огромные куски, словно кто-то огромный, выкусил броневую сталь из них бортов огромными алмазными челюстями. Один бронетранспортер был полураздавлен, другой бронетранспортер сплющен. Часть орудий имели разрывы стволов. Большинство техники несло на себе рыже-чёрные следы пожара. Затем среди наскоро уложенных прямо на почвенный слой железнодорожных путей, появились, ряды навесов из брезента и маскировочной сетки, большие и малые палатки, среди которых бродили, ходили, сидели, о чём-то совещались десятки солдат и офицеров полевой форме Вермахта цвета «фельдграу», или чёрном обмундировании танкистов, или в румынской форме цвета хаки, издали очень напоминающую польскую или словацкую, а также множество людей в гражданской одежде, и русских военнопленных. Все эти военнопленные и гражданские что-то непрерывно переносили, волокли, тащили и, вдобавок? строили несколько длинных деревянных бараков. Повсюду лежали штабели ящиков, мешков, пирамиды бочек из-под бензина, штабели досок, шпал, рельсов. Тут же стояли крытые и открытые повозки с понурыми от жары лошадьми, дымились костерки и трубы походных кухонь, пускали облака и струи пара маленькие советские маневровые паровозы 9П, с красными звездами на котлах. Стучали топоры, лязгал металл. Чуть поодаль ежё одна большая группа военнопленных строила новую железнодорожную насыпь, разворотного круга, и там же на свежеуложенных рельсах нескольких тупиковых участков пути, прямо среди высокой степной травы, стояло, множество платформ, цистерн и вагонов. Тут, шла лихорадочная работа, похожая на строительство великих египетских пирамид, по погрузке повреждённой техники, которую затаскивали на платформы лошади, военнопленные, с помощью самодельных подъёмных кранов, лебёдок и блоков. Повсеместно, виднелись задранные в небо стволы сдвоенных зенитных пулемётов MG -34, зенитных орудий Flak-30, и 88-миллимитровок. При них находились зенитные расчёты, которые через дальномеры, и бинокли бдительно озирали небосклон. Вокруг же лежала нескончаемая, чуть холмистая равнина с редкими курганами, и морщинами оврагов и овражков. В небе, которое, казалось, выцвело от беспощадного солнца, не было видно ни одного облачка. На северо-востоке в степи что-то горело огромными чёрными столбами, а на юге дым стелился низко, серо-синей рекой, и вся окружающая панорама заметно дрожала в восходящих потоках раскалённого августовского солнца. Железная, пыльная змея, состоящая из разномастных грузовиков движущихся параллельно железной дороге Тихорецк – Котельниково - Сталинград с юго-запада на северо – восток, и с северо-востока на юго-запад, обходила всё это место стороной, и, уже больше не сближаясь с железной дорогой уползала на север.
Понаблюдав некоторое время всю эту картину, рыжеволосый, голубоглазый унтер-офицер, сидящий в одних трусах и кителе на голое тело у открытой двери товарного вагона, где из-за движения эшелона гулял горячий ветер, крикнул внутрь, в полумрак:
- Смотри-ка, Манфред, настоящее строительство Вавилонской башни. Только на голом месте и на границе Азии и, похоже, у них тут пока самое капитальное сооружение пока, это сортир. – он повертел коротко остриженной головой, стараясь что-то рассмотреть внутри вагона, с трудом приспосабливая зрение к тени.
В вагоне, на полатях в три ряда, в полном изнеможении от жары и бесконечной дороги дремали и спали, сопя, храпя, причитая, а, иногда и вскрикивая во сне, люди с темно-коричневыми от загара телами и обожженными солнцем лицами.
Под их головами вместо подушек размещались желтовато-коричневые кители, или воняющие бензином и маслом черные комбинезоны. Свесившиеся с полатей руки, ноги, и головы, покачивались в такт ударам колес на рельсовых стыках, и скрежету сцепок. Бодрствовали только мух, которым тоже, казалось, было лениво от жары.
Мерно побрякивали сложенные стопкой алюминиевые миски. По импровизированному столу, состоящему из двух снарядных ящиков и положенной на них обшарпанной двери, на которой всё ещё красовалась медная табличка с какой-то не то итальянской, не то чешской фамилией, поочередно катались алюминиевые кружки.
Посреди вагона стояла самодельная печка из большого молочного бидона.
Отверстия для тяги были пробиты пистолетными пулями в виде монограммы из букв «GD», а заслонка была выгнута из куска автомобильного подкрылка.
В вагоне стоял крепкий запах крепкого дешевого табака, чеснока и пропотевших ботинок.
На верхней полке, у небольшого окошка, лежал на животе, и что-то быстро писал химическим цанговым карандашом, то и дело нажимая на него, чтобы удлинить грифель, загорелый, как и все, молодой человек с небольшим белым шрамом на высоком, открытом лбу. Рядом с ним, на согнутом гвозде висел его китель с потускневшими, выгоревшими лейтенантскими погонами, потертая полевая сумка, из под желтоватого целлулоида которой, выглядывали несколько фотографий одного и того же городка: с невысокими домами, крытыми черепицей и старинным замком на лесистом холме. На одной из фотокарточек, там, где городок был припорошен снегом, у крайнего дома виднелись несколько мизерных фигурок, обведенных в красный кружок. Рядом с этим красным кружком был крупно приписано аккуратным готическим шрифтом:
“Дубина Гарольд и толстяк Штауфенбергер”.
Лейтенант иногда задумывался на мгновение, проводя кнопочкой карандаша по своим плотно сжатым губам, затем снова принимался быстро писать на листах темной, шершавой бумаги. Под бумагу был подложен томик «Разбойников» Фридриха Шиллера с закладками в виде чистых почтовых конвертов.
Манфред остановил на мгновение лёгкое движение карандаша по бумаге и повернул голову к двери:
- Ты, Отто, зря не спал. Мы, собственно, прибыли на конечную остановку берлинского трамвая, и, когда нем подготовят место, начнётся выгрузка техники. Потом сразу её приёмка экипажами, и потом сразу марш на линию соприкосновения с противником. А дальше что будет, никто не знает. Ребята правильно делают, что спят… Или ты думаешь, что если ты мой брат, то в моём танковом взводе я тебя всегда буду нянчить в своём командирском танке как в яслях, и чуть что, сразу во второе боевое отделение отсылать, в резерв нашей роты, так сказать поспать и побездельничать? Не слишком ли ты братик весело живёшь?
Сидящий у двери, и по-прежнему глазеющий по сторонам унтер-офицер, удивленно вскинул бровь:
- А что такого, что старший брат лейтенант помогает младшему брату унтер-офицеру. Не наоборот же. Вот было бы смешно. Я сам, между прочим, в твой замечательный командирский Pz.IV Ausf.G с потрясающей длинноствольной 50-миллиметровой пушкой, не напрашивался. Это же «Хек» так решил: если уж родные братья оказались в одном танковом полку, пусть будут в одном экипаже. Если тебе не нравится, что я водитель, давай я буду радистом, или наводчиком орудия, или, если хочешь, заряжающим…
- Стадо дохлых верблюдов! Вот братца мне господь послал! Да где ты видел унтер – офицера - заряжающего. Хотя…Ты мне можешь помочь в этом. Скажи «Хеку», как его называют за глаза. Ну, какое у него прозвище… Он позаботиться, чтобы тебя разжаловали в панцер - солдата, и я тогда сделаю тебя простым заряжающим. «Хеку» одной твоей майской истории с арабками у колодца хватит…- Манфред ехидно улыбнулся.
- Нет уж, с «Хеком» лучше не шутить… А вот ты, Манфи, пугаешь меня своей изобретательностью… - Отто погрозил брату кулаком, и, увидев у насыпи, рядом с обгорелыми головешками какого-то полностью разрушенного строения, не молодую, высокую женщину в черной юбке до пят, синей блузке, и платком, укрывающем голову и шею стал ей махать ладонью:
- Я здесь, валькирия, я твой эйнхерий. Я здесь…
Женщина державшая в тонких руках сигнальные железнодорожные флажки, неожиданно улыбнулась, но эта улыбка, на фоне тёмного от пыли и загара лице, уже испорченного глубокими морщинами, была какой-то не доброй.
Вагон медленно прокатился мимо нее. Отто помахал её рукой, высунувшись наружу. Она машинально махнула ему в ответ. Проводив её взглядом, он сказал, уже не так весело:
- Странная женщина. Живая, а как будто не живая. Семафор… И улыбочка у неё, действительно как у валькирии
- Просто эта русская без ума от твоих унтер-офицерских нашивок. Берегись, сейчас зацепит состав зубами, и мы пойдем под откос! Нее теряйся, мы так медленно едем, что ты всё успеешь, прежде мы остановимся. У тебя еще есть время спрыгнуть, запудрить ей мозги и затащить в вагон. Своё королевское ложе я тебе уступлю. Ты ведь говоришь по-русски, как баран на древне кельтском. Но для настоящей любви, я уверен, это не важно… - нарочито гнусавым голосом проговорил Манфред.
Отто затрясся в смехе, схватил лежащие рядом с собой солнце - пылезащитные очки и запустил ими в брата.
- Эй-эй!- Манфред тоже рассмеялся.- Смотри, увидят, как ты с лейтенантом обходишься. Отправят на Восточный фронт… То есть… Поскольку мы и так на Восточном фронте, то тогда в Полевой штрафной лагерь тебя. Будешь там убитых русских хоронить, и мосты разминировать по пятнадцать часов в день… Ладно, что-то мы сегодня слишком веселимся. Значит что-то выйдет боком потом. Наверное, опять забудут выдать гуляш или кофе. Ладно, ну хоть пол часа вздремни, Отто, пока здешние интенданты разберутся с разгрузкой. Вон, смотри все дрыхнут без задних ног. Набираются сил хитрые бестии, чтобы всю ночь после погрузки резаться в карты на жалование. Думают перехитрить меня и «Хека».
- Спят они. Как же…Особенно Эрвин… Отто, наконец, отвлёкся от созерцания зрелища полевой базы, похожей на становище какой то огромной орды древних кочевников, перенесённой неведомой силой в современность, и вооружённой танками и зенитками, и, усевшись по-турецки, громко захлопал в ладоши: - Эрвин! Гуляш!
После этого, в общем, то, негромкого возгласа, громадный парень с толстенными руками, распирающими рукава коричневой рубашки дернулся, скинул, было ноги с полатей, но, увидав, что место перед столом, где обычно устанавливался термос с ужином пусто, ворча, улегся обратно:
- У Вас, господин новоиспеченный унтер-офицер, не все дома…
- А что ты, Эрвин, так официально грубишь?
- Отвяжись Отто. Ты же цыплёнок против меня… - А я брату пожалуюсь, и он тебя переведёт вещевое отделение. Будешь всю войну для всей роты обувь чинить, шить, штопать, стирать, сушить и хранить наше обмундирование. Не слышал я. Эрвин, чтобы Железный крест получил какой ни будь солдат из вещевого отделения.- Отто опять засмеялся..
Эрвин пробурчал что-то невразумительное в ответ, отвернулся, и, уткнувшись заспанным лицом в доски стенки снова захрапел.
- Вот нервы у него железные… Слушай, Манфред, почему ты не едешь в офицерском вагоне? Там, наверное, опять коньяк пьют от нашего гауптманна? А ты тут солдатскими ботинками дышишь?
- Как будто я в танке с тобой чем-то другим дышу. Это раз. Во-вторых, там есть парочка олухов, которые меня сильно утомляют. Например, гауптманн Герстенмайер, который, когда напьется, начинает нудеть “Лорелею” и требует чтобы все младшие офицеры непременно ему подпевали. От этого пения у меня делается заворот кишок. Они стонут так, будто их бросили в лабиринт Эль-Талу и забыли вытащить. В-третьих, я хочу быть со своим взводом. Всё…Дай мне закончить письмо Гарольду… – лейтенант отвернулся от смеющегося брата и снова принялся писать мелким, чётким почерком:
“…ну вот, Гарольд, этот глупыш Отто, опять пялится на юбки. После арабок и итальянок, перед ним открылись бесчисленные женские ресурсы большевистской России. А что до того, что ты называешь меня романтиком, дорогой друг, то в этом ты, наверное, прав. Когда ты написал мне об этом в одном из своих зимних писем, я думал об этом, когда позволяли часы затишья между боями. Мне кажется, что ты прав, и романтизм имеет два вида. Первый вид романтизма, это когда человеческая душа изначально, от самого рождения человека не обременена невзгодами и трудностями, и человек созерцает мир находящийся в гармонии с душевными состояниями. От этого рождается романтизм первого рода, когда человек одушевляет природу и все её проявления. Он наслаждается ими, живёт в умиротворенном пространстве, не замечая проявления несовершенства вокруг себя. И такой романтизм, как цветок в теплице, которая стоит в ледяной пустыне, может продолжаться до самой смерти.
Другой, второй тип романтизма, это, видимо и есть мой тип романтизма. Это когда происходящие вокруг человека события так сильно ранят душу и разум, что невозможно этого терпеть. Когда очень больно и перестаёт хотеться жить. И тогда разум начинает замещать реальные события, порой до предела ужасные и отвратительные всей человеческой природе, а так же и причины, по которым эти ужасные события происходят, какими то образами и оправданиями. Эти образы и оправдания, берутся подчас, из истории далёкого прошлого, и применяются в сознании к настоящему времени. Закрывают собой как маской реальные события настоящего.
И чем больше веков прошло со времён тех событий, которые применяются как образы и маски, тем меньше в тех далёких историях остается зла, даже если его там было предостаточно. Время, романтизируя события далёкого прошлого, сама даёт модель к романтизации настоящего через прошлое. Вот и я. Сражаясь с англичанами в Северной Африке, в Триполитании, невольно ловил себя на мысли, что я похож на римского солдата из легионов Сципиона Африканского, который, пытаясь разрушить Карфаген, после того как карфагенянин Ганнибал несколько лет разорял его родную Италию, хотел, во что бы то ни стало сокрушить этот оплот зла, человеческих жертвоприношений, морского разбоя и бесконечной жадности.
Я всё еще думаю о том, что позволяет мне не сойти с ума на этой войне, которая для меня длится с небольшими перерывами уже четыре года.
Теперь Восточный фронт. Граница Европы и Азии. Бесконечные скифские пространства, по которым наш поезд без остановок шёл восемь дней и ночей. После того, что случилось на этом фронте прошлой зимой у большевистской Москвы, все, хоть и не показывают вида, но боятся сюда попасть. Когда солдаты нашего танковой роты, лишившиеся в стремительном январском наступлении на Бенгази всех танков, садились на итальянский транспорт, чтобы отправиться в Салерно, остающиеся наши товарищи обнимали нас так, словно это не им предстояло через три месяца вести кровавые бои за Тобрук, и прижать потом англичан к Египетской границе, а нам, отправляющимся в гостеприимную Италию, предстояло что-то страшное и непоправимое. Здесь есть что-то мистическое и не понятное. Чем, собственно русские отличаются от англичан?
В январе, когда мы ещё сражались в составе Африканского корпуса под командованием нашего потрясающего «Лиса пустыни» Эрвина Роммеля, мы, вместе с итальянцами, в наступлении на силы англичан, превосходившие нас в два раза, от Маатена, через Аджедабью и Антеоату, через Зивиет-Мсус и Элт-Мекили, используя наши механизированные колонны как огромные кусачки, которые устрашающе щёлкали и вгрызаясь в позиции врага, угрожая ему окружением и гибелью, прорвались и захватили Бенгази. Мы прошли за две недели 600 километров, но это было для англичан, ещё только началом. К сожалению, нам не пришлось помогать нашим товарищам, которые в мае этого года повторили, и, даже превзошли наш блистательный январский поход на Бенгази. Они, наши герои Африканского корпуса, начали движение в последних числах мая, и всего через 30 дней снова прошли 600 километров проведя каскад сражений у Бир-Хакейма, Тобрука и Мерса-Матрух, после чего они вышли к позиции у Эль-Аламейна на границе Египта, к проходам к Нилу и Суэцкому каналу. За эти 30 дней только в Табруке они взяли в качестве трофеев 2000 исправных грузовиков, 1500 тонн горючего и 50 тысяч отборных английских солдат, и их арабских приспешников.
И мне, дружище Гарольд, совсем не понятны страхи, которые теперь существуют относительно русских и всего Восточного фронта. В чём сомнения? Помнишь, как говорил дядя Фритц: если в чём-то есть сомнения, возьми бумагу, карандаш и счёты, и посчитай, и всё проясниться. Так вот, берём наши две танковые дивизии Африканского корпуса, 15-ю и 21-ю которые прошли 1200 километров до Эль-Аламейна за 2 месяца, и захватили 80 тысяч пленных англичан и их французских и арабских приспешников. Потом берём 20 танковых дивизий фон Клейста, Гудериана, Гота и Гёпнера, которые прошлом году за 5 месяцев прошли 1100 километров до Москвы и захвативших 2 миллиона пленных русских солдат. Получается, что при таком соотношении как у нас, русских пленных должно было быть всего 800 тысяч, а не в три раза больше. Конечно, за нами в Африке не шла густая стена пехотных дивизий, как за фон Клейстом и Готом, которая как огромным сачком вылавливала окружённых русских, но всё равно, получается, что русские воюют в три раза хуже, чем англичане, и нет сомнения, мой дорогой Гарольд, что Германия в этом году сможет добиться окончательной победы, достигнув линии Архангельск - Астрахань. Я не математик, я танкист, может я и ошибаюсь. Но я всё равно не понимаю, почему в нашем восприятии Восточный фронт превращается во что-то мистическое и не понятноеИ как солдат, не могу понять, чем собственно русские отличаются от англичан? Если немецкий молоток-Вермахт крепок, какая ему разница, сколько расколоть орехов-дивизий, будь они хоть английские, хоть канадские, хоть французские, хоть русские? Молоток всё равно крепче любого ореха…
Да, я тебе совсем забыл написать, в какую смешную историю влип Отто восточнее Бенгази.
Это произошло когда английский хвастун Очинлек получил много танков Crusader Mk.VI , Matilda Mk.II, M3 Grant и нам пришлось изрядно с ними повозиться, при прорыве к Бенгази.
Кстати, эти M3 Grant просто уморительные машины. Пушка то неплохая – 75 миллиметров, но установлена на спонсоне. И английским танкистам приходится наводить на цель всю машину. Вроде как нашу StuG III. Представь себе, дружище Гарольд, стремительную атаку наших вертких Pz.III и Pz.IV, которые на всем ходу врываются в гущу этих шкафов.
Вот где добыча.
Так вот, Очинлек с помощью этих своих железных шкафов на колёсах, затеял с нами игру в кошки-мышки, при которой он думал, что он кошка, а вышло наоборот.
Так вот, представь себе, что у какого-то полу вымершего от страха и жары селения, в самом угаре отчаянной борьбы, наш дорогой Отто пошёл прогуляться. Причем никому ничего не сказал.
Представь себе, прихожу от гауптмана «Хека» с задачей моему танковому взводу достичь колодца в пяти километрах восточнее и уничтожит там английский разведывательный дозор, а в моём танке водителя нет! Эрвин с Готфридом гоняются за козой. Один с лопатой, другой с киркой из танкового инструмента. Вильгельм спит в машине ремонтного отделения. Полный разброд! Я просто тогда от гнева дара речи едва не лишился.
Я командую сбор – нужно срочно ехать искать колодец по пути движения полка.
Наконец эти зацапали козу. Я ничего не имею против козы, ведь каждый килограмм продовольствия доставляется через Средиземное море из Италии с огромным риском, из-за действий английской авиации и флота с базы на Мальте. И как назло, мясо этой козы оказалось жёсткое, как дубовая кора. Разбудили Вили, из роты пришли два Opel Blitz с пустыми бочками для того чтобы взять запас воды, а Отто всё нет. “Хек” уже по рации все уши мне прокричал, чтоб немедленно отправлялись к колодцу. Злюсь. Жара. Уже решаю сам сесть за рычаги, или взять кого ни будь из второго отделения боевого обеспечения, но тогда исчезновение братца выплывет наружу, и всё добро пожаловать под арест. Но тут появляется Отто, очень довольный, а за ним группа женщин. Все естественно в паранджах, или как там это у них все называется…
Но сквозь эти арабские тряпки от пыли, видно, что среди женщин есть одна стройненькая, как будто девочка.
Так вот Отто подходит и с наглым видом подмигивает мне:
- Союзные нам дамы желают покататься на огромных железных верблюдах.
Я говорю ему:
- Ты сума сошёл, братец, как же ты с ними будешь объясняться, не на прусском ли диалекте немецкого языка?”
- Нет, через Фархада- отвечает.
Смотрю, действительно идет наш араб-переводчик, тоже улыбается. Подзываю его:
- Почему они сюда приперлись?
- Господин танкист сказал им, что их зовет муж. А его как раз дома в тот момент не было. Женщины сначала не поверили, но молодая жена высочила первая на улицу и убедила всех ехать к мужу, раз он зовёт. Видно её очень захотелось прокатиться с господином танкистом. Мне, в общем то, всё равно. Мне жалование в батальоне «Свободные арабы» идёт? Идёт. С женщинами безопаснее чем под пулями. Мне, в общем, тоже всё равно. Даже экзотика, как в сказке «Тысяча и одна ночь». Теперь у нас будут свои Шахеризады.
Дамы рассаживаются на броне. Проводника сажаем на место Готфрида, его в башню и едем. Пыль. Жара и всё в этом духе. Отто форсирует двигатели и наслаждается бездорожным простором. Останавливаемся у развалин древней крепости, начинаем искать колодец. Англичан нет. А колодец действующий есть.
Вода плохая, но если обеззараживать, то сгодится, я для двигателей и так хороша.
Даем знать в роту. Тут смотрю, глазам не верю: араб с саблей наголо скачет к нам на двугорбом верблюде. А женщины уже всё поняли, ревут и причитают.
Только Отто с младшей куда-то опять запропастился. Мы же залезаем в танк, закрываем люки и включаем вентиляторы, чтобы не умереть от жары.
Араб подскакивает к танку и начинает что было силы рубить гусеничные траки, попутно пинает жён, кричит, так, что моторы перекрикивает.
Мы смеялись до рези в животах. Потом стало совсем душно и пришлось выбраться под танк через нижний люк. Лежим в теньке, а он бедняга носится на облезлом верблюде, рубит машину, а она, естественно, не рубится. Кстати этот арабский горе-муж чем-то смахивал на толстяка Ольбрихта. Ты еще не забыл, дружище, закусочную старика Ольбрихта и его превосходные бифштексы с картошкой? Муженёк в конце концов саблю сломал о крупповскую броню, и всерьез принялся за женщин. И тут совсем некстати появляется Отто с молодой. У Отто улыбка до ушей. Молодая женщина довольной походкой за ним семенит.
Муженёк опять страшно орёт и кидается к ним с обрубком сабли. Но Отто бегун то неплохой. Араб на верблюда и за ним. Но тут уж кто-то из водителей грузовиков отделения не выдержал и всадил из карабина в верблюда пулю, чтобы уравнять шансы. Араб при падении здорово ушибся. Сам встать не смог. Жены его окатили водой и поволокли в тень. А молодой так понравился наш дурачок Отто, что мы еле от неё отвязались. Пришлось пообещать, что завтра приедем за ней опять и увезем жить в Германию. Кстати, эта детина Эрвин, начал было неприлично хватать милашку, но у Отто неожиданно разыгралась ревность и они чуть не подрались. Эрвин долго потом ещё не мог отойти от такой галантности Отто, и забывался только во время еды. Пришлось им давать грузовик, чтобы они поскорее убрались с глаз моих, обратно в своё селение. Ну, ладно. Мне нужно заканчивать письмо, поезд уже почти остановился. Мы прибыли. Теперь нам нужно взять Сталинград, тогда Москва падёт сама, как спелая груша. Напиши, Гарольд, мне подробно, как ты там, прохлаждаешься в своей редакции?
Не пора ли поискать какое-нибудь место понадежнее, например, должность писаря в военном училище. Штауффенбергер запросто может это устроить.
А то смотри, загремишь в Вермахт или Кригсмарине, да и ещё на передовую. Я слышал, скоро и очкариков будут брать (а также безруких, и безногих, потому, что безголовых уже взяли всех, так как их тут полным полно).
Ты мне пиши побольше, подлиннее письма, а то я кроме единственной своей книги Шиллера и твоих писем ничего читать не могу. Не читать же мне «Velkischer Beobachter», в конце то концов… Я же не тупой баварский крестьянин! А, кстати, помнишь Хагена из “Перелетных птиц”? Должен помнить. Он вечно сбегал, когда начиналась серьезная потасовка. Так вот он здесь. И недавно, вместо …»
Последнее слово оказалось Манфредом не дописанным, потому, что состав, который до этого момента уже и так еле-еле катился, вдруг сольно дёрнулся в последний раз, заскрежетал, и встал как вкопанный. Видимо это и была конечная точка их двухнедельного пути по железным дорогам Европы и России. Манфред снова повернул голову к двери вагона, Отто всё ещё сидел по-турецки, глазея на то, что происходит снаружи. В том месте, где остановился эшелон, были готовы дощатые подмости и земляные насыпи для разгрузки боевой техники и снаряжения. Понуро стояли группы русских военнопленных, видимо ожидающих начало работ по разгрузке, эшелона. Рядом с ними, среди офицеров Вермахата, скучали военные чиновники, среди которых выделялись оберстинтендант в искрящимся на солнце как огонь электросварки, пенсне, долговязый военный священник, в нелепо большой фуражке, и пузатый как пивной бочонок, чиновник полевой полиции. Тут же стоял оркестр, судя по знакам различия, какого-то сапёрного батальона. Он выглядел слегка непривычно из-за того, что часть музыкантов была в мундирах с бело-полосатыми плечиками, а часть в обычной полевой форме с нарукавными повязками санитаров. Тем ни менее, стоящий перед оркестром дирижёр строго взмахнул руками, и оркестр, всеми своими запылёнными флейтами, фаготами, трубами, геликонами и барабанами, весьма стройно грянул марш «Ерика». Когда оркестр, тускло блестя инструментами бодро сыграл несколько тактов, а интендант в пенсне извлек из портфеля кипу бумаг и уставился как гипнотизёр на надписи на дощатых стенках вагонов, Отто повернулся к Манфреду и белозубо улыбаясь сообщил:
- Состав участников встречающей делегации настораживает, клянусь чем хочешь.
Священник, зондерфюрер, музыканты вместе с санитарами, да ещё из сапёрного батальона. Просто идеальная похоронная команда…
- Вот болтун-то… По голове бы дать за такие шутки…- сказал кто-то проснувшийся из глубины вагона.
В этот момент от бравурной музыки проснулся ворчун Айсман, механик из ремонтного отделения, и потеряв ориентир в пространстве с грохотом свалился на пол. Он сипло выругался, помянув почему-то польские дороги и польских машинистов, и принялся будить Эрвина:
- Эрвин, просыпайся. Лейтенанта нет, вроде ушел в офицерский вагон. Давай, отыгрывайся за вчерашнее…
Манфред свесился с верхней полки:
- Ну-ка, Айсман, что ты там бормочешь про отыгрыш? Учти, гауптман просто приходит в бешенство, узнавая, что его любимые солдаты режутся в «скат».
- Ой, герр лейтенант, вы здесь? Я, в общем-то, пошутил на счет этого дела. У меня и карт-то нет… – Айсман изобразил на лице виноватое раскаяние.
Манфред с сожалением отложил не дописанное до конца письмо и ловко спрыгнул вниз:
- А знаешь, почему “Хек” так злится? Он хочет просто иметь в чем-то, больше чем его солдаты. Он считает, что в Панцерваффе нет больше ни одной такой части как его, где солдаты пьют французский коньяк спят с женщинами чаще, чем командиры. Наш “Хек” большой педагог. Кстати, ты умеешь в «доппелькопф».
- Еще бы, герр лейтенант! Вы меня совсем за новичка держите…
- Ставлю на первый кон пять рейхсмарок. Только вот карты…
- Не беда, у Эрвина есть, есть карты! У Эрвина… Эрвин, гуляш!
Манфред хотел было сказать ещё что-то смешное, но тут оркестр оглушительно закончил играть «Ерику», и принялся не менее оглушительно играть «Марш парашютистов». Мимо распахнутой двери вагона быстрым шагом проследовала группа из военных чиновников во главе с оберстинтендантом в искрящихся пенсне. Их лица были озабочены и как будто злы.
Как только лейтенант, Айсман и Эрвин уселись на табуретах-ящиках вокруг двери-стола, Отто разместился за их спинами, и стал заглядывать в веера карт:
- У-у! Вот это картинные галерея!
Не успела первая карта раскрыться, как оркестр неожиданно бросил играть, и последние удары большого барабана сопровождала лишь жалобная трель одинокой флейты. Вокруг послышались пронзительные непрерывные трели свистков и крики:
- Тревога! Самолёты! Тревога! Русские самолёты!
- Ходи, Эрвин. У нас есть пара минут, чтобы размяться - сказал Манфред, и, привстав, закричал на весь вагон так, что, показалось, звякнуло стекло керосиновой лампы под потолком:- Тревога, русские самолёты, всем покинуть вагон и укрыться!
Всё в вагоне перемешалось, танкисты с шумом и грохотом ссыпались с полок, словно посуда из опрокинутого буфета. Хватая, что под руку подвернётся, кобуры, подсумки для патронов, планшеты, ранцы, спальные мешки, шерстяные одеяла, ремни, бутылки с вином, шинели, кители, ботинки, с криками «Давай! Давай!» и «Быстрее! Быстрее!» они стали выпрыгивать из двери вагона на насыпь и разбегаться в разные стороны. Тут и без них уже царила невообразимая суматоха. Пленные с обезумившими от страха глазами, то лезли прятаться под вагоны, то ложились ничком, лицом вниз, то пытались достичь выкопанных неподалёку окопов, откуда их гнали пистолетными выстрелами в воздух. Офицеры Вермахта, встречавшие эшелон проворно вскочив в легковую машину Kfz 15 с тентовым верхом, скрылись среди нагромождений бочек и ящиков, а военные чиновники, вперемешку с музыкантами побежали вдоль состава, к штабелям досок и брёвен, видимо, надеясь укрыться среди них.
Резко и одновременно ударили четыре оглушительных выстрела 88-миллимитровок Flak 18, и после этого эти зенитные орудия, как огромный метроном, через двухсекундные паузы, стали без остановки давать почти синхронные залпы. Орудия были развёрнуты на север, и били при небольших углах возвышения над крышами только что прибывшего эшелона.
- Три километра. У нас пара минут. Ходи.- Манфред пригибаясь, чтобы его не толкнули выскакивающие из вагона товарищи, выжидающе уставился на Эрвина. Тот привстал со своего импровизированного стула и, вцепившись обеими руками в свои карты, вертел головой; то в сторону глухой стены вагона, со стороны которой стремительно приближалась опасность, то на спасительный проём двери, в котором, как на киноэкране в разные стороны бежали люди, дергались, стараясь выехать подальше в степь грузовики и легковые машины, и жерл зенитных орудий вылетали дымные, бело-красные жала выстрелов.
- Ты чего, Эрвин? – Отто уже не улыбаясь, положил здоровяку руки на плечи: - Ты куда собрался? Когда вам ещё лейтенант даст возможность себя обыграть?
Его слова утонули в лающих выстрелах 20-миллимитровых зенитных автоматов Flak-30, которые присоединились к громыхающему метроному 88 миллиметровок. Вместе с ними заговорили и Flak 30 установленные вместе со своими машинами SdKfz 10/5 на платформах эшелона, отчего всё пол вагона заметно задрожал.
- Восемьсот метров.- сказал лейтенант.- Чего же ты не начинаешь, игрок… Сдаешься?
- Сдаёшься?- повторил Отто.
Через несколько секунд, когда к огню зенитных орудий присоединился треск нескольких пар сдвоенных зенитных пулемётов MG -34, и в ушах возник звук, словно разрывалось по шву огромное металлическое небо, Манфред бросил карты и вскочил на ноги:
- Они почти над нами! Все вон отсюда!
Затем он как коршун метнулся к своей полке, схватил книгу, планшет, недописанное письмо, и вслед за Отто, Айсманом и Эрвином, медленно, как во сне, выпрыгнул из вагона на насыпь. Ещё не упав на горячую землю, он увидел обгоняющую его огромную тень, увидел, как пыль и сор вокруг эшелона вдруг подпрыгивают на пол метра вверх, и сразу за этим в уши, в глаза и в открытый рот ударяет воздушная волна, как короткая струя горячей воды из пожарного брандспойта.
Манфред упал лицом в сухую землю, перемешенную с засохшей травой и лошадиным навозом, а рёбрами на чьи-то ботинки. После этого всё вокруг заколыхалось, словно это и не твердь была, а поверхность болота, которое огромное злое существо пытается выплеснуть из краёв. Грохот чудовищных взрывов заглушил свистки паровозов, канонаду зенитных орудий и стук сердца. Казалось, что кроме этого звука тяжёлых авиабомб больше никогда и ничего в мире не будет. Никогда больше не будет тишины. И он будет теперь вечно стискивать тела людей, и не давать им дышать. Несмотря на боль и страх в каждой клеточке организма, лейтенант приподнял голову, и по летящим через крышу вагона кускам земли, понял, что бомбы легли близко от эшелона, но в степи, с небольшим недолётом. За долю секунды, на высоте пары десятков метров, через пылевую завесу, поднятую взрывами, выстрелами зениток, над эшелоном, станцией и полевой базой, и совсем беззвучно в этом грохоте, промелькнули три краснозвездных бомбардировщика. Они, тут же стали разворачиваться, накреняясь так, что едва не касались крыльями земли. Были отчётливо видны внутри кабин неподвижные головы и плечи русских пилотов, ведущих эту самоубийственную атаку, и то, как бешено работающие Flak 30 и MG -34 дырявят крылья, фюзеляжи, и отрывают от них целые куски обшивки. Затем у одного бомбардировщика отлетело крыло, словно отпиленное гигантской пилой. Он вспыхнул жёлтым пламенем и, вращаясь вокруг своей оси, резко ушёл вправо и врезался в землю за квадратиками огородов, подняв фонтан земли и клубящегося огня. Ещё через секунду, взорвался его груз бомб, и земля там поднялась уже до неба, а часть палаток и навесов, расположенных неподалеку, сорвало, закрутило и разнесло в разные стороны. Другой бомбардировщик постигла похожая участь, за исключением того, что он, уходя от смертельного огня зениток, пытался уйти влево. Несмотря на то, что Flak 30 и MG -34 беспрерывно поражали его своими пулями и снарядами, ему удалось удалиться метров на пятьсот, пока прямое попадание 88 миллиметровки, превратило его буквально в летящий пылающий рой обломков. Так он и упал - широким горящим пятном в степи. И только третий бомбардировщик после виража, никуда не стал больше сворачивать, а пошел прямо через пылевую бурю, над головами расчётов бессильных теперь Flak 30 и Flak 18 на пирамиды бочек с горючим.
Манфред невольно зажмурился. Ещё дрожала земля от падения сбитых русских самолётов, когда последний из них, уже не стреляя и не пытаясь отделить бомбы, рухнул на эти пирамиды. Бочки, полетели в разные стороны, лопаясь и разрываясь налету, и когда бомбардировщик взорвался, взорвался, казалось и весь воздух вокруг. В дыму, в пыли и пламени, уже ничего нельзя было различить. Только раскалённый воздух ударил в лёгкие и остановил дыхание, а на тело сверху будто сбросили мешок с картошкой или пшеном.
Манфред даже не пытался сейчас понимать, где его брат Отто, где его танковый экипаж, где его взвод, ранен ли он, или контужен. Для него самым главным в этом огненном смерче сейчас было то, что он может думать и говорить, а значит - он жив.
- Наверное, всё-таки русские отличаются от англичан…- Манфред спрятал от нестерпимого жара лицо в землю, и от злости заскрежетал зубами.
Глава 5
Заградотряд
В нескольких метрах от моста мальчишки как ни в чем не бывало плескались в мутной, желтоватой воде Курмояровского Аксая. Медленная вода лизала облупленные от солнца мальчишечьи спины, взлетала на солнце брызгами из под их растопыренных ладоней.
Нет-нет, да взвизгивал кто-нибудь из них, смеясь, галдя, падая плашмя на водную рябь, расставляя при этом крестом свои тощие руки. Мелькая контрастно-белыми задницами, толкаясь и, прыгая друг на дружку, они, не знакомые друг с другом городские и деревенские дети, сбрасывали с себя таким образом напряжение утомительного пути среди повозок, колясок, велосипедов, подвод, среди потока обезумевших от жары и неизвестности беженцев. Взрослые так не могли. Их застывшие лица и глаза, чаще всего смотрящие с надеждой туда, в пространство за рекой, на северо-восток, в сторону Сталинграда, будто вопрошали это пространство, и далёкий ещё пока город, просили ответа, наступит ли там долгожданный покой, страстно желаемый конец пути. Рядом с купающимися детьми, на крутом берегу Курмояровского Аксая скопилось множество женщин, которые то отходили, то подходили к воде, и теми же самыми приёмами, которые, наверное, были известны им от самого сотворения мира, в тех же самых позах, которые не изменились за тысячи лет, спешили они хоть как то постирать, прополоскать пропыленную, соленую от пота одежду детей, свою одежду, и одежду своих мужчин. Тут бок о бок, сгибали над мутной водой спины коренастые круглолицые крестьянки, с большими красными руками, в тяжелых складчатых юбках из синего батиста или ситца, в лопающихся на грудях узких кофтах и рубашках, и худосочные, пугливые горожанки, в мятых фасонных платьицах, кофточках, пиджачках с подкладными плечами, рюшами, воланами, карманчиками, поясками, из шёлка, хлопка, ацетата, вискозы, жоржета, всех цветов радуги, и всевозможных рисунков. Молодые девушки явно отдавали предпочтение голубым, зеленовато-голубым, серым, темно-синим и желтым платьям, в то время как более зрелые женщины имели одежду серых, коричневых, зеленых, белых и красных цветов. Глядя на крестьянок, городские женщины также старались подоткнуть или подвернуть подолы платьев, чтобы их не мочить и не грязнить, обнажая при этом белые, лишённые загара колени. Стирали тут всё: некогда белые носочки, чулки, нижнее женское бельё, детские шортики и мужские рубахи, трусы и подштанники. Всё постиранное тут же развешивалась на красновато-коричневых ветках густого ракитника, или укладывалось прямо на траве. Особые процедуры сушки сейчас не требовались, потому что всё и так мгновенно высыхало под палящим солнцем.
Мыла здесь не было практически ни у кого. Стирка без мыла давалась с трудом.
Деревенские и хуторские женщины, стоя по колено в воде, не жалея рук, тёрли вещи густой, жирной глиной и только ухмылялись на недоумённые взгляды всех этих жён ответственных советских работников, бухгалтеров, учительниц, секретарш, парикмахерш, студенток и городских школьниц.
Многие из городских, наоборот, просто вымочив воде свои вещи, и едва отжав их, тут же брались за другие. Было видно, что многие из них уже махнули рукой на свою внешность: потрескавшиеся пепельные губы, покрасневшие от солнца и пыли веки, полосы грязных разводов на длинных шеях, слипшиеся, сбившиеся прически, беспорядочно и кое-как закреплённые гребнями и заколками, разошедшиеся нитки кружевных воротничков. Но были и такие, кто промокнув в очередной раз платочками грязепылевые сгустки в уголках ртов, вновь и вновь тщательно подкрашивали губы вазелином, или бледно розовой помадой, кто подводил брови, после того как липкий пот, струящийся из-под фасонистых соломенных и батистовых шляпок, или тканевых панам, смывал краску контурных карандашей, или туши. Вылинявшие за недели пути элегантные платьица и жакеты этих женщин, аккуратно сидели, и регулярно поправлялись, оглаживались ладонями вдоль бедер. Они проверяли складки на спинах и то, правильно ли сидят рукава.
К таким женщинам, как к чему-то забытому, оставленному дома в светлых воспоминаниях, инстинктивно тянулись дети. Дети помнили женщин именно такими, когда в прошлой, яркой жизни вокруг них летели карусели, играли пожарные оркестры, когда можно было визжать от восторга, наблюдая, как посреди парка клоуны жонглируют обручами, а по рукам и губам течёт фруктовое мороженное зажатое между хрустящими вафельными кружочками. У взрослый к горлу подкатывался горький ком, когда мало что понимающие в происходящем вокруг них четырёхлетние карапузы подходили к таким «красивым тётям», и дергая их за ремешки пыльных, но элегантных сумочек, требовали невнятными голосками сказать, чтобы мамы им купили разноцветных воздушных шаров, или холодной воды с пузырьками и двойным сиропом. Маленькие девочки и мальчики жались к подолам платьев, от которых всё ещё чуть различимо пахло духами, тем единственным сохранившимся в окружающем теперь их новом мире запахом оставленного города, в этой дикой, бесконечной степи, заполненной горькими ароматами неизвестности, усталости и страха. Женщины, сидя в изнеможении от утомительного перехода на горячих, пыльных, пестрых лоскутных одеялах, шторах с причудливыми узорами, в окружении своих не менее утомлённых детей, мужей, или попутчиков, привычно, так, как это могут делать только женщины, ласково гладили несмышленышей по взъерошенным, или ещё не обросшим как следует головкам, что-то шептали и изредка, с большим трудом улыбались. А вокруг них всё двигалось, гомонило, кричало и блеяло, гудело автомобильными сигналами, скрипело осями возов: беженцы нескончаемым потоком пробирались к мосту, перешагивая через ноги и руки сидящих у самой дороги, среди толпы мужиков и баб, толкающихся на стихийно возникшей перед мостом напротив села Пимен-Черни толкучке. Тут, на берегу, вовсю действовал небольшой стихийный рынок, где люди старались избавиться от вещей, ставших теперь им ненужными, которые были взяты с собой из-за чьей то прихоти, или по ошибке, а теперь были лишней тяжестью. На них старались выменять, а, в крайнем случае, купить за быстро обесценивающиеся советские деньги то, что становилось теперь в этом пути на восток, необходимым как жизнь. Прилавками служили борта грузовиков, пыльная трава, и те же возы, на которых передвигалась часть беженцев.
Здесь местные и пришлые мужики в белесых, мокрых в подмышках рубахах, кто босяком, а кто и в великолепных хромовых сапогах, спорили грубыми голосами о достоинствах, или недостатках вещей, их цене. Они возбуждённо толкались локтями, или неторопливо меняли запасенные загодя домашние харчи на экзотические “хреновины” и “штуковины”, которые в необъяснимо большом количестве предлагали беженцы из городков, сёл и рабочих поселков. Несколько калмыков и дагестанцев в пыльных халатах и каракулевых папахах с деловыми лицами осматривали и ощупывали невесть как оказавшиеся тут настольные электрические лампы с зелеными абажурами, тяжеленные каминные часы с пастушками, огромные, вышитые панно с красноармейскими фигурами, шагающими вслед убегающим буржуям, прихотливые шелковые китайские покрывала, кружевные лифчики и экстравагантные ночные женские рубашки, недоуменно поднимаемые покупателями “на свет”, имперские мраморные держатели для настольных календарей и ручек, сами пишущие ручки с золотыми перьями, стоптанные и совсем новые женские туфли и мужские ботинки, лезвия безопасных бритв, книги, кремни от зажигалок, толстенные фаянсовые блюда с жар-птицами и экзотическими цветами. Время от времени какой-нибудь местный мужик, тревожно блестя глазами, уносил, зажав в руке золотую безделушку, обмененную на сало и кукурузные лепешки. Старательно делая независимое лицо, он пробирался через шумящую толпу, аккуратно обходил хмурых солдат НКВД, на другом конце моста на стороне Пимен-Черни, и пропадал там в массе людей и подвод медленно поднимающихся по крутому склону дороги, ведущей через сельские дома, сады и заборы к далёкому ещё Есауловскому Аксаю, но, в конечном счёте, к Сталинграду.
Во всей этой оживлённой, пёстрой толпе, бойцы Красной Армии Надеждин, Петрюк и Гецкин, в полном, новеньком снаряжении, с винтовками СВТ-40, в сопровождении старика Михалыча в казацкой фуражке с треснутым козырьком, и Андреевны, высокой крестьянки с заплаканным лицом – матери пропавшей девочки, смотрелись несколько необычно. Эти пятеро, цепочкой, как нитка за иголкой, прошли сквозь маленький стихийный рынок и вступили на деревянный настил моста, который был почти полностью скрыт нанесённой на него автомобильными покрышками, копытами животных, и ногами людей, землёй и сором.
- Кому война, а спекулянтам мать родна. Базар прямо как в НЭП после Гражданской войны… - сказал Надеждин, оглядываясь назад, и не увидев Гецкина, который должен был идти последним, остановился: - Эй, а где же Зуся?
Прежде, чем Надеждин успел выкрикнуть имя Зуси Гецкина, тот уже появился из-за воза с матрасами, одеялами. В руке у него блестели маленькие ножницы:
- Во! Отличная вещь! Польские и не совсем тупые.
- Ну, ты даёшь. Минута всего прошла. Украл, что ли?- Надеждин вытянув шею заглянул Зусе за спину, ожидая увидеть кого то из обворованных и жаждущих возмездия торгоев.
- Обижаешь, москвич, честный обмен.- Гецкин похлопал ладонью по своей, теперь пустой фляге.- На воду сменял. Питьевая вода сейчас тут в цене. Это вон, только скотина может из лужи пить. А колодцы в деревнях по пути, наверное, уже сухие все. Так, что…- он кивнул головой в ту сторону, где ниже по течению реки, метрах в двухстах, небольшое стадо коров, и несколько десятков овец, пили мутную речную воду.
- И зачем тебе этот инструмент? Румын с немцами резать?- Надеждин снова двинулся за хромающим Петрюком, женщиной и стариком Михалычем.
- А это, ещё студент называется, интеллигенция, Москва, ногти чтоб подстригать. Для марафета и гигиены. Хотел тебе тоже давать стричь, но за гадкие подозрения не дам теперь. Будешь как Петрюк, ногти зубами обгрызать. - Гецкин сунул ножнички под клапан патронного подсумка.
В этот момент они уткнулись в спины людей с чемоданами, баулами и тюками, которые окружали седого, благообразного вида старика с обвислыми украинскими усами, который держал на вытянутых руках расшитое красными петухами полотенце, и что-то говорил трём хмурым солдатам НКВД про подарок “начальнику переправы”. Вслушавшись в разговор, Надеждину почувствовал, что на него накатывается злость.
- Я Кузьма Меркулов, иду аж из самого Крыма, из Бахчисарайского района, из Почтового, товарищи начальники. То еду, то иду. Мы тут с людьми поговорили, помозговали, и обрешили подарочек вам учинить. Не побрезгуйте, примите от нас подарочек. Рушник, хороший. Уж так тяжко нам, тяжко. Потому как не у всех бумаги сохранились, да у колхозников и подавно пачпортов не было. А уж как немец с румыном начал подходить… Откуда пачпорта, да бумаги то? А на другой берег здесь нам надо побыстрее, шибко надо. Неровён час, бои тут начнутся, или самолёты будут налетать. Уж всего по пути насмотрелись и наслушались. А переправы и мосты, это самая страсть, что твориться иногда. Немец любит людей мирных бомбить и стрелять с самолётов своих…А нам за Волгу нам надо побыстрее. Родственники у нас у всех там есть. А тут теперь мы как бараны у моста, одним скопом… Приметит немец, ох…- на дрожащих руках, в старческих венах и пятнах, Меркулов потряс полотенцем. Маленькая черноглазая девочка, сидящая на одном из потёртых чемоданов рядом с ним, мало чего поняв из произнесённого, кивнула и важно сказала «Да!». Стоящие вокруг беженцы закивали головами. Все эти люди, пройдя и проехав многие версты от Крыма до этого места, повидали всякое. Им навстречу спешили юные курсанты с персиковыми щеками и романтическими взглядами восторженных глаз, которым предстояла скоро идти в не подготовленную, часто бессмысленную атаку. Тесня на обочины эвакуированных, или просто бегущих на восток, уверенно шли кавалерийские, танковые, артиллерийские, пехотные части кадровой Красной Армии переброшенные из Закавказья или других внутренних военных округов. Неторопливо, степенно шли эти уральские, может быть, сибирские полки, старательно держа равнение в шеренгах чинно шли кряжистые, крепкие тридцатилетние мужики, и верткие, жилистые, кровь с молоком парни, по-крестьянски добросовестно подхватывали они припев вслед голосистым запевалам. Много раз навстречу беженцам нестройно плелись ополченские маршевые или строительные батальоны, понурые мужчины разных возрастов, без оружия, со строительными инструментами, или без него вовсе, испуганные, в кепках, шляпах, в городских костюмах, или в рабочих спецовках, часто только с противогазными сумками через плечо и узелками домашних харчей в руках. Им предстояло пополнять сражающиеся дивизии, подбирать винтовки рядом с убитыми в контратаках, или строить бесконечные оборонительные рубежи.
А вслед беженцам, толкая их в спины, сбрасывая с дорог на проселки и тропы, и в воду с мостов, проклиная и матеря всё на свете, отступали, катались разбитые, разгромленные, обескровленные армейские части. Жалкие тележки и повозки гражданских, обгоняли то искромсанные осколками «полуторки», с обгоревшими бортами и пробитыми пулями кабинами, то бесконечные вереницы армейских возов с телами раненных, замотанные несвежими, окровавленными бинтами, которые кричали, стонали и плакали как дети, а многие и не шевелились вовсе. В тыл мчались кавалеристы, ведущие под уздцы за собой сразу по несколько лошадей без седоков, искалеченные танкетки, облизанные огнем, броневики, штабные машины, с сидящими на папках и чемоданах, машинистками, официантками штабов, офицерами связи, казначеями, почтальонами, ветеринарами, корреспондентами военных газет. В том же направлении двигался поток телег, волокуш, повозок, бричек, автобусов, и всевозможных легковых и грузовых машин, с солдатами без оружия и без командиров, с танкистами без танков, лётчиками без самолётов, с офицерами и комиссарами без подразделений, и советскими и партийными работниками, и их семьями без имущества.
Всё это катилось вместе с беженцами по одним и тем же дорогам, обгоняя, запруживая развилки дорог, и перекрестки бросаемых на произвол судьбы, горящих городов, роилось муравейниками у переправ, вокруг которых торопливо окапывались спешно брошенные на их прикрытие части из местной милиции, или ополчения состоящее из добровольцев десятиклассников, рабочих, конторщиков, лекторов и ветеринаров, одетых в гимнастерки, ещё хранящие складки и запахи армейских складов, или и вовсе в своей гражданской одежде. Рядом с ополченцами обречённо занимали оборону части и частички измученной, голодной, оборванной пехоты, единичные танки, бронемашины,артиллерийские орудия. Огромный людской поток в ужасе двигался мимо них всё дальше на восток, всё ближе и ближе к Волге, разливаясь по полям и проселочным дорогам, опять собираясь на шоссе и большаки и снова раскатываясь, закрываясь спинами от немецких самолётов, которые едва не рубили, а иногда и рубили их винтами и стойками шасси. И беженцы и эвакуированные, и военные, все вместе валились тогда в кюветы, в бурьян, в пшеницу и подсолнечник, отрешенно глядя после очередного налета в пространство перед собой, на белые от страха лица соседей, инстинктивно отодвигаясь от убитых, от растерзанных и искромсанных пулями и бомбами тел…Так много всего прошло за два не полных месяца перед глазами этих людей, униженно стоящих сейчас на солнцепеке на мосту вокруг своего невольного депутата, старика Меркулова, но ни разу им еще не встречались такие угрюмые, уверенные в себе, бесцеремонные военные, с подозрительно и надменно прищуренными глазами, в форме НКВД, до зубов вооруженные, при дымящей мясом жаровне, мощных новенькими грузовиках и бронеавтомобиле под маскировочной сетью. Всего лишь два часа тому назад, после того как через мост проехала машина с каким-то важным генералом, беженцам через рупор было объявлено, что по распоряжению фронтового начальства, все проходящие через мост, должны быть досконально проверенны на предмет поиска дезертиров, шпионов, провокаторов паники и преступного элемента, и что пропуск будет осуществляться только после того, как все они выкопают траншеи для обороны перед леском. Ошалевшие от высокого августовского солнца люди, не поняв в суть этого объявления, стали было напирать толпой на опустившийся полосатый шлагбаум, закрывший им путь в безопасность, но очередь пулемёта поверх голов отбросил людскую волну, и прижала к земле. Хотя проверка и пропуск не прекратились вовсе, и можно было как-то договориться с «начальником переправы», но за час с небольшим, мост у Пимен-Черни стал плотиной на пути людской реки.
Дослушав наконец длинный рассказ старика с рушником о дальней и тяжёлой дороге от Крыма, один из солдат охранявших шлагбаум, сдвинул на затылок свою василькового цвета фуражку с краповой тульей почти на затылок, отчего стало видно, как на его лбу блестят капельки пота, и сказал равнодушно:
- Граждане, вам товарищ капитан Джавахян три раза в рупор кричал, что переправа здесь закрыта, а все беженцы и эвакуированные поступают в распоряжение командира батальона, который сейчас занимает оборону за леском, для рытья окопов. Пока окопы не будут отрыты, через мост пройдут только военнослужащие и граждане с мобилизационными предписаниями, эвакуационными путёвками, или жители Пимен-Черни.
- Дорогой, миленький, ну, вот подарочек…Ну что мы там накапаем в обороне, мальцы да старичьё? -старик стал мелко кланяться, тряся полотенцем.
- Да…-опять сказала кареглазая девочка сидящая на чемодане.
- Гражданин, папаша, твоя настойчивость мне уже подозрительна. Я тебя, папаша, сейчас арестую…- вмешался второй солдат, у которого на красных полосках вдоль петлиц гимнастёрки, рядом со стрелковыми эмблемами, рубиновым цветом отливали сержантские треугольнички.
В этот момент из-за спины старика возник сначала Петрюк с Михалычем, а за ними Гецкин, Надеждин и Андреевна.
- Обошли бы уже давно этот мост вброд, вон, где коровы стоят…- проходя мимо старика шепнул Надеждин.
- Привет бойцам НКВД от 208-й дивизии!- сказал Зуся, упёршись животом в бревно шлагбаума. – Через такое палено, немец с румыном, точно, не прокатят…
- Стой на месте, боец. Вы откуда? Документы.- сержант оглядел внушительную экипировку подошедших солдат и бесстрастно протянул вперёд ладонь.
Пока Надеждин, Гецкин и Петрюк доставали из кармашков свои солдатские книжки, а Михалыч из под сатиновой подкладки затёртой фуражки листок, на котором мелким почерком комиссар полка Круткова указывалось, что трое бойцов придаются ему, как представителю Советской Власти в Пимен-Черни на трое суток для содействия в розыске пропавших детей колхозников, по приказу заместителя командующего 64-й Армией генерал-лейтенанта Чуйкова В.И., а сержант НКВД внимательно всё это изучал, у одноэтажного домика, с соломенной крышей вывеской «Хлеб» царило оживление. Под маскировочной сеткой, стоящей на жердях вынутых из соседней ограды, и которая укрывала маленький окоп с уставленным в сторону берега пулемётом "Максим", две автомашины ГАЗ-АА, бронеавтомобиль БА-64, мотоцикл, и ещё небольшую дымящуюся жаровню, стоял длинный стол, похожий на прилавок. За этим столом, заваленным съестной снедью и разными мелкими вещами, вроде тех, которыми активно обменивались беженцы на импровизированном рынке, сидело несколько военных, без гимнастерок и сапог, в одних только галифе. Их лица были красны, от жары и обильной пищи. Возбуждённо что-то обсуждая, они то и дело подливали в свои стаканы из большой тёмной бутыли мутную жидкость, рвали зубами белое куриное мясо, заталкивали в рот едва ли не целые помидорины, брызгая во все стороны желтоватыми семечками. С ним за столом были ещё двое гражданских. Недалеко, на солнцепёке, у груды пустых ящиков, под охраной бойца с винтовкой наизготовку, понуро сидели прямо на земле человек двадцать молодых и не очень мужчин в гражданской одежде. Рядом с ними лежали несколько приблудных собак, и с таким же, как и у арестованных, тупым безразличием, смотрели вокруг.
Из открытых настежь окон магазинчика, из-за пожелтевших занавесок, слышались разгоряченные крики, куражливые женские повизгивания и какие то припевки, похожие на матерные частушки.
- Так, бойцы с товарищем Красновым С.М., идите со мной…- наконец выдавил из себя сержант и вернул документы.- Эта женщина с вами? Тоже значит тдите. А ты дед, говорю, арестую вместе с твоими тётками… Иди, слышь, отсюда на копание траншей.
- Да.- теперь уже невпопад сказала маленькая девочка сидящая на чемодане.
- А вы сами, товарищи, кто такие будете?- обходя шлагбаум и двигаясь вслед за сержантом, осторожно поинтересовался Михалыч.
- Мы, из конвойных войск НКВД, охраняли тут исправительно-трудовой лагерь ГУЛАГа НКВД СССР, а потом, когда всех зеков начали грузить в эшелоны и отправлять на восток, нас, как и многих других из НКВД, направили в распоряжение Военного совета Сталинградского фронта, как части для охраны тыла фронта. В общем шпионов – диверсантов ловить, дезертиров, порядок наводить, и если что, в расход…- сержант остановился у стола:
- Товарищ лейтенант, вот тут солдаты из батальона, что за рекой окапывается, с колхозным начальством. Детей каких-то ищут.
Тот, к кому сержант обращался, сидящий центре стола, весь заросший чёрными волосами, с огромным прыщавым носом и блестящими масляными глазками, покосился на застиранную, штопанной рубаху Михалыча, его старую казацкую фуражку с треснутым фибровым козырьком, скользнул взглядом по стоящим за ним красноармейцам и сказал с сильным кавказским акцентом:
- Эй, ну и чэго ты их прывёл. Пусть ыдут…
- Василий Владимирович, день добрый. О, и Прошка тут… Вы Машеньку не видели – тут только Михалыч со спины узнал двух своих односельчан, сидящих напротив лейтенанта и сделал к ним шаг. Те одновременно обернулись. На лице Виванюка читалось абсолютное спокойствие и сочувствие:
- Михал Иваныч, товарищ дорогой, я уж думал у Даргановки вы всю неделю будете противотанковый ров копать. Вернулись… Думал, уж к вам идти, помогать. А тут вот товарищи из НКВД попросили побыть, чтоб в лицо местных от чужих различать. Вот мы с Прошкой и вызвались. Да, Прохор? – Прохор, улыбаясь во весь рот закивал: одной руке у него был гранёный стаканчик с мутной жидкостью, а в другой стрелка огородного лука.
- Смотрю, Прохор, мать твоя, старая-старая, уж еле ходит, и еле видит, а с самогоном не расстаётся. Всё гражданам начальникам старается угодить. Сколько говорено было уже про самогоноварение. Не из колхозного ли зерна эта штука?– Михалыч осуждающе покачал головой.
- Так это ж, для товарищей военных угощение…Лейтенант вот, товарищ Джавахян попросили для отдыха…- пожал узкими плечами Прохор и уставился в стакан. – Отдыха…
- Э-э… Иды ужэ… Ищи своих дэтэтй…- Джавяхан грузно оперся на локти и стал недобро буравить старика мутным взглядом чёрных глаз.
Сидящий рядом с Джавахяном пожилой военнослужащий, отмахиваясь от мух, которые кружились перед его лицом и глиняной миской с кусками жаренной курицы, сказал примирительно:
- Тут два часа назад проезжал товарищ Чуйков со своим конвоем. Сказал, чтоб мы ловили и отправляли в ваш батальон из 208-й дивизии, обратно за реку, всех подозрительных. И тех кто без документов. Мужчин призывного возраста. Сопротивляющихся арестовывать, не подчиняющихся расстреливать согласно приказу НКО № 227. И ещё мы оказываем батальону содействие в мобилизации на рытье их окопов. И про девочку товарищ генерал-лейтенант говорил. Так что мы делаем своё дело, а вы своё, и не отвлекайте нас, товарищи, от выполнения оборонительных задач фронта. Лады?
В этот момент из дома на крыльцо вышла абсолютно голая молодая женщина с крепким, крупным, ядреным телом.
Ступая босыми ногами по сору устилающему доски крыльца, она, опираясь ладонями о стену, глупо усмехаясь, сделала несколько неуверенных шагов, и, вдруг, словно осознав, что в её сторону устремили теперь взгляды множества людей, прекративших и разговоры, и даже движения, сказала «Ой…». После этого она развернулась, и, сделав несколько таких же неуверенных шагов обратно, скрылась в тени дверного проёма.
- Во Зойка даёт…- Джавахян засмеялся, скорее, заржал как жеребец и принялся кидать в проём двери один за другим огурцы и помидоры со стола.
Из окна, отмахнувшись от занавески, высунулся по пояс голый мужчина с сияющей лысиной в венчике вьющихся волос:
- Ты куда Зойка!
Из окна послышался взрыв гомерического хохота и какой-то истеричный женский голос крикнул:
- Ну и что? Я могу и похлеще! Спорим Тенгиз?
Джавахян прекратил бросать овощи, и, заметив вытянувшиеся от изумления лица Надеждина, Гецкина и Петрюка крикнул полуобернувшись:
- А ну, старшина Енукидзэ, прэкратитэ это ****ство, что вы там поохрэнэвали? Совсэм мэры нэт, жерэбцы. Как блатари! Мы есть энкеведэ, еж твою мать!
- Харашо, генацвале! – лысый мужчина в окне сделал серьёзное лицо и скрылся за занавеской. Оттуда тут же послышались матерные крики, шум борьбы, падающей мебели и звон посуды…
- Ну, что дальше, товарищи? Что застыли как столбы, баб голых никогда не видели? Устаршины Енукидзе сегодня день рождения. Пусть отдохнёт как следует перед боями с фашистами. – сидящий рядом с лейтенантом человек впился глазами в подавленно молчащего старика и снова принялся отгонять от лица мух:
-Чего, в молчанку играть будем? Кстати, откуда у тебя это выражение «гражданин начальник»? Сидел? Где, за что?
- Не я. Сын. В тридцать девятом забрали. Статья пятьдесят восемь, террористическая деятельность. На колхозной выставке в Сталинграде, ударнику труда по харе съезди, за то, что тот его невесте за кофточку по пьяному делу полез. Десять лет без права переписки. Невеста его, жена его не состоявшаяся, моя стало быть не состоявшаяся сноха, в том же году села. Антисоветская агитация. Говорила, что жениха её ни за что посадили…Подумаешь, парень парня за девку наказал. – старик подавленно вздохнул.
- У нас ни за что не сажают. Ударить передовика коммунистического хозяйства, тем более не дай бог члена ВКП(б)или ВЛКСМ, это считай подрыв социалистической экономики, саботаж и контрреволюционная деятельность. А где она срок отбывает?
- В Чекмен – Ногинске вроде… Всё что удалось узнать. А точно не известно.
- Повезло. Был я там. Красивые там места.
- Вы что, товарищь военный, тоже там…
- Тоже. Только не как фашистская сволочь из числа зиновьевско - бухаринского отродья, или контра, а как боец конвойных войск. Понял, земляк? Да и нет уже этого лагеря. Уж год как нет. Повымирали все там с голодухи то…
Михалыч вдруг пошатнулся, закрыл ладонями лицо, и едва не сел на землю. Андреевна и проворно вставший Виванюк, подхватили его под локти. Виванюк изобразил на лице сострадание:
- Пойдём, Михал Иванович в тенёк с солнцепёка…
- Мыхал Иванович, как маршал эСэСэСьР Будённый. - мрачно ухмыльнулся Джавахян и повернувшись к бывшему охраннику лагеря в Чекмен – Ногинске, добавил: - Всэ эти бэлоказаки здэшние, всэ враги народа. Всэх стрэлять надо как бэшэных собак!
Михалыча перевели через дорогу, и аккуратно прислонили к жердям ограды. Петрюк начал махать на него своей мокрой от пота пилоткой, а Виванюк полуобняв за плечи Андреевну, и глядя в ее выплаканные голубые глаза, принялся говорить о том, что Машечка, дочка её найдётся обязательно, и что она такая смышленая всегда была на уроках математики и географии, и всегда выучивала наизусть заданные на дом стихи, и что она скромная, а не как те, другие, которые пропадали до этого, и которые были уже и не прочь с парнями по кустам прятаться, а Машенька её, нет, она совсем не такая.
- Ты видал, москвич, что у них там на столе вместе со жратвой лежало? И часы разные наручные, и шкатулки, портсигары, портмоне, медальончики, гребешки, косметички разные…-Зуся продолжал тем временем наблюдать сцену у стола, и особенно его интересовало то, что происходило в магазинчике: - А девку видел голую? Холёная такая барышня… Причёсочка набита, колечки, серёжки, ноготки крашенные… Ух, с ней бы побарахтаться на сене…
- Ты и ноготки успел рассмотреть, Зуся…- Надеждин снял с плеча винтовку, поставил приклад в пыль, и сел рядом с ней на корточки.- Ноги гудят…
- Зацени, Петя… -Зуся раскрыл свою ладонь и украдкой продемонстрировал товарищу изящный плоский серебрянный портсигар с эмальевыми ирисами.
- Это ты у НКВДэшников спёр со стола когда все на деваху рты разинули?- Надеждин не без уважения посмотрел на Гецкина. Тот довольно шепнул:
- Хоть как наказать этих гадов… Ишь жируют на народной беде...
Тем временем Михалыч пришёл в себя, и увидев, как Виванюк участливо обнимает Андреевну, и что-то ей шепчет ободряющее, сказал голосом, в котором всё ещё угадывалось волнение:
- Вот хорошо, Василий Владимирович… У нас теперь три бойца Красной Армии, мы все дома в Пимен-Черни обойдём, всех-всех расспросим, кто Машечку видел в последний раз, и, глядишь, след-то и поймаем. Вардулака, что у нас завёлся разыщем, и расстреляем всенародно…
- Нам бы водички бы попить…- невпопад вставил Петрюк.
- Я бы с вами пощёл, но вот, товарищь лейтенант просил тут побыть. Так что...- Виванюк освободил, наконец, из своих объятий мать пропавшей девочки, и скользнув на мгновение взглядом по дощатой крыше своего дома, где на чердаке, всего в каких-то пятидесяти метрах отсюда, лежал лицом в солому убитый им немецкий диверсант в форма капитана НКВД, и полуживая, завёрнутая в циновку, как муха в паутину, Машечка, поиски которой, как теперь выяснялось не закончились, как он думал, а неожиданно начинались снова. Он на мгновение задумался и, артистично похлопав себя ладонью по морщинам лба быстро заговорил:
-Ах, как я мог забыть-то… Я ж видел её вчера вечером у брода через Аксай, за яблочными садами и бахчами. Она шла по тропинке вдоль реки в сторону Даргановки. С ней коза была маленькая, а в руке, вроде, не то узелок, не то свёрток. Далековато было до неё, и смеркалось к тому же… Я то на велосипеде ехал из Даргановки, от тамошней учительницы младших классов Татьяны Павловны… Уж совсем точно сказать не могу, что это Машенька была. Я крикнул ей, что, мол, Машечка, тебя все обыскались уже. А она даже не повернула голову в мою сторону…И я и подумал тогда, что это, значит и не Машечка, раз она не отзывается на своё имя, а какая то другая, похожая на неё девочка, может, и не из Пимен-Черни вовсе, а пришлая беженка, например… Платьице жёлтое, помню на ней было, две косички у неё вперёд на грудь уложены были, вроде…Смеркалось уже… Я по тропинке в кустарник въехал и потерял её из вида…
- Маша, Машечка... Маша... - Андреевна вдруг зарыдала в голос, и одной рукой дёргая на своей груди сарафан, словно хотела его разорвать, другой рукой, как клещами вцепилась в плечё Виванюка: - Владимирыч, родненький, где ты её видел? Владимирыч…
Слёзы покатились по её загорелым щекам, и заблестели на солнце.
- У брода, у Змеиной балки…- Виванюк мягко отцепил от себя Андреевну, и, оглядев хмуро наблюдающих эту сцену красноармейцев, пояснил:
- У Андреевны в Даргановке старшая сестра живёт с мужем. Машеньке, значит, тётка…Может Машенька к ней пошла…Только вот, коза к чему…
- Козу она могла ничейную с собой взять… Тут много теперь бесхозного скота ходит… Надо идти кому-то вдоль реки в Даргановку. Искать везде. Может примета какая будет. Найти надо в Даргановке сестру Андреевны. Может там и Маша сейчас… А нет – подробно расспросить… Они, я помню по праздникам, здорово ладили между собой. Маша любила тётку свою, а та в ней тоже души не чаяла. И по дороге всех-всех спрашивать. А ещё ведь Лиза Стеценюк, три дня назад исчезла, как в воду канула. Заодно, расспросить, может, и её кто видел. Лет тринадцати на вид, Лиза то, одета была в красную ситцевую юбку по колено, белую сорочку. И галстук пионерский свой она ещё всегда носила…- Михалыч отделился от ограды и неопределённо махнул куда-то рукой.- Вот мы тогда в Даргановку через Змеиную балку наших красноармейцев попросим дойти, с моей бумагой от комиссара. У них ноги молодые…Глаза зоркие…До завтрашнего полудня и обернутся назад, а дальше поглядим что делать.
- Можно я останусь тут, дедушка…- поднял ладонь Петрюк, хлопая рыжими ресницами.- У меня ноги стёрты все от ботинок…
- Нет, втроём вам будет сподручнее. Больше глаз, больше вероятность что то увидеть.- быстро ответил за Михалыча учитель.- А я попробую лейтенанта Джавахяна уговорить двух его солдат взять и съездить на машине в сторону Самохино и Жутово, может те, кто идут по дороге на Сталинград её видели, или Лизу. Мало ли… Если тут её нигде нет… Не калмыки же с дагестанцами её украли… Хотя народ такой…
Андреевна при этих словах ещё сильнее зарыдала.
- Тогда нам надо харчей в дорогу.- сказал Гецкин деловито, а Надеждин в подтверждении этому похлопал по своей тощей сумке для еды.
-Харчей я вам дам. И воды колодезной дам. И льда из ледника. – кивнул Михалыч.- Пошли, служивые, со мной на двор убежавшего, бывшего товарища председателя колхоза Ляпинша. Запасов у него там осталось полно. От имени Советской власти вас снаряжу за счёт бегунца. Не плачь, Андреевна, вон какие орлы теперь у нас… Хоть кого сыщут…
Поддерживая под локти Андреевну, Гецкин и Надеждин, пошли вслед за стариком вверх по пыльной лице. Петрюк, строя гримасы боли от растёртых до кровавых мозолей ног, последовал за ними.
Виванюк проводил их всех прищуренным взглядом. Потом поглядел на маленькое чёрное окошко чердака своего дома, стоящего неподалёку, потом на восток, в сторону не видимой отсюда Даргановки, куда ему удалось без особых хлопот направить трёх свежих и неприятно ловких молодых красноармейцев, потом он посмотрел на юг, где над дымами горящих с утра тракторов и комбайнов на пригорке, высоко в белёсо-синем небе кругами летал немецкий самолёт-разведчик. Затем Виванюк топнул несколько раз сапогами, стряхивая с них густую пыль, сняв с головы кепку тоже пару раз ударил ей о бедро, и, плюнув напоследок себе под ноги, медленно двинулся обратно к столу, где к этому времени оставался только Прохор и бывший охранник лагеря в Чекмен – Ногинске. Перед глазами Виванюка всё еще стоял тот бойкий генерал-лейтенант, который два часа назад проехал здесь на чёрной «эмке», в сопровождении взвода автоматчиком на «полуторке» ГАЗ, и с радиостанцией в фургоне на «трёхтонке». Когда этот генерал-лейтенант остановился у магазинчика и принялся орать на побелевшего от страха и злости лейтенанта Джавахяна, то его зычный голос, широкий шрам поперёк лба, хитрое, лисье выражение глаз, заставила стоящего тогда рядом Виванюка испытать чувство дежавю, как будто это мгновение уже когда-то было с ним раньше, и без каких либо существенных отличий. А когда Чуйков, а именно так назвал себя тот генерал, который по уставному, по матушке распекал командира отряда НКВД Джавахяна за беспечность, разложение и разгильдяйство, допускаемое в тылу фронта и его 64-й армии, и, зло осматриваясь, вдруг уперся своим взглядом в глаза Виванюка, а потом ещё начал в них пристально всматриваться, словно пытаясь вспомнить что-то, тут уже Виванюк почувствовал какой-то, прямо таки ледяной холод, тронувший его спину и живот. Где-то они встречались раньше. Но где это могло произойти? Что могло быть общего у этого высокопоставленного военного с орденами на груди, и у школьного учителя в богом забытом селе Пимен-Черни Котельнического района Сталинградской области? Почему этот Чуйков так долго смотрел на него. Уж точно не из-за того, что прочитал его мысли о девочке на чердаке, и о других убитых и замученных им за последнюю неделю женщинах. Он определённо тоже пытался что-то припомнить. Пока Джавахян со скоростью достойной курсанта военного училища приводил себя в уставной вид, и этим же занимались его подчинённые, пока они выстроились шеренгой, и Джавахян, демонстрируя отличную строевую подготовку по всей форме докладывал Чуйкову о численности, задачах своего отряда, а так же о происшествиях за последние сутки, Виванюк, отойдя за угол магазина присел за спинами задержанных ещё утром мужчин. Он сидел там, прячась, до тех пор, пока кортеж Чуйкова не выехал из Пимен-Черни куда-то в сторону Чиленково и Небыково.
Сейчас, подходя к столу, и усаживаясь на скамью рядом с осоловевшим от жары и самогона Прошкой, Виванюк мысленно поворачивал перед собой лицо этого генерала, помещая его в разные обстоятельства. Это было ему делать, отчего то нестерпимо, почти физически больно.
- На, Владимирыч…Выпей маменькиного…- задышал ему в ухо Прохор, пододвигая по столу через портсигары и наручные часы, стакан с мутной желтоватой жидкостью.
- А вот тут, товарищи…- сдвигая стаканы и тарелки с объедками вбок, и раскрывая свежую газету «Сталинградская правда» сказал бывший охранник из Чекмен – Ногинска, хочу вам показать прелюбопытную пьесу товарища Корнейчука под названием «Фронт», где товарищ писатель очень выпукло показывает, как нужно бороться с пережитками партизанщины, со старыми воззрениями на фронте, и переходить к новым приёмам борьбы с немецко-фашистскими извергами. Если уж печатный орган ВКП(б)печатает как передовицу эту пьесу, то значит припекло уже… Достали до печёнок уже все эти бывшие герои Гражданской войны, которые воевать умеют только на тачанках с шашками, и это то в век войны моторов, и из-за которых доблестная Красная Армия, под руководством великого Сталина вынуждена отступать второй год подряд…
Гражданская война. Война. Виванюк схватил со стола пододвинутый Прошкой стакан, и вылив его содержимое в рот, зажмурился: слова о пьесе «Фронт», дурашливое бормотание Прохора, лай собак и гомон людей за переправой слились в единый гулкий звук…Точно, Гражданская война... Кронштадт... Где-то там он видел этого генерала, тогда ещё очень молодого человека с этим шрамом, лисьими глазами и резкими повадками…
Глава 6
Безвинные
Сильный, порывистый февральский ветер то поднимал с мостовой позёмку и нёсся с ней вдоль длинной улицы, состоящих из одинаковых как близнецы трёхэтажных кирпичных домов, то принимался раскачивать тусклые электрические лампочки, которые и без того были едва живы. В разрывах между домами, на фоне свинцово-чёрного неба, пепельно-серого льда Финского залива, были видны то мерцающие огни на огромных тушах линкоров «Севастополь», «Петропавловск», и броненосце береговой обороны «Император Александр II», стоящих на рейде, то свет Толбухинского маяка, который казался странной белой звездой. В морозном воздухе над всем Кронштадтом, и, наверное, надо всем островом Котлас, каждые пятнадцать минут разносился бой колоколов башенных часов Андреевского собора.
- Умоляю, Ильюша, голубчик, быстрее, быстрее, ради Христа! – Маргарита Павловна поскользнулась на заснеженной булыжной мостовой. Василий успел вместе с сестрой, подхватить мать под руки, и она, вцепившись в его плечо, едва не расплакалась. Лепопольд Петрович, в сером пальто, вместо своей обычной жандармской шинели, и в островерхой шапке из каракуля, быстро шёл впереди с двумя большими чемоданами в руках, рядом с горничной Клавой, которая в своем длиннополом тулупе с поднятым воротником была со спины похожа скорее на мужчину, чем на женщину, если бы не её пуховой платок, концы которого она несколько раз обмотала вокруг воротника.
Позади всех, толкая перед собой грохочущую одноколесную тележку, вроде той, на которой строительные рабочие перемещают тяжести, с коробками, и тюками, перетянутыми верёвкой, ворча что-то себе под нос по стариковски, спешил конюх Илья. Несмотря на то, что было уже далеко за полночь, им навстречу шли, бежали, поодиночке и группами, матросы, солдаты артиллерийских и пехотных полков, саперы, телеграфисты, железнодорожники, рабочие мастерских и складов, люди в полосатых арестантских халатах, кто с винтовками, кто с шашками, кто с факелами в руках. Все эти люди кричали, улюлюкали, свистели, смеялись, исторгая из своих ртов облачка белого пара:
- Долой Романовых! Да здравствует демократическая республика! Хватит войны! Давай хлеба! Землю давай!
Отовсюду, от Якорной площади, Морского манежа, Голландской кухни, Итальянского дворца, Петровского дока, от военной и купеческой гавани, со стороны казарм 1-го Балтийского экипажа, 2-го крепостного артиллерийского полка, и 1-го крепостного пехотного полка, казалось со всех концов города, слышались крики, пение множества голосов, играли военные оркестры, щёлкали винтовочные и револьверные выстрелы, звенело падающее стекло.
Несколько сотен человек скопились у фонарного столба рядом с перекрёстком улиц Интендантская и Николаевская, где, привстав на трибуне из ящиков, держась за одной рукой за столб, и размахивая другой рукой над головами слушающих, возбуждённо говорил, почти кричал человек в железнодорожной шинели и фуражке:
- Правительство, оказавшееся не способным справиться с разрухой, в настоящее время свергнуто, принято решение возвести на престол Алексея при установлении над ним регентства Михаила! Николай II обязан отречься от престола в пользу Алексея, ура-а-а...В Государственной думе образовался специальный думский комитет, и на питерских улицах уже нет ни одного городового или жандарма! Везде разъезжают грузовики с революционными солдатами. Левые кадеты и октябристы приветствуют такое обновление!
Из толпы слушателей раздались свистки и недовольные крики:
- Хватит Романовых с их германскими царицами! Долой кровососов! Бей его братцы!
К оратору потянулись руки, но он, обхватив фонарный столб как последнюю надежду, отчаянно завопил:
- Это ж, голубчики как сообщение, это ж просто как весть такая. Я за создание Временного правительство комитетом Думы! Левые кадеты и октябристы…
Человека в шинели всё-таки стащили вниз, и, грубо начали выталкивать из толпы. После чего тот, потеряв фуражку, затравленно озираясь, и на секунду встретившись взглядом с Василием, бросился бежать в сторону Лесной биржи. А на ящик уже карабкался следующий оратор…
Напротив ещё несколько солдат и матросов, выломав двери в продуктовой лавке «Небель и К», разочарованно выбрасывали на улицу пустые ящики и лотки, а двое из них, подбирая с мостовой камни, с придыханием бросали их во вдребезги бьющиеся стёкла окон второго этажа:
- Вот, казнокрады, будете сейчас за гнилую картошку отвечать нам, сейчас поднимемся…
Из следующего дома на улицу, несколько солдат с винтовками и примкнутыми штыками, выволокли какого-то босого толстого человека в одних кальсонах, и, повалив на мостовую, стали деловито и яростно, без слов, топтать сапогами. Следом вытащили за волосы не молодую женщину в ночной рубахе и тоже принялись избивать. Когда мужчина попытался встать кто-то из солдат с силой вонзил ему штык в бедро. С душераздирающим криком тот упал обратно на брусчатку улицы и пополз, пока несколько ударов ногами и прикладами не заставили его замереть.
- Быстрее, быстрее, Маргарита Павловна...Этот извозчик со своими санями, так много взял с меня и с грека Ипотиматопуло, что будет обидно, если наше бегство в Ораниенбаум провалиться из-за ваших с дочкой шляпных коробок!- обернувшись на Василия, его сестру и мать, зло зашипел ротмистр.- Они, мерзавцы, уже вкусили крови. Никольский, капитан крейсера «Аврора», убит, каперранг Повалишин с «Александра II», убит, Ивков с «Африки» живым спущен под лёд. Когда я от дома Голубева отходил, толпа уже шла за адмиралом Робертом Николаевичем, губернатором Виреном!
«Au danger on connait les braves» отчего-то пришло на ум Василию избитая фраза, значение которой он раньше не мог прочувствовать, так, как в это мгновение.
-Отречёмся от старого мира-а-а-а… Отряхнём его прах с наших но-о-о-ог… Нам постыли златые кумиры-ы-ы-ы… Ненавистен нам царский черто-о-о-ог…- под нестройный рёв множества глоток, в котором с трудом можно было узнать «Марсельезу», из-за поворота показалась толпа матросов, солдат и рабочих мастерских с развивающимся знаменем 1-го Балтийского экипажа и с факелами в руках. Впереди них, в разорванном генеральском мундире, с оторванными с тканью погонами и орденами, со связанными сзади руками, окровавленный, спотыкаясь, шёл высокий седой человек.
- Смерть Стронскому! Расстрелять! Сжечь! Смерть кровопийце-держиморде! –неслись вслед ему крики, сливающиеся со словами воинственной революционной песни.
Когда процессия поравнялась со Штраухом и Клавой, и стали видны раны и ожоги на лице генерал-майора, а так - же то, как кровожадно и сатанински блестят в свете факелов глаза его мучителей, совсем близко, может быть даже на соседней улице, часто и беспорядочно затрещали винтовочные и револьверные выстрелы, и следом деловито заработал пулемёт.
- Офицерье с полицией отбиваются! Это со стороны Морского Инженерного училища на Поморской! А ну, братва! - часть матросов и солдат, оставив процессию Балтийского экипажа, с окровавленным генералом, бросились в переулки, ведущие в ту сторону. Там громыхнул артиллерийский выстрел. Было слышно как с грохотом и треском рушатся после этого какие-то деревянные конструкции, и как гуляет эхо по прямым улицам юго-восточной части Кронштадтской крепости, отражаясь то от чёрного неба, то от пепельного льда Финского залива. Василий с ужасом наблюдал, как десятка два рослых матросов с оскаленными зубами, в расстёгнутых, несмотря на мороз бушлатах, из под которых виднелись тельняшки и голландки, побежали на выстрелы, оттолкнув при этом к стене Штрауха и Клаву, и буквально сбив с ног его мать и сестру. Тут же Василия самого оттолкнули на железные ворота с большим висячим замком, а старика Илью просто опрокинули вместе с тачкой на снег. Пеньковая верёвка лопнула, коробки и тюки развалились в разные стороны, часть из них раскрылась, а на одну из коробок с хрустом наступил кто-то из бежавших. Из толпы идущей с пением за генералом Стронским, чей-то пронзительный женский голос выкрикнул:
- Смотрите-ка, не иначе буржуи драпают из крепости!
И тут же сотни злобных глаз устремились на лежащие на брусчатке, с ленточками, цветами и перьями, шляпки Маргарита Павловны. Холодный ветер шевелил все эти цветные украшения, будто нарочно дразня восставших.
- Минёры сюда! Хватай этих гадов! – сказал выделившийся из толпы здоровенный матрос с браунингом в руке: - Ну-ка, кто тут?
Не успел Василий выдохнуть, как их окружили десятка полтора угрюмых матросов минной роты, некоторые из которых были вооружены винтовками, некоторые обнажёнными офицерскими шашками или кортиками. За их спинами горел мигающий электрический фонарь и факелы колонны, ведущей на расправу генерала, поэтому эти люди стояли как единая непреодолимая чёрная стена. Двое из матросов-минёров сильными руками схватили Штрауха за запястья, повыше его лайковых перчаток, и стали заворачивать их ему за спину, а один из них, приставив тускло блеснувшую шашку к груди Василия ухмыльнулся:
- Ну, буржуй, манто, пальто… Признаёшь власть Временного правительства, или нет?
- Васечка!- рванулась было к сыну Маргарита Павловна, но в этот момент кто-то из матросов со всего размаху ударил её по лицу. Маргарита Павловна неловко упала на грязный снег, отчего её юбки сбились к коленям, а меховая шапочка и горжетка отлетели в разные стороны.
- Всё дадут нам панталончики, за конфетки, да лимончики…- сказал рядом пьяный голос. Послышались отвратительные смешки и пахабные замечания.
Василий дернулся было к матери, но остриё шашки так вдавилось ему между рёбер, что почернело в глазах. Через мутные, пляшущие красно-жёлтые звёздочки он увидел, как Анна бросается к матери и пытается её поднять на ноги, как скользят по камню и разъезжаются её сапожки, как вырывающегося Штрауха, согнув почти пополам, бьют кулаками, рукоятями шашек и кортиков по голове, по затылку и спине, а потом, распахнув на нём пальто, и обнаружив под ним мундир жандармского ротмистра, срывают с него и пальто и мундир, валят себе под ноги, и начинают скручивать за спиной руки верёвкой от поклажи.
- Тащи их, братва, на лёд. Кончай семейку жандармов-кровопийц!
Под улюлюканье, свист и мерзкие шутки, минёры поволокли уже не стоящего на ногах отчима через идущую навстречу толпу в сторону казарм полуэкипажа, где все окна теперь были ярко освещены, к северо-восточной окраине Кронштадта. За ним, толкая в спины, погнали мать и старшую сестру Василия, а его самого, приставив к горлу офицерский кортик, повели следом. Перед тем, как им двинуться в этот скорбный путь, Клава, в отличие от куда-то исчезнувшего старика Ильи, протиснулась к Маргарите Павловне, попыталась со слезами на глазах, налету поймать и поцеловать её руку в некогда белой, а теперь перепачканной перчатке:
- Барыня, да что же это…
- Прочь господская подстилка!- матрос с перекошенным от злости лицом толкнул Клаву винтовкой на фонарный столб: - А то юбку на голову завяжу, да так и пущу всему Кронштадту на потеху!
Со стороны Губернских домов, всё ещё продолжала слышаться интенсивная стрельба. Иногда вступали пулемёты, и рявкало трёхдюймовое орудие. Всё так же невозмутимо, словно не было и в помине этой Кронштадской Варфаламеевской ночи, продолжали бить малиновым звоном часы Андреевского собора. Всё так же сиял огонь Толбухинского маяка.
Между казармами полуэкипажа и одноэтажным домом коменданта крепости, показались во тьме на другом берегу Финского залива и Маркизовой лужи, смутные, призрачно дрожащие огоньки Ораниенбаума. Оттуда тоже доносились звуки стрельбы. Тут, на самой окраине, обращённой в сторону Петрограда, где сейчас было абсолютно безлюдно, короткая тропинка, петляя между дровяными сараями, перевёрнутыми лодками, занесёнными снегом, подводила прямо к кромке льда.
- Минёры и в 1905 году восставали, и в 1906 году восставали, и расстреливали и ссылали нас, а разогнать не могли посметь генералы, потому как некому против немца было бы мины на заливе ставить…Тут знания нужны…А чтож за скотов-то тогда держали…Ну, вот и швартовка гадам…Давай Сёма, к полынье их…- сказал один из матросов, волочивших стонущего ротмистра.
- Где ж она?- огромный матрос с браунингом в руке, дуя на стынущие на ветру пальцы огляделся, и, заметив в десятке метров от береговой линии чёрное окно проруби, кивнул туда.- Вот, тащите, братцы их к воде…
- Стой, что ж баб за просто так кончать. Надо, хоть, попользоваться буржуйками… А ну, братва кинь-ка бушлатик вон, в сарайчик тот на пригорке…- тот матрос, что бил на улице по лицу Маргариту Павловну, схватил её за руку, и едва не оторвав меховую оторочку рукава, потянул к себе: - Кто ещё охочий до барского тела?
Четверо минёров, отделившись от толпы, под скабрезные шуточки поволокли Маргариту Павловну и её дочь к небольшому дощатому сараю стоящему посреди дровяных поленниц. Один из них шёл впереди, неся факел, и периодически прикладываясь губами к горлышку винной бутылке, а остальные с хохотом, волокли пытающихся вырваться женщин.
Анна, которую с верёвкой на шее волокли к сараю вслед за матерью, рыдала, и, хватаясь за душащую её петлю, пыталась произносить слова какой-то молитвы.
- Смотри, студентик, на благородную месть угнетённого народа…Сотни лет вы, дворяне, из нас кровь пили, а теперь наша очередь пришла…- прошипел на ухо Василию один из минёров, крепко держа Василия за руки.
- Мама-а-а! Мамочка родная…Прости меня за всё… – Василий закричал, как ему казалось, на весь мир, но адская боль в груди превратила его крик лишь в хриплый отчаянный стон.
- Что, ротмистр, смерть твоя пришла? Чуешь? - сказал тем временем один из матросов, наклоняясь над телом Штрауха, и ставя ему на грудь стоптанный сапог.
- Сейчас, Федька, погодь-ка…- Семён засунул, наконец, свой браунинг в карман, и подхватив со снега багор, принялся бить им по корочке льда и шуге, которой была покрыта вода в полынье.
- Скоты…Отпустите женщин, безбожники, креста на вас нет…Что они вам сделали… Они ни в чём не виноваты…- вместе с кровью выдавил из себя Штраух. Он попытался привстать, но был уже настолько слаб, что даже, если бы его руки не были туго скручены за спиной, и одного человека наступившего ногой ему на грудь, как сейчас, было бы достаточно, чтобы его удержать.
- Нам в полях и на фабриках ваших с утра до ночи работать за копейки, а вам в золочёных фаэтонах по театрикам и опереткам разъезжать, да по Парижам, и цены на хлеб задирать какие хотите! Нам детишек своих хоронить от болезней, да платить за каждый чих, а вам проституткам своим дома покупать да бриллианты. Нам четыре класса у попов ваших учиться, а вам любые чины открыты! Нам под пулями в окопах гнить, а вам с германцами да французами дружбу водить! Всё, кончилось терпение народное. Наша теперь страна! Ты,сука жандармская, этих баб своих нашей кровью поил, чтоб они тебя обхаживали… Вот что они, бабы твои сделали… И бог твой пархатый вместе с вами всеми это сделал заодно…- Федор нагнулся, вынул из кармана бушлата большой раскладной нож, раскрыл лезвие, и сделал на груди ротмистра несколько надрезов в форме креста.
- Мерзавцы, мы будем отомщены… Завтра же из Ораниенбаума придет пулеметный полк, так он с вас снимет шкуру… - скрипя зубами простонал тот.- Бог мой, не оставь меня перед лицом смерти…
Василий увидел, как грудь Штрауха, со всего размаха, воткнули крюк багра, и подтянув багром его тело к краю полыньи, толкнули в воду, такую же чёрную, как и оставшаяся полоса крови на снегу. Тело ротмистра, во вздувшейся от пузырей воздуха одежде, несколько раз перевернулось, но не пошло на дно. Было видно, что он всё еще пытается задержать дыхание, и инстинктивно борется за жизнь. Тогда минёры ещё раз в него вонзили багор, и, взявшись вдвоём, слегка притопили вздрагивающее тело, а ротом затолкали под лёд.
- На, юнга, помаринуй эту сволочь пару минут, пока не утихнет там…- Фёдор передал древко, совсем ещё юному матросу, державшегося всё это время чуть в стороне от остальных.
Когда в сарае, прекратились истошные женские крики, и пляска огня в щелях между досками стен, оттуда вынесли, два, будто уже неживых, растерзанных тела, и равнодушно, и безо всяких слов, одно за другим, сначала дочь, потом мать, бросили их в полынью. Двое тут же достали папиросы и принялись закуривать, чиркая гаснущими на ветру спичками.
- L’argent ne fait pas le bonneur…- прошептала синими губами Маргарита Павловна, в последний раз выдохнув в морозный воздух клубочек белого дыхания.
- Толкай, толкай их, Чуйков, под лёд, освобождай место для студентика…- держащие Василия матросы стали скручивать ему за спиной руки.
Василий, еле стоял на ногах, и едкие слёзы бессилия, сожаления, ненависти и отчаяния, вместе с ветром, будто лезвиями резали его глаза. Он уже не слышал сквозь стук своего сердца, как от полуказарм экипажа прибежал офицер в мичманской шинели, и от имени Кронштадтского большевистского комитета и депутатов 1-го пулеметного полк из Питера, потребовал прекратить самосуды, играющие на руку эсерам, октябристам и эсдекам, а также всем российским буржуазным газетам, которые только и ждут, чтобы очернить идеалы демократической республики и революции, и что в Крондштадте и так уже за несколько часов убито одних только адмиралов, генералов и старших офицеров человек пятьдесят, в три раза больше ранено, и пятьсот человек арестовано до начала революционного суда, и надо готовиться к войне с царистско-генеральской контрреволюцией, а не баб в полыньях топить. Минёры тогда неохотно согласились с мичманом из большевистского комитета и бросили Василия у самой полыньи со связанными руками на верную смерть от холода. После того, все ушли, и стихли их выкрики и угрозы, через некоторое время кто то вернулся. Это был юнга-минёр, который разрезал верёвки, накинул на плечи Василия чью-то пахнущую дымом солдатскую шинель, и сказал, что если буржуйчик хочет выжить,то он должен попробовать к утру дойти по льду до Ораниенбаума, до железнодорожной станции…
...Юнга-минёр… Юнга… Чуйков… Чуйков… Кронштадт… Вот откуда он помнит это лицо и голос…
- Эй, учитель, слышь, что я тебе толкую про пьесу «Фронт» товарища Корнейчука? Разморило, что ли от самогона?…- Виванюка, который уже несколько минут сидел неподвижно опершись локтями о стол и обхватив руками голову, вывел из оцепенения всё тот же солдат НКВД с газетой "Сталинградская правда" в руках.
- Владимирыч, ты что?- задышал ему в ухо луково-самогонным духом Прохор.
Виванюк поднял гудящую как колокол голову: в Курмояровском Аксае всё так же плескались мальчишки, брызгаясь искрящей на солнце водой, женщины всё так же стирали, за мостом шумела толпа беженцев, ржали кони, мычали коровы, высоко в ослепительно-синем небе кругами летал германский самолёт. Виванюк оглянулся в ту сторону, куда в сопровождении Михалыча и матери пропавшей Машеньки ушли трое красноармейцев, зачерпнул ковшиком воды из ведра, стоящего под столом, и сказал:
- Чего-то мне привиделось тут от жары… Будто в Сталинграде на сельхозвыставке ситро «Дюшес» пью за бесплатно…И вроде как деваха там была ваша, как её…
- Зойка то? – бывший охранник лагеря в Чекмен - Ногинске отложил, наконец газету.- Она кстати служащая - сержант госбезопасности, у вас, селян, до неё хвосты не доросли…
- Жалко так, что она из НКВД, а я хотел посвататься…- растянул рот до ушей в улыбке Прохор, и стал в задумчивости перебирать наваленные на столе разнообразные вещи изъятые, или поднесённые в качестве подарков «начальнику переправы». Ему больше всего нравились ворохи советских дензнаков, серебряная ладанка и роскошная, переливающаяся на солнце, всеми цветами радуги большая хрустальная ваза, которую он извлёк из грязной наволочки. Красно-сине-зеленые блики вазы играли на её непорочных боках, лились с прихотливо выточенных граней. Загаженный овцами, лошадьми и курами, заплеванный и заваленный объедками двор, запестрел множеством сказочных, солнечных зайчиков.
Из дома вышел по прежнему злой Джавахян.
На волосатом плече виднелись несколько пунцовых борозд.
Он, морщась тер их ладонью. Увидев играющий светом хрусталь, он сощурился, покачал головой:
- Эй, кхароший вэшч, таракая вэшч!
Прошка с умилением погладил прозрачные бока вазы:
- Чистые, как слеза ребенка или хорошего самогона.
Виванюк при этих словах чуть вздрогнул, словно вернулся к реальности, вытер рукавом слезящиеся от пыли глаза:
- Товарищ начальник, у одной женщины, вчера девочка пропала. Носилась, вроде туда-сюда по всему селу и его окрестностям и пропала.
Виванюк встал со скамьи, и, обойдя пышущую огнём жаровню, заглянул в окно магазинчика через неплотно задёрнутую занавеску.
В полутьме виднелся край матраса, уложенного прямо на пол, скомканное ситцевое покрывало, а на матрасе, вроде кто-то лежал, замотанный в большой белый платок.
Стоящий на подоконнике здоровенный цветочный горшок с тощими хлыстами какого-то комнатного растения не давал, как следует, разглядеть лежащую фигуру. В углу, на ящике, стояла рация, и красный от жары солдат монотонно бубнил что-то в микрофон, прижимая к щекам горячие резиновые наушники.
- Какая дэвочка, что ты мэлеэшь! Сколк лэт? – Джавахяну не понравилась странная заинтересованность своего добровольного помощника из этого села.
- Да это про ту девочку, слышь, Фрунзик, про которую генерал-лейтенант тебе говорил, пока ты фуражку искал…- усмехнулся бывший охранник лагеря.
- Двенадцать годков. - добавил Виванюк.- Может вы её где видели?
- Ты иё у нас высматриваэш? Двэнадцать лэт кому она нужна такая? В нэё ничэго и не влэзет! – Джавахян развёл руками.
- Кому надо, тот везде дырочку найдет… – сказал Прохор и осекся, натолкнувшись на расширяющиеся от притворного ужаса глаза Виванюка.
Неожиданно, Джевахян проворно бросился к Прохору, и, неловко задрав ногу, пнул босой пяткой его в живот, отчего Прохор повалился через лавку под стол:
- Так это ты, сука! Тут дэтэй воруэшь! Расстрэляю без суда, сволощь!
- Нет, нет, гражданин военный! Я ж просто так сказал, в принципе… Я что, я ничего, неужто мне взрослых баб не хватает? Вон их по дорогам пруд пруди. За банку тушенки готовы подметки лизать…- Прохор с ошалелыми от неожиданного нападения лейтенанта глазами, опасливо выглянул из-под стола.
Виванюк с нескрываемым любопытством наблюдал, на весьма странную реакцию лейтенанта на, в общем-то незначительное замечание сельского дурачка Прошки.
Джавахян метнулся по двору, ища на ком бы сорвать злобу.
Караульный, стоящий рядом с охраняемыми мужчинами у штабеля пустых ящиков, осторожно зашел за угол дома, чтобы не быть на виду у своего начальника, а сержант, до этого сидящий в теньке под масксетью, поспешно вернулся к шлагбауму. Бывший охранник лагеря в Чекмен- Ногинске снова взял газету, и сделал вид, что заинтересованное её читает.
Джавахян хотел было вытащить Прохора из под стола, но тот, улучив момент, по собачьи добрался до другого конца стола, вскочил на ноги и, со всего духа, дал дёру, через открытые настежь ворота, в сторону реки мимо грузовиков и броневика.
Джавахян вдруг обмяк, сел за стол, исподлобья посмотрел на Виванюка, и неожиданно тихо сказал:
- Никагда маленкый дэвошка или жэнщины нэ обыжу, хот застрэлы…Жэнщина это мать…Я эту дуру Зойку лублу так… А она мэня нэт…
- Эх, выпустил, бляха муха! – из-за машин попятился задом на свет бугай, в одних галифе. Он, приседая и кряхтя, как кавалерист, наносил удары в воздухе большим кухонным ножом вокруг чего-то белого, стремительно мелькающего между его ног, в котором не сразу можно было опознать обезглавленное куриного тельце…
Курица с отрубленной головой стремительно носилась кругами, натыкаясь на ноги бугая, на стену, на ножки стола, брызжа фонтаном ярко-красной крови.
- Эх, бляха муха. Ну ладно, много не набегает.– бугай утёр мокрый от пота лоб: - Ужас какая живучесть. Человеку пузо штыком, или пулей прошьют, и всё, считай - каюк. А эта птица без головы ещё носится, крыльями бьёт.
- Лейтенант, пустил бы ты людей горемычных сегодня через мост. Немец ведь наскочит, такое тут будет… – Виванюк кивнул в сторону моста.
- Паникеришко. Сталин подписал приказ. Ны шагу назад. Тэперь фронт будэт там, где есть. Понял? Слово коммуниста даю…Иды к своэму другу Прошке… Нэ нравитэсь вы мнэ оба…Правилно, Скрябин? – майор зло уставился в спину Виванюка который медленно повернувшись, пошёл в сторону бахчей и садов на западной окраине Пимен-Черни.
- Верно, Фрунзик. Пусть идут в батальон перед леском окопы копать. Всё равно, пока не откопают всё, пропускать не будем- ответил бывший охранник лагеря в Чекмен- Ногинске, любуясь на игру солнца в хрустальной вазе.- Но ты же, Фрунзик, беспартийный... Какое слово коммуниста?
-А ты мнэ что, комиссар? Э-э-э-э… - Джавахян собрался было натянуть сапоги, но в этот момент бугай, дождавшийся, наконец, когда безголовая курица, ударилась о ножку скамьи и упала без движения, поднял ладонь ко лбу, как солнцезащитный козырёк, и, пошарив глазами по горизонту сказал озадаченно, глядя в сторону дымов у Котельниково:
- Ох, ты! Самолёт кажись опять… Сюда, что ли?
- Во-о-оздух! Воздух! – крикнул кто-то из арестованных, различив, видимо знакомый уже ему характерный звук.
- Во-о-оздух!- истошно закричал кто-то из толпы перед мостом, и несколько рук показали пальцами на запад. Туда в одно мгновение устремились взгляды тысячи глаз.
Мощный, быстро нарастающий гул заглушил сначала треньканье медведки за магазином, потом шорох бегущей реки, потом голоса людей и животных, и материализовался в конце концов в виде расписанного крестами, цветными линиями и какими-то символами, блестящего, отполированного, немецкого истребителя Messerrschmitt Bf.109G.
Истребитель шёл вдоль реки, прямо на толпу у моста. Женщины, почти все одновременно прекратили стирать. Мальчишки вылезли из воды и похватали свою одежду. Калмыки, бросив торговаться, повскакивали в сёдла и стали пробираться на дорогу.
- В укрытиэ-э-э! – закричал Джавахян, схватил сапоги под мышку, и, чуть не сшибив с ног, выбегающего из-за стола Скрябина, побежал к пулеметному окопчику, попутно толкнув в спину детину с тушкой курицы в руках:
-Иван, чэго стоишь?
Иван кинулся в магазинчик. Выпустил на улицу водителя бронемашины, на ходу натягивающего гимнастёрку, и, уже после этого столкнулся в дверях с радистом. Матюгнулся, бросил нож и курицу на крыльцо, и толкнул радиста обратно в проем двери:
- Давай назад. Фашист летит!
- Сержант, уйди от шлагбаума, военных не увидит, мимо пройдёт…- Скрябин двинулся в след за лейтенантом и, спрыгнув к нему в окопчик пулемёта, уже надрывая голос, сквозь гул, прокричал часовому находящемуся рядом с задержанными у ящиков:
- И ты тоже там не отсвечивай! Скройся с глаз!
Джавахян стал сопя натягивать сапоги.
- Это, наверное, он по душу батальона, что там за леском окапывается, прилетел…- Скрябин сквозь прорезь пулемётного щитка посмотрел на мост.
Messerschmitt Bf.109G тем временем нырнул на высоту сотни, полутора сотни метров, качнул полосатыми крыльями и начал делать разворот над лесопосадками. Тем временем со стороны Котельниково, показался второй такой же Messerschmitt Bf.109 «Gustav» с характерными обтекателями пулемётов MG-131.
- Чего он нэ стрэляет там по батальону?- Джавахян наконец обулся, вытянул шею, всматриваясь в эволюции самолёта, который закончив разворот, прошёл над горящими с утра на пригорке тракторами, и стремительно пошел на Пимен-Черни. Когда до моста оставалось метров двести, истребитель чуть заметно клюнул носом, так, что ось его корпуса оказалась нацеленной в толпу, и тут же перед его крыльями и винтом возникли пульсирующие белые вспышки. Разрывные снаряды авиационной пушки и крупнокалиберных пулемётов, врезались в людей, лошадей, коров, повозки и скарб, как коса в высокую траву. Несколько секунд в рёве полуторатысячесильного мотора слышался только оглушительный грохот выстрелов, треск разрываемого дерева, и глухие удары, словно трамбовками уплотняли землю. Со стороны Пимен-Черни, как на ладони, было видно, как в метровых фонтанах пыли, искр, земли, травы, тряпок и щепок, словно фишки домино, падают люди и животные. Брызги крови, части тел, пух из перин, черепки посуды, летят навстречу друг другу и перемешиваются с облаком дыма и пыли. Истребитель за три секунды пролетел над мостом и уже начал закладывать вираж над крышами домов, чтобы развернуться для нового захода, когда опали эти страшные фонтаны. Вся тысяча, или полторы тысячи человек, спотыкаясь об упавших, неподвижных, или шевелящихся, завыла, закричала как единое раненое существо, и бросилось врассыпную. Именно в этот момент, второй Messerschmitt Bf.109G быстро снизился до высоты бреющего полёта, и с дистанции метров в триста, открыл огонь вдоль берега, на котором, открыв рты и глаза от ужаса, всё еще с мокрыми от стирки вещами в руках, стояли десятки женщин. И опять, как будто гигантская стальная коса ударила по женщинам и детям. Только на берегу у воды было меньше пыли, и было лучше видно, как падали крестьянки, в тяжёлых юбках, и горожанки, в кофточках и пиджачках с рюшами и воланами, как летели во все стороны клоки шёлка, жоржета, всех цветов радуги, вперемешку с клочьями травы и сгустками разорванной плоти, буро-красные, как заросли ракитника на берегу. Вторая коса второго истребителя прошла поперёк моста, по людям бегущим прочь вдоль берега по другую сторону от него, и коротко ударив по бесхозным коровам и овцам в полукилометре от места побоища, пошла на разворот. Когда рёв винтов чуть удалился, стали слышны нечеловеческие крики, стоны, вопли, мольбы сотен голосов. Ревели коровы, ржали лошади, пронзительно кричали грудные дети.
- Они стреляют! Они стреляют в беженцев! - из-за угла магазинчика, размахивая руками и расширив от ужаса глаза, к пулемётному окопчику выбежал Прошка.
Он встал над Джавахяном и Свиридовым, и, тыча обоими указательными пальцами в мост, запричитал:
- Там нет военных, они стреляют в женщин и стариков… Отгоните их! У вас броневик и пулемёт! Сбейте их, гадов! – Прохор продолжал тыкать пальцами в сторону моста.
Джавахян и Свиридов даже не отреагировали на его стремительное появление, остолбенев от того, что происходило перед их глазами всего в каких-то полусотне шагов: женщины с детьми на руках, мужчины с раненными в обнимку, старики поддерживающие друг друга, калмыки попадавшие из сёдел, девочки в кукольных платьицах, метались на пятачке перед мостом, сталкивались, падали, спотыкались, наступали на мёртвых и живых. Кто-то ещё пытался тянуть под уздцы лошадей, чтобы вывести из этого места на телеге своё барахло, кто-то ещё пытался направить обезумевшую корову-кормилицу в заросли, кто-то ещё пытался, подняв руки взывать к взаимопомощи и показывать кратчайшие пути отступления, когда первый Messerschmitt Bf.109G закончил разворот и снова открыл огонь вдоль моста.
Всё повторилось снова. И пыль, и щепки, и клочья тел. Несколько возов задымили, а старенький рыжий грузовичок АМО вспыхнул, и загорелся.
- Почему они обстреливают не батальон за рекой, а мирных людей? Я же этого гада-лётчика фашистского в его очках в кабине «Мессера» как тебя вижу, Фрунзик. Видно же ему, гаду, что тут бабы в платках, да тюки подушек с матрасами…- лицо Скрябина словно постарело сразу лет на десять. Он ударил ладонью по щёчке пулемёта «Максим»:
-Эх! Был бы ты на треноге, а не на станке, «Максимка»… А так в тебе четыре пуда веса без воды. Одна коробка с лентой под пуд весит…
-Мамат куным! Фашист! Э-э!- Джавахян потряс сжатыми кулаками в воздухе. Глаза его бешено сверкали:
- Там дэти! Дэти!
Как раз в этот момент, сбросив на мостовой настил раскрашенную жердь, обозначающую шлагбаум, с моста в начало улицы вырвался поток людей, впереди которого бежал старик Меркулов. Через его плечё был перекинут всё тот же вышитый петухами рушник, который так и не был подарен «начальнику переправы», в одной руке - огромный жёлтый чемодан, в другой руке - маленькая кареглазая девочка, всё время глядящая вверх. Обгоняя их, стоя на телеге с качающейся пирамидой незамысловатого крестьянского скарба, с криком «Геть! Геть! Геть! Геть, мертвые!», и безжалостно стегая кнутом по двум лошадиным спинам, на дорогу вырвался мужик в застиранной рубахе. На телеге, обняв добро, сидела испуганная, дородной женщиной в опрятной юбке, и ситцевой кофте. Цепляясь за её кофту, подпрыгивали на ухабах комочки двух девочек четырёх, может пяти лет, одна из которых, с огромными голубыми глазами, та, что звонко кричала на реке, что больше всего на свете боится крапивы, теперь ревела от страха, чувствуя через горячую ткань материной кофты мелкую дрожь её отчаяния. В ручонке у неё болталась небольшая, страшненькая тряпичная кукла.
Разрывные 20-мм снаряды, и 13-мм крупнокалиберные пули, как железные молнии, врезался в повозку. В одно мгновение на дорогу упало тельце ребенка, за ним прыгнула мать, и сделав шаг к маленькому тельцу, упала сама. Во второе мгновение прошиваемая пулями насквозь, и разрываемая ими на куски повозка накренилась: правая лошадь, путаясь и разрывая сбрую, повалилась через голову, дергая перебитыми ногами, а вторая вздыбилась, будто заарканенная и упала хребтом на переворачивающуюся телегу. Возницу накрыло этой кучей из лошадиных тел и тюков, из которой, от разрывов пуль летели в разные стороны вместе с клоками земли щепки, ремешки и сгустки крови. И только крохотная фигурка второй маленькой девочки, той, что больше всего на свете боялась крапивы, была, кажется ещё невредимой. Она упала на живот около тел сестры и матери, и тянулась, как к спасению за своей тряпичной куклой. Бьющие и чавкающие вокруг по земле пули, будто не смели коснуться её...
- Ты здэсь, я сэйчас!…- крикнул Свиридову в ухо Джавахян, и, как на пружинах, выскочил из окопчика, из под маскировочной сети. Задохнувшись от обжигающей внутренности горячей пыли, он схватил невесомое тело девочки и едва различив сквозь пелену по другую сторону повозки старика Меркулова, вернее то, что осталось от него и маленькой кареглазой девочки, после попадания разрывного снаряда, бросился назад.
- На, Прошка. Иды в дом!- он переложил дрожащее тельце ребёнка на ладони Прохора, снова спрыгнул в окоп, и резко повернулся на крик часового, охранявшего арестованных:
- Стой! Стрелять буду!
Почти неслышный в ревё моторов истребителей и грохоте их пулемётно-пушечных очередей, щёлкнул выстрел из винтовки.
Двое из задержанных, сжимая в руках свои кепки бежали, пригнувшись, в сторону яблоневого сада напротив магазина. Судя по положению ствола винтовки часового, его выстрел был предупредительным в воздух.
- Стреляй, уйдут! Чёрт тебя татарский рази, Касымов! На поражение стреляй, а то под шумок все эти враги народа у тебя дёру дадут! – Скрябин рывком поднял на уровень груди автомат ППД и дал длинную очередь в спины бегущим. Один из них упал сразу, словно железная пылебойка ударила по его спине, как по ковру. Кепка отлетела на несколько шагов. Второй беглец, сделал ещё несколько шагов, и повис на жерди садовой ограды. Остальные задержанные, начавшие уже было привставать и потихоньку пододвигаться к углу магазина, застыли на месте, боязливо косясь на пулемётный окоп.
Тем временем на мосту и на пригорке за ним, уже никого не было. Только разбитые, развороченные телеги и грузовики, лежащие вповалку друг на друге люди и лошади. Некоторые из них шевелились. Кто-то из уцелевших поднял голову и начал осматриваться. Больше никто не кричал. Только слышались человеческие стоны, и храп умирающих лошадей. Вокруг, вправо и влево, наверное метрах в ста от моста, вдоль берега Курмояровского Аксая, среди зарослей и на бахчах, пестрели кофтами и рубахами, платками и кепками, спины и головы разбегающихся беженцев. Уцелевшие повозки оставались сами по себе, коровы и козы стояли, или двигались сами по себе. В сторону горящих комбайнов и тракторов медленно брёл каурый жеребец, таща за собой застрявшего ногой в стремени, человека в калмыцком халате.
Немецкие истребители Messerschmitt Bf.109G, блестя полированными, расписанными знаками и крестами фюзеляжами и крыльями, прошли ещё раз над этим побоищем. Было видно, как двигаются головы пилотов, изучающих обстановку внизу. Затем, видимо удовлетворённые результатом охоты, они сделали разворот в сторону дымов над Котельниково и стали быстро набирать высоту, пока не превратились в две чёрных точки на фоне безоблачного выцветшего неба.
- Всё. Гады.- Джавахян посмотрел сквозь зелёно-серые тряпицы маскировочной сети вверх. Заметив несколько орлов – курганников, летающих кругами над Пимен-Черни, он облокотился на глинистый край окопа и уткнув в сгиб локтя мокрое от пота лицо, зарыдал.
- Ну, Фрунзик… Ты ж кавалерист, дашнаков шашкой рубил… Ну а ты чего тут встал, рот раззявил, дерёвня!- Скрабин махнул стволом ещё тёплого автомата на Прохора: - Девчёнку в дом. Зойке отдай. А сам дуй за своим Михалычем. Зови сюда, пусть поднимает всё село и сюда ведёт. Именем Советской власти. Вишь, сколько людей надо хоронить, или по домам разобрать раненых. Понял? Давай… А ты, Касымов, чёрт косой, давай этих задержанных на мост. Разгребать, кто живой, кто мёртвый. Поскольку они ещё не допрошенные, то тот, кто бежит, значит вину свою знает, значит враг, значит стреляй без предупреждения! Всё, пошли, тунеядцы, Родине служить!
- Дэтей жалко…- Джавахян распрямился, утёр красные глаза ладонями.- Этот фашист, звэрь совсэм. Он суда подходит, чтобы всэх нас тут убить… Он в батальон нэ стрелял, он в дэтэй стрелял, падло гэрманская!
Глава 7
Натиск на Восток
«Хеншель» Hs 126B-1, жужжа, как огромный шмель, мягко плюхнулся на резину своих шасси, и, попрыгав на кочках, остановился в сотне метров от группы штабных машин с нанесёнными на их крылья и борта, латинскими буквами «Н», а также флажками с чёрно - белыми квадратами, обозначающей принадлежность к командованию 4-й танковой армии. За этой группой из полутора десятков легковых машин, автобусов и грузовиков, голые по пояс сапёры спешно разворачивали и устанавливали серо-зелёные штабные палатки, а связисты монтировали стойки радиоантенн.
На одной из легковых штабных машин, а именно на Horch 830 BL Pullman Cabriolet, кроме всего прочего был прикреплён треугольный генеральский вымпел. К этой машине и побежал, на ходу меняя лётный шлем на фуражку, и прижимая к себе локтём пухлую бумажную папку, лейтенант в щёгольской тёмно-синей выходной форме Люфтваффе.
- Он бы ещё аксельбанты надел тут. На фоне нашего нечеловеческого напряжения, это выглядит не приемлемо - спокойным, флегматичным голосом сказал пожилой, худощавый и маленький, седой человек в кителе с орденом "Рыцарского креста с дубовыми листьям", орденскими ленточками, с красными петлицами и витыми погонами генерал-полковника, который сидел на заднем сидении Horch 830 BL. После этот он неопределённо махнул ладонью, жестом, похожим на приветствие «Heil Hitler», и приветствие Вермахта одновременно, видимо отсылая собеседника к бесконечному потоку, двигающемуся за его спиной на северо-восток, и состоящему из разномастных грузовиков, специальных машин, начиная с громадных полугусеничных ремонтно-эвакуационных тягачей Sd Kfz 9/4 с краном, и танковозов Бюссинг-НАГ 900, заканчивая малюсенькими легковыми Kfz 1 «Kubelwagen», и броневичками связи Kf14, которые все вместе, урча и завывая моторами, волокли разнообразные пушки, легкосборные понтоны, полевые кухни, промышленно изготовленные и самодельные прицепы, на которых, как казалось, больше всего было 200-литровых бочек с эрзац – бензином, канистр с водой, ящиков и корзин с боеприпасами. Малочисленные цепочки изнурённых пехотинцев, бредущих гуськом по обочине, с завистью поглядывали на своих моторизированных коллег, восседающих в гробоподобных бронетранспортёрах Hanomag Sd.Kfz 251, грузовиках, и бесчисленных мотоциклах. Отдельные группы всадников и конных повозок, одиноко смотрелись на фоне этой моторизированного, сигналящего, дымящего и ревущего потока. В степи, по другую сторону железнодорожной насыпи, поодаль от всей этой суеты, понуро брели, едва переставляя копытами, конные упряжки.
Сидящий рядом с ним, на заднем сидении Horch 830 BL, генерал-лейтенант, с круглым, одутловатым лицом, постукивая пальцами, по бортику дверцы, поспешно согласился:
- Странно. Согласен. Из-за его ярких цветных петлиц можно подумать издалека, что это генерал. Интересно, по какому случаю в ведомстве Рихтгофена праздник.
- У них всегда праздник. Кофе попил, взлетел, на пароходы на Волге вывалил бомбы нажатием кнопки, сел, выпил кофе и пообедал. Потом взлетел, вывалил бомбы на что-то такое внизу, что было карте нанесено, сел, выпил вина, лёг спать. Потом получил жалование и премии, потом отпуск, потом награждение в Берлине, фото в «Беобахтер», и так далее…- генерал-полковник, улыбнулся какой-то змеиной улыбкой, и костистыми пальцами потрогал кончик длинного изогнутого носа: - Я вчера с фон Рихтгофеном разговаривал по телефону. Мне было интересно, чем занимается его воздушная стая. И где его офицер, прикомандированный к моему штабу, который уехал в отпуск, а вместо себя никого не прислал. Так вот: у фон Рихтгофена в 4-м Воздушном флоте сейчас все восемь бомбардировочных групп бомбят танкеры и параходы на Волге, железнодорожные станции за линией фронта и за линией Волги, три штурмовые группы заняты тылам русских войск перед фронтом 6-й армиией Паулюса, четыре эскадрильи поддерживают румын и итальянцев, и где-то пятая часть всех машин ведет ближнюю и дальнюю разведку, вплоть до Астрахани и Горького, ну, а истребители занимаются своим обычным делом, охотой. Наскочил и удрал. Если бы не нужно было немецкой пехоте втыкать флаг со свастикой в центре Сталинграда, то после работы фон Рихтгофена, русские через несколько месяцев ушли бы сами, за Урал, потому, что под крыльями этих ветеранов множества блестящих операций в Европе, остаётся, обычно, только выжженная земля, как в прериях североамериканских индейцев, после вторжения кавалерии Соединённых Штатов. Я не очень понимаю, почему они до сих пор не стёрли в порошок Сталинград как город, который до сих пор танки на тракторном заводе выпускает. Т-34, между прочим, и со всей Кубани переправляет на тот берег оборудование и материалы... Куда смотрит Гальдер и Кейтель? А это вечное хвастовство пилотов? Один любимчик фон Рихтгофена, этот Ганс Рудель чего стоит. Парню 25 лет. Аэроклуб и соревнования по горным лыжам, а уже Рыцарский крест у него на шее. А, ведь, когда он из мамы только вылез, я уже и кадетский корпус окончил, и военную академию, вперемешку с пребыванием в войсках. С 1914 в Генштабе, и, даже, в штабе военно-воздушных сил побывал, пока, Его Величество Кайзер, не отправили меня, наконец, настоящим делом заниматься в штаб 30-й пехотной дивизии. Так что, и фон Рихтгофена и Геринга я ещё тогда знал. Это ж столько хвастовства и позёрства. Так что этот лейтенант Люфтваффе в парадной рубашке с галстуком посреди смертельной борьбы, это в духе наших авиаторов. Вот так, дорогой мой Фридрих.
- Я думаю, господин генерал-лейтенант, что будь начальник штаба Верховного Главнокомандования Вермахта Вильгельм Кейтель, и его коллега из Главного командования сухопутных сил Франц Гальдер, так же близки к Адольфу Гитлеру по партийной дружбе, как и Герман Геринг, то и наши танкисты ходили бы здесь в парадных беретах, а не считали каждое ведро бензина утром и вечером. – согласился генерал-лейтенант.
- Но, клянусь своей военной удачей, если честно, этот надменный генерал-полковник фон Рихтгофен, несмотря на мой скепсис по отношению к браваде авиаторов, это легенда нашей армии. Во-первых, он двоюродный брат героя Великой войны на Западе - "Красного барона". Во-вторых, он в своём легионе "Кондор" придумал "ковровое бомбометание" и устрашил коммунистов, сравняв в 1937 году Гернику с землей. В апреле прошлого года он своего корпуса уничтожил 20 000 жителей Белграда, чем вывел Югославию из войны и сэкономил тысячи жизней германских солдат, а потом, через месяц полностью обеспечил победу десанта на Крите.
- Да, да. Конечно. Фон Рихтгофен известный эксперт. Он может рассчитывать на комплименты. Однако практика заводить любимчиков, это не тот путь, который приводит к победе Германское оружие. Это расслабляет.– закивал головой генерал-лейтенант, подражая бесстрастной интонации собеседника, и с интересом наблюдая, как в пяти метрах от машины командующего 4-й танковой армией, лейтенант Люфтваффе переходит на чёткий строевой шаг, и, ловко зажав под мышкой вместе с папкой бумаг свой лётный шлем, вместе со щелчком смыкаемых каблуков при последнем шаге, поднимает правую руку в нацистском приветствии:
- Да здравствует победа!- на вид ему было лет двадцать, этому лейтенанту, но на его загорелом лице уже были видны следы морщин, особенно вокруг глаз: - Данные фоторазведки для командующего 4-й танковой армией группы армий «Б», генерал-полковника Германа Гота!
После этого лейтенант резко выхватил из подмышки папку с крупными фотоснимками и протянул генерал-полковнику, который в ответ на приветствие слегка прикоснулся пальцами к пилотке.
- Мы это Фридриху Фандору, как начальнику штаба армии, сразу и отдадим. Пусть глаза себе ломает. Не возражаете, лейтенант?- Гот не глядя передал снимки сидящему рядом генерал-лейтенанту: - А что у вас, лейтенант, за праздник, почему вы в парадном кителе?
- У меня день рождение, господин генерал – полковник. Двадцать два года.
- Похвально. Откуда сами?
- Шпремберг, что в районе Шпре-Найсе, земля Бранденбург, господин командующий.
- А, так значит мы с вами земляки... Я ведь тоже восточный немец из земли Бранденбург, из Нойруппин, из района Пригниц. Были в Нойруппине?- Гот прикрыл веки глаз, и непроницаемое лицо его сделалось на секунду мечтательным, однако он тут же открыл глаза: - И как вы там с сербами этими уживаетесь в своём Шпре-Найсе? Там же у вас не так давно ещё все таблички были на двух языках. На немецком и на сербском. Ужас какой. И этих славян в самом Рейхе приходится терпеть. Мне говорили, какие то, не помню, наши земляки, что этих сербов из Бранденбурга, призвали в Вермахт, толи в 10-й пехотный, толи в 12-й уланский полк, который действовал в прошлом году под Белостоком. Они, вероятно, все сразу перебежали к своим русским.
Лейтенант, собиравшийся уже просить разрешения вернуться к самолёту, озадаченно уставился на командующего и начальника его штаб:
- Так точно, господин генерал-полковник. Я был в Нойруппин проездом. Там ещё красивый железнодорожный мост через озеро Руппинер, и речка Ланке.- У нас уже не говорят «серб», господин командующий. У нас говорят «ословяненый немец». Я Отто, а брата зовут Эрвин. Фамилия Штриттматтер:- стало видно, что офицер крепко сжал челюсти: - Я сам то, не серб. Но serbska rеc знаю не плохо. Нужно знать язык своего врага и его повадки, чтобы успешно с ним бороться. Все эти славянские и еврейские ублюдки постоянно организуют в нашем тылу мятежи. Они в свое время нанесли очень много вреда в Германии. Творили изменнические дела против немецкого народа и его культуры, а сейчас помогают всем антинемецким силам мира. Они действуют скрыто, тайно, и жаждут мести. Поэтому их следует душить в зародыше.
- Правильно вы всё понимаете, лейтенант.- Гот покосился на снимки местности в районе станции Котельниково и к востоку от неё, которые рассматривал начальник его штаба: - Любой германский солдат, сухопутных войск, Люфтваффе, Кригсмарине, должен быть не только бойцом в рамках обычных правил военных действий, но и быть основой безжалостной расовой идеологии. Любой германский солдат, это прежде всего мститель. Мститель за все эти ужасные злодеяния, которые были причинены германскому народу и всем этнически родственным германскому народу нациям на протяжении жизни множества поколений. Наш исторический долг освободить германский народ от азиатско – славянско - еврейской угрозы раз и навсегда. Идёт жестокая борьба непримиримых философий. С одной стороны наше светлое германское чувство расы, чувство чести, а с другой стороны тёмный азиатский способ мышления, азиатские, примитивные инстинкты. Наша миссия, это спасения европейской культуры от нашествия азиатского варварства… Хотя... Представляю себе, если бы Адольф Гитлер выучил язык Сталина. Может быть, тогда, Фюрер, конечно, лучше понял бы Сталина, но вряд ли от этого стал бы умнее в вопросах войны. - Гот опять закрыл глаза, и вслушался, как в симфонию, в гул и рёв многочисленных двигателей за своей спиной, металлический лязг сцепок и гусениц.- А кто у вас там, кстати, погодой занимается?
- Последнее время метеорологией в основном занимается эскадрилья «Векуста» на Ju-88 D-4.
- Тогда, сынок, передайте командиру эскадрильи «Векуста», а заодно и командиру вашего 8-го авиакорпуса генералу Фибигу, что «Папа Гот» не доволен их работой. Они мне прислали на 25 июля прогноз про солнце, а три дня ливень лил стеной, и мои войска буксовали у Цимлянской и Красного Яра вокруг переправы, а каждая расщелина в степи превратилась в бурунный поток. В результате я сжёг горючего вдвое выше нормы, изнурил людей, и остался на том же месте, что и был. Знал бы, лучше остался ждать румынскую пехоту. И что, лейтенант, наверное уже завели тут себе русскую пассию? Женщины тут весьма привлекательны, как из-за красоты, так и из-за лёгкой доступности. Особенно, если ни них посильнее надавить…
- Никак нет. У меня невеста в Бремене.
- Хорошо, что не из наших Нойруппинских сербов.
- Её зовут Магда, господин генерал-полковник.
- Хорошо. Идите, лейтенант, вы свободны.
Затем командующий, приподняв руку к пилотке в ответ на завершающее приветствие «Да здравствует победа!» полуобернулся, и, как бы обращаясь к Фандору, а заодно и к офицерам штаба, стоящим около своих машин в нескольких метрах от него, пустился в пространный монолог:
- Какие солдаты есть у Германии. Молодые, сильные, целеустремлённые. Но вот только бы ещё нашему Фюреру, прежде чем начинать войну с большевиками, позаниматься бы своим главным делом, делом политического вождя, а не учить профессионалов, как проводить военные операции. А то операции то с блеском проводятся, и армии русских гибнут сначала в котлах, а потом как людоеды съедают друг друга в концентрационных лагерях, а толку особенного нет. Он бы хотя бы объяснил нам, Вермахту, в чём, собственно говоря, будет заключаться победа над Сталиным и его большевистской Россией. Это что будет - захват Москвы? Но правительство большевиков уже задолго до подхода к обороне города, заранее эвакуировалось в специально оборудованный для управления страной город Куйбышев. А это значило, что сопротивление всё равно бы было продолжено. Хорошо. А может победа в этой войне по замыслу Фюрера это уничтожение всей Красной Армии? Но это не возможно – уничтожить всю Красную Армию. У Советов после гибели в прошлом году всей их кадровой армии в запасе ещё миллионов десять мужчин. Всё захваченное в прошлом году и уничтоженное вооружение, и военные материалы уже восполнены и в лучшем качестве, и в большем количестве. Вместо уничтоженного лёгкого танка БТ-7 перед нами оказывается новенький средний Т-З4. Вместо сбитого старого истребителя И-16 «Рата», перед нами оказывается совсем не плохой ЛаГГ-3. Вместо уничтоженных дивизии из литовцев и украинцев, перед нами оказывается дивизии из Сибири и с Дальнего Востока. Ладно. А может быть, фюрер решил победить в войне, уничтожив экономическую базу врага? Тогда зачем было тратить усилия на Москву в прошлом году, вместо того, чтобы уже в прошлом году, а не в этом, захватить Донбасс с его углём, и Кавказ, с его нефтью. А теперь что, когда Вермахт после прошлого года стал слабее на треть, и может наступать только на одном из участков огромного фронта, а не везде, не по всему фронту как в 1941 году? Ну, хорошо, Донбасс, Кавказ, ну, Сталинград. А дальше? Если мы сейчас уже по всей Германии снимаем колокола и выкапываем кабель, чтобы передать промышленности нужное количество меди, то, что будет в 1943, 44, 45, 46 году? А ведь от Сталинграда нужно ещё взять Урал. Там делают 50% всех вооружений и военных материалов. А это ещё 1000 километров в непрерывных сражениях. А за Уралом есть ещё Свердловск в Сибири, где большевики делают 30% всех вооружений и военных материалов. Это ещё 1000 километров. То есть уничтожить военную промышленность Сталина тоже не возможно. Может быть, была идея, пользуясь максимальным успехом в 1941 году, пригласить Сталина на переговоры? Я уверен, что после окружения войск Тимошенко под Вязьмой, когда путь на Москву ещё не был прикрыт резервами большевиков, Сталин мог пойти на переговоры с необходимыми для Германии уступками территории. Но тогда зачем было убивать в наших лагерях миллион пленных, озлобляя таким образом, войска врага, и всё его население, и потом продолжать проводить операцию «Тайфун», в то время когда расчётного количества войск, топлива, боеприпасов для окружения Москвы, или штурма города было уже недостаточно? А это значит, уступчивость, готовность к переговорам, да и сами переговоры о мире со Сталиным, который почувствовал слабость Германии, уже не могли начаться. Тогда что? Что же тогда является целью этой войны, без которой наш великий Мольтке не мыслил ни планирование военных наступательных операций, типа «Барбаросса», или «Голубизна», ни планирование производства количества и типов вооружений, ни организацию мобилизационного ресурса страны. В «Барбароссе» есть туманная линия Архангельск – Астрахань, которую надо достичь. Хорошо. Достигли бы. А что дальше, Фюрер не сказал. Там начиналась политическая сфера, а как в ней действовать он не знает. Хотел, видимо, начать, а там, как дело пойдёт. Но ведь война – не туристический маршрут. Если армия противника не уничтожена, и не может быть уничтожена, если его промышленность не уничтожена, и на не может быть уничтожена, то тогда вообще, зачем нужно было Фюреру начинать эту войну? Только из соображений истребить несколько миллионов советских евреев? Итак, господа студенты, тут мы с вами приходим к следующему заключению, что, несмотря на все наши победы, нельзя предотвратить восстановления восточных полчищ Сталина. Отсюда есть только один правильный вывод; не гнаться за экономическими целями, не стараться прикончить змею, прикончить которую невозможно. Нужно настолько ослабить эту русскую, Сталинскую гидру, чтобы её повелитель вынужден был пойти на переговоры о мире. Русские должны захлебнуться в собственной крови, как на своей территории, так и в том случае, если, не дай бог, они подойдут к линии своей старой границе. К этому моменту у них в армии должны остаться только дети и глубокие старики, а в тылу одни калеки и старухи. Их сегодняшний уровень потерь в десять их солдат за одного германского, недостаточен. Мы должны воевать так, чтобы за одного германского солдаты русские отдавали бы по двадцать своих солдат. Тогда, колосс, истечёт кровью, и будет просить мира на любых условиях, как в 1918 году его просил большевистский вождь Ленин. Тогда большевики трусливо отдали всё, что мы просили, и хотели отдать ещё столько же. Так будет и на этот раз. А Фюрер что же? А Фюрер, господа студенты, вместо того, чтобы дать Вермахту такую кристально ясную основу для стратегии в войне, занят оперативными планами, не входящими в его компетенцию. Например, где какую дивизию разместить, и в каком направлении двигаться тому, или иному танковому полку. Всё. Ладно. Довольно. На сегодня лекция окончена. Кто не записал, на экзамен не приходите!
Герман Гот прервав свой монолог, сначала хрипло засмеялся, а потом, скользнув взглядом по застывшим в почтительном внимании лицам офицеров штаба своей армии, закрыл в руках Фондора папу с фотографиями, как бы показывая этим, что ничего неожиданного, и ничего кроме бегущих остатков 51-й армии русских на фотографиях теперь не увидеть. Когда он, открыв дверь Horch 830 BL, вылез из этого чёрного полированного, но покрытой густой пылью, произведения автомобильного искусства, стало видно, насколько он был мал ростом: выскочивший помочь ему выйти из машины, ефрейтор-водитель, был на две головы выше своего важного седока. Гот звонко хлопнул по своей ладони тонкими чёрными кожаными перчатками, взятыми с сидения автомобиля, и, покачиваясь с носка на каблук, разминая затёкшие ноги, сказал уже тихо, наблюдая, как лейтенант Штриттматтер, ловко взбирается в кабину «Хеншель» Hs 126B-1, и как после этого самолёт начинает свой разбег.
- Лети, герой Германии, и пусть для тебя слава Германии будет дороже собственной жизни. Твой парадный вид, соответствует твоим великим мыслям, сынок…
Пока командующий любовался на быстрый разбег и стремительный взлёт самолёта-разведчика, начальник его штаба тоже вылез из машины и, сделав несколько шагов, оказался в окружении нескольких офицеров штаба 4-й танковой армии, один из которых, высокий подполковник, одной рукой тут же протянул Фондору пачку исписанных бланков по жёстком планшете, а другой рукой подал толстую чернильную ручку, и быстро проговорил:
- Господин генерал-лейтенант, это приказ по армии по очерёдности следования подразделений к рубежу на 3.08.42, очерёдность получения горючего, распределение пополнения людей и техники, с подробными указаниями квартирмейстеру, Начальнику отдела личного состава, Начальнику автотранспортной службы, и Начальнику административной службы, а также Начальнику медицинской службы.
Фондор, сняв с ручки колпачок, принялся подписывать листы, предварительно пробегая их глазами. Стоящие тут же у штабного автомобиля «Horch-901» Kfz.15, майор и два обер-лейтенанта, негромко обменивались мнениями относительно только что сказанного «Папой Готом».
- Руководство Рейха совершенно правильно делает, что пристально заботится о продовольственном снабжении населения Германии. Простые немцы ощущают, что это распределение справедливое. Повышенные нормы выдачи возможны только при тяжелой работе или в связи заболеванием, или ранением. Семьи солдат, призванных в Вермахт, получают 85% от заработка кормильца до его призыва, при этом, что у американцев и у «Томми», это содержание не более 50%, а у русских его вообще нет. С учетом жалованья и довольствия солдат, немцы живут во время этой войны лучше, чем до неё. А сюда если прибавить ещё те посылки, тюки и чемоданы, которые наши солдаты имеют разрешение посылать и везти домой из всех уголков мира, отправляясь в отпуска…- щурясь на солнце, сказал один из обер–лейтенантов, прижимая к бедру пухлый коричневый портфель с бумагами.
- Да, да, Зигмунд, конечно. Это вселяет уверенность и вызывает оптимизм масс. Тут, ведь ещё, как говорит Зельдте, наш однорукий министр труда, и рейсляйтер Германского трудового фронта Леем, да ещё рейхсляйтер Имперской рабочей службы Хирль, сейчас75% немецких налогов платят предприятия и получатели высоких доходов, а рабочие, служащие и чиновники дают всего лишь 25% из всех налогов. Сельские германские труженики имеют массу льгот. И даже пенсии в 1941 году были повышены на 40%. Вожди нашего Рейха обеспечивают нам, немцам, невиданное раньше благосостояние. Они дают равенство всех немцев в одной огромной национальной семье, как по части предпринимательства, так и по части возможности любому человеку занять любой пост в Рейхе. А будет, ведь, ещё лучше, если мы победим большевиков. - второй обер–лейтенант, многозначительно покрутил ладонью в воздухе, сверкая на солнце стальным ободком наручных часов с чёрным циферблатом.
- Да, да, господа.- закивал головой майор, снимая пилотку и утирая высокий лоб пятнистым от грязи, но когда то белоснежным носовым платком: - Герберт Баке, тот, что министр продовольствия, по радио сказал позавчера, что по "Генеральному поселенческому плану Восток", из западной части России, в Сибирь будет вывезено 50 миллионов славян, на место которых будут размещены 800 тысяч Германских сельских хозяйств, более 5 миллионов колонистов. Вот это впечатляющие планы. Он так и сказал: наш Фюрер, мечтает переселить наши бедные рабочие семьи из Тюрингии и Рудных гор на плодородные пространства на Востоке.
Мимо них, от большой палатки санитарного образца, в сторону Гота, быстро прошёл низенький пожилой ефрейтор, денщик командующего, в расстегнутом кителе и с перекинутым через плечё серым полотенцем.
- О! Генерал-полковнику, видимо, готов ужин, господа.- тихонько заметил собеседникам обер-лейтенант с коричневым портфелем
- Думаю, совещания по задачам сегодня не будет. Предлагаю дойти до моего автобуса. Мой денщик держит маленькое походное кафе вскладчину с поваром нашего Начальника службы священников. Кофе и выпечка изумительные и совсем не дорого. Так что выпьем кофе с коньяком и Зигмунд расскажет, как обещал, свои впечатления от шикарных и бесплатных женщинах Ростова-на-Дону. И о своём сногсшибательном и многогранном опыте на этом поприще…- майор осклабился, обнажив мелкие жёлтые зубы: - А потом, когда пионеры закончат возиться с устройством палатки, можно будет дождаться прохладной ночи, и начать, так же как и другие отделы, оперативную работу.
Герман Гот, тем временем, закончив наблюдение за эволюциями самолёта-разведчика Hs 126B-1, медленно исчезающего на северо-западе, приложив ладонь ко лбу, чтобы прикрыть глаза от низкого уже солнца, осматривал линию горизонта с видом бывалого капитана корабля. Складки окружающей степи, неровности холмов и курганов, похожие на очень-очень медленные, застывшие океанические волны, несколько далёких темных пятен островков населённых пунктов, только усиливали это иллюзорное впечатление. Кроме того, из-за высокого, ослепительно синего купола неба, в котором, правда, по сравнению с утренними часами, появились уже разрозненные, высокие слоистые облака, вокруг было гораздо больше именно синего цвета, цвета моря, и его было намного больше, чем зелено-жёлтого цвета степи. Правда, за спиной Гота, от края до края поднималась стена пыли от бесчисленных колес и гусеничных траков машин его армии, передовые быстрые части которой были уже в Котельниково, а тылы и крупнокалиберная артиллерия, все ещё ста километрах позади, на переправе через Дон у Цимлянской. Ещё дальше, в ста километрах на северо-восток от горящего Котельниково, над мистической линией огромной реки посреди бесконечной, пустынной равнины, над Волгой, стояла чёрная дымка пылающих нефтеналивных судов у Сталинграда. Кивнув на сообщение своего денщика о том, что ужин готов, Гот стремительными, бодрыми шагами, никак не ожидаемыми от человека столь почтенного возраста в такую адскую жару, направился сквозь группу штабных офицеров, к своей палатке. Около генерал-лейтенанта Фондора и Начальника оперативного отдела, командующий остановился:
- Сложности есть?
Пока полковник соображал, что ему сделать, то ли продолжить держать планшет, на котором начальник штаба 4-й танковой армии всё еще просматривал и подписывал документы, или попытаться, согласно уставу, как положено, приветствовать командующего, Фондор быстро ответил:
- Тут школьные задачи по математике решаем с коллегой. Эти танковые карбюраторные двигатели Майбах HL 120, при движении по шоссе потребляют от 400 до 500 литров топлива на 100 километров марша при бензине с октановым числом 74. По пересеченной местности уже до 800 литров. Это расход 8 литров на 1 километр. С учётом того, что необходимо иметь для танков 36-го танкового полка 14-й танковой дивизии находящихся у Котельниково не менее двух с половиной норм расхода, то до завтрашнего утра туда нужно доставить три трёхтонных грузовика, в которых должно быть по одиннадцать 200-литровых бочек, или 110 канистр ёмкостью по 20 литров. В ближайшие двое суток это топливо нам можно будет взять только у какого-то из наших марширующих подразделений. А вот у кого?
- Ужас, как напугали вы меня опять этой вечной проблемой взаимосвязи между модвижностью и количеством горючего! – ухмыльнулся Гот и фамилиарно похлопал Фандора по плечу. – После мы ужина позвоним фон Рихтгофену, пусть он даст нам грузовой "Юнкерс". И мы потом возьмём горючее из резерва группы Вейхса. И кстати, скажите, куда делся бензин, который захватил 64-й мотоциклетный батальон неделю тому назад на железной дороге Ростов-Лихая-Миллерово?
- Он всё там же, где и был. У нас просто нет емкостей и транспорта, чтобы его вывезти, господин генерал-лейтенант. Эшелон стоит под нашей охраной в тупике в десяти километрах от Ростова.- полковник принял среднее для себя решение, и опустив к бедру планшет с бумагами, принял положение «смирно».
- Слушайте, господа, возьмите машины пантонно-мостового парка, снимите пантоны. Впереди больше серьёзных рек до Сталинграда нет. Пусть привезут горючее, а потом снова возьмут свои мостовые пантоны. В крайнем случае, заберите у генерала Корнелиу Драголине из 6-го румынского корпуса наш родной армейский автобатальон. Мне, конечно, нужна румынская пехота в Котельниково, чтобы не оставлять там для защиты станции элитарную немецкую пехоту из 103-го, или 108-го моторизировного полка 14-й танковой дивизии, но не ценой лишения подвижности танкового полка этой дивизии. Так что, Фридрих.- Гот строго посмотрел на Фандора:- Забирайте, всё таки, обратно наш автобатальон у румын, снимайте у пионеров на землю пантонно - мостовое имущество и быстро отправляйте их назад к Ростову. Надеюсь не нужно обьяснять, что это относиться только к трёх-пятитонным грузовикам пионеров, но никак к их полугусеничным Sd.Kfz.6 с громадными прицепами Pontonwagen Pf15. А «Юнкерс» с горючим у Вейхся я всё равно возьму. Ещё что есть срочное?
- Вопрос о суточном довольствии. Солдатская "Норма питания для войны" по армии обеспечена полностью по «железному рациону», а по суточному рациону проблема в части горячего питания. Если картофель мы меняем на капусту, макароны на гречку, мясо имеем в основном местное по реквизиции, и жир в виде местного свиного и бараньего сала, то с солью есть сложности. И ещё нет совсем перца и пряностей. Конная упряжка, которая везла запас на всю армию, опрокинулась в Дон и всю соль и перец унесло течением. В полках уже возник "чёрный рынок" соли и перца. Командиры подразделений просят разрешения применить запас пряностей и соли возимый в составе «железного рациона» при полевых кухнях.- полковник сделал скорбное лицо.
- Хорошо, я разрешаю. И мне, наверное не нужно вам всем напоминать, что нужно шире использовать для питания солдат местные продовольственные ресурсы. Реквизиция продовольствия должна стать регулярной практикой. Нужно учиться этому у наших румынских союзников. В разговоре с генералом Корнелиу Драголине, я узнал, что 6-я румынская армия последний раз получала продовольствие от своего короля ещё перед майским сражением за Харьков. Однако успехи румынских войск, несмотря на то, что у них нет ни одного собственного вида вооружений, вполне удовлетворительны... Фридрих, я вам поручаю лично, возьмите организацию реквизиций продовольствия в жёсткие руки. Изымайте, изымайте, изымайте… И не в виде натурального налога, тот сам по себе, а ежедневные реквизиции продовольствия, сами по себе. Надо помнить, что каждый килограмм хлеба, привезённый из Германии за 2500 километров, из-за затрат на транспорт, стоит как килограмм великолепной Крупповской стали. Из положенных 4500 килокалорий на солдата в сутки, две трети килокалорий должны быть местного происхождения. А это, считайте 1.35 - 1.50 рейхсмарок на одного солдата. Теперь умножьте на количество солдат в 4-й танковой армии, и вы поймёте, какое это великое дело, конфискация местного продовольствия! Кормите наших солдат, кормите наших солдат как можно лучше. А то мне тут мне Гальдер, как-то на совещании у фюрера, сказал, что из солдат Вермахта с болезнями кишечника и желудочка, всяких там хронических запоров, несварений, гастритов и катаров мы потеряли уже целую дивизию. Этих живых пускателей ветров Генштаб Вермахата, даже собирается к сентябрю свести в 145-ю резервную дивизию и расквартировать её на французской Ривьере. Вот что значит годами без супа!- Гот топнул ногой, и в очередной раз хлёстко ударив перчатками о ладонь, повернулся к своему денщику, красному от жары и от суеты, связанной с приготовлением ужина:
-Мой-то суп готов, я надеюсь, Вили?
Денщик кивнул и развёл руками, показывая тем самым, что в готовности супа командующего сомневаться, это всё равно, что ставить под сомнение существование господа бога.
- Что ещё? Боеприпасы? – генерал-полковник неожиданно заметил сквозь особо густую пыль, поднимаемую проходящими мимо месторасположения штаба, орудийными тягачами, как в направлении противоположном движению его армии, в нескольких сотнях метрах от железнодорожной насыпи, движется нестройная колонна русских военнопленных под конвоем нескольких конных солдат: фуражки, пилотки, серо-коричневые, почти чёрные гимнастёрки без ремней, обмотки, ботинки, сапоги, иногда лапти, скатки шинелей, плащ-палатки, иногда гражданская одежда и кепки. Многие хромают, многие имеют на теле серо-бурые бинты, некоторых явно ведут под руки. Редко кто и них смотрит вперёд, или по сторонам. Неожиданно один из них падает, роняет из рук шинель. Конвоир быстро направляет к этому месту лошадь. И пока та перебирает ногами вокруг упавшего русского, солдат снимает с плеча карабин, и свесив ствол, и немного наклонившись в седле, стреляет. Через мгновение после вспышки доноситься сухой щелчок выстрела.
- Это что за представление, Фондор? Это кто решил в обстановке, когда моя армия ведёт преследование и пытается с ходу ворваться в Сталинград, тратить время и ресурсы на упражнения с этими недочеловеками? Наверное опять 14-я танковая дивизия Хайма чистоплюйничает, как под Ростовом. Но тогда то Хайм только-только принял дивизию. А сейчас-то, уже целый месяц прошёл. Ох, уж, мне эти бывшие штабные генералы ОКВ, да ещё происходящие из артиллерийских начальников. Где он сам, этот Хейм? Он должен быть тут. Я его звал сегодня на ужин. Спит, наверное, опять в своей машине. А вы все, сколько раз вам всем нужно повторять одно и тоже? Красная Армия зверски убивает германских солдат. Битва у Москвы показала, что наша борьба будет долгой, и уничтожение «неарийцев» нельзя откладывать ни на какое туманное будущее — оно должно происходить сейчас и немедленно. У нас, слава Богу, нет комиссаров как в русской армии, и в Вермахте работу по воспитанию солдат в части обращения с врагом, ведут вести генералы о офицеры. Мы! Это мы должны понимать сами, и обьяснять солдатам, что наша война, это часть старой борьбы германства против славянства, защита европейской культуры от московско-азиатского наводнения, защита от еврейского большевизма, и что эта борьба должна иметь целью полное разрушение сегодняшней России, и поэтому должна вестись с неслыханной ранее жестокостью. Восточный поход может закончиться только иначе, чем, например, война с французами. Эта борьба может закончиться только уничтожением. Примирение невозможно. Требуется уничтожение в буквальном смысле этого слова. Незачем нам тут, господа, консервировать русских военнопленных, которые даже в плену, какими бы они с виду ни казались добродушным, используют всякую возможность, чтобы дать выход ненависти ко всему немецкому. Я полностью согласен с Манштейном, который неоднократно предостерегал своих офицеров от ложного сострадания к русским военнопленным, да и к населению тоже. Если, конечно, они не состоят на службе германскому Вермахту. Толькео безжалостные и энергичные действия. Почему эти пленные до сих пор не расстреляны? Почему они продолжают есть германский хлеб и вот-вот разбегутся по степи как тараканы? Бандитничать и стрелять нам в спины? Ужас, Фандор! Просто ужас! Я попал тут в какой-то слюнявый детский приют, или в дом престарелых! Что за бесхарактерность!- Гот махнул перчатками в сторону колонны военнопленных, а потом в сторону горящего Котельниково. Затем он, всё также не оставляя своего флегматичного тона, хотя лицо его при последних словах сделалось вдруг злым и морщинистым как у старого бульдога, заключил:
- Пойдёмте ужинать, Фандор. Мне кажется, дорогой мой Фандор, что мы с вами тут как одинокие санитары, посреди огромного сумасшедшего дома.
Командующий обвёл выцветшими голубыми глазами стоящих вокруг офицеров своего штаба и указав на одного из них добавил:
- А вы, ну-ка, Зигмунд, быстро позовите ко мне генерал-майора Фердинанда Хейма, командира 14-й танковой дивизии.
Обер–лейтенант, тот, который должен был рассказать товарищам за кофе о неких своих донжуанских похождениях в Ростове, прижимая к бедру пухлый коричневый портфель с бумагами, и сказав «Слушаюсь!», проворно побежал к стоящему чуть на отшибе от остальных штабных машин, «Horch-901» с брезентовым верхом, который был окрашен по раннему образцу Африканского корпуса в жёлто-коричневый цвет Grun Braun. На приоткрытой дверце этой машины был отчётливо виден жёлтый знак 14-й дивизии - «руна движения», в виде одного полного, и одного неполного квадрата, расположенных один над другим. Водитель там что-то дела с мотором, приподняв боковой щиток, а в тени бронетранспортера связи с большой поручневой антенной, тоже окрашенного в жёлто-коричневый цвет, сидели, прислонившись спиной к колесу и дремали, двое младших офицеров-танкистов.
Гот ещё раз ударил перчатками по ладони, и в сопровождении Фандора и своего денщика, проследовал мимо приветствующих его офицеров, а потом и сапёров, занимающихся отрытием укрытий-щелей рядом со штабными палатками, на случай налёта вражеской авиации.
- Положение с боеприпасами приемлемое. – возвратился к ранее заданному ему вопросу начальник штаба 4-й танковой армии.
- Хорошо. Через два часа соберите начальников отдела штаба на совещание в моей палатке. Будем говорить о задачах на 3.08.42. А с Хаймом за ужином, кроме нагоняя то что он опять не избавился от пленных, как от зловредных насекомых, иы обсудим планы по продвижению его быстрых частей через Котельниково на Жутово и Абганерово, и частью других быстрых подразделений через Пимен-Черни восточнее Котельниково. Это надо сделать очень быстро, уже завтра утром, чтобы через сутки подойти к южной окраине Сталинграда. У нас есть блестящая возможность ворваться в Сталинград до того, как туда отступят части 62-й и 64-й армий большевиков, которые сейчас связаны северо-западнее от нас войсками 6-й армии Паулюса. Мы отрежим эти войска русских от переправ в Сталинраде и уничтожим полностью. Таким образом, Пимен-Черни и Абганерово, это сейчас как валяющиеся в степной траве, ключи от Сталинграда. Мы должны их схватить раньше русских.
Глава 8
Тухачевский и другие
- Вы - маршал Красной Армии, первый заместитель Народного комиссара Обороны, вы легенда гражданской войны и самый компетентный военный специалист в СССР! Это признают и все западные правительства и даже этот деспот, и тиран Сталин, и, даже, белоэмигрантский Общевоинский союз. Тухачевский – это же имя! Вы единственный человек, кто может заменить Ворошилова, и подготовить страну к войне с Германией, Польшей и Японией. Вас они не посмеют тронуть! Нужно быстро собраться у Фельдмана и начать действовать, не надеясь больше на Якира и Уборевича.– с нажимом на последние слова сказал седеющий человек в форме полковника внутренних войск НКВД, с тремя звездочками, золотистыми треугольниками на петлицах, и красными звёздами на рукавах, после чего он встал, и выйдя из желтого круга электрического света, льющегося из-под зелёного абажура настольной лампы, стоящей на массивном письменном столе с дубовой резьбой, подошёл к окну.
Несмотря на включённое над улицей освещение, фасады домов напротив, богато украшенные лепниной, были темны. В этот поздний час, свет в окнах не горел, или был невидим за плотными шторами. У тротуара, на той стороне улицы, стояли легковые машины ГАЗ-М1 и новейшие ЗИС-101. Около них которых курили водители. Там же был и грузовик, в открытый кузов которого несколько грузчиков, под руководством пожилой, толстой женщины в светлом платье, ловко грузили столы, стулья, кровати, горшки с цветами, матрасы и подушки. В том месте, где фасад углового дома поворачивал в переулок, прохаживался сержант НКВД, а рядом, у афишной тумбы, замерли в одинаковых позах два человека в светлых льняных костюмах и в серых одинаковых шляпах. В конце улицы Большая Никитская, если смотреть наискось, мимо Университета, над кварталом сносимых домов между гостиницей «Москва» и зданием Манежа, на шпиле Боровицкой башни Московского Кремля, сияла в свете прожекторов огромная золочёная пятиконечная звезда. С той стороны, вверх по улице, урча мотором, быстро проехала чёрная «эмка» ГАЗ-М1, и, повернув вслед за лучами света своих фар, скрылась в переулке.
- Поздно, Семён. Слишком поздно. – от шкафа с зеркалом, у которому он до этого стоял, отошёл высокий, стройный, темноволосый мужчина в генеральском кителе с большими маршальскими звёздами в петлицах, и остановился у книжных полок и отрывного календаря на стене. Лицо его, с чуть прикрытыми большими умными глазами, выражало печальное равнодушие, и как бы снисхождение ко всему, что происходило вокруг. Держа одну руку за спиной, а другую за пуговицей на груди, он некоторое время смотрел на верхний листочек календаря, а затем быстро оторвал его, скомкал пальцами и щелчком бросил на стол:
- 8 мая 1937 года. Поздно. Всё поздно. Уже когда четыре дня назад запрос о моей визе в посольстве Англии для поездки от СССР на коронацию Георга IV был аннулирован, и в состав делегации ЦК включил Флагмана флота Орлова, я понял, что репрессии добрались и до меня. И я уже знаю, что приказ о переводе меня с должности 1-го заместителя Наркома на должность командующего второсортного Приволжского военного округа уже подписан. Меня убирают из Москвы. Но, думаю, это только начало. Иошу Якира убирают со своего мощнейшего Киевского округа во второстепенный Ленинградский, отрывая от преданных ему людей. А Иероню Уборевича планируют снять с не мене мощного Белорусского округа и перевести на убогий Среднеазиатский. Я обоим этим дуракам, говорил, что пока в их руках есть войска, нечего пытаться убеждать Сталина, что Ворошилов как Нарком Обороны – полная бездарность, и что в преддверии надвигающейся войны, он не сможет обеспечить перевооружение и подготовку войск. Что толку было вспоминать о Больших Киевских манёврах в позапрошлом году, или зимнюю штабную игру, где Ворошилов показал себя полным дураком, и за счёт этих аргументов убеждать Сталина и ЦК снять Ворошилова. Для Сталина важнее глупый, но верный пёс Ворошилов, который лижет хозяйскую руку, а не я, как светило военной науки и практики, про которого вся Европа говорит и пишет, как о наиболее подходящей фигуре для руководства СССР с новым «человеческим лицом». Сталин умнейший человек. Как можно было предположить, что он согласиться вывести сразу всю Красную Армию из под своего контроля? Я сразу тогда им сказал, что убрать Ворошилова ни ЦК, ни Сталин никогда не согласятся. Они все - кто угодно, но только не глупцы. Я всегда говорил, что только вооружённый мятеж войск двух самых мощных военных округов, с одновременной попыткой террористического акта против Сталина может принести успех по взятию власти. Я бы и сам его застрелил, при любом удобном случае, если бы знал, что на Москву немедленно выступят округа Якира и Уборевича, а в Тушино приземлятся их десантники. И пусть бы железная дорога блокировала на некоторое время бы основную часть войск этих округов, но десантников и частей внутренних войск хватило бы, чтобы дезорганизовать управление войсками Московского округа. А я бы и на Лубянке посидел бы неделю в камере, если что. Легко. Кроме Сталина, уже убитого, в СССР никто не посмел бы на меня руку поднять, перед лицом надвигающихся на Москву танковых колонн Якира и Уборевича. А они, этот Иоша с Иероней, оказались, в конце концов, просто трусами, жалкими трусами, растерявшими всю свою прежнюю решимость. А теперь что? Уже всё поздно. Да и кто, после смерти Сталина может заниматься таким огромным народным хозяйством. Я что ли? Или этот проворовавшийся министр внешней торговли Фельдман, или скользкий как уж заместитель наркома иностранных дел Крестинский? Когда не стало Пятакова, а он бы подошёл на такую работу, я понял, что время упущено.
Тухачевский сделал несколько шагов по комнате. Заскрипел вощёный паркет. Настенные часы Gustav Becker ударили в свои маленькие гонги, оповещая о полуночи.
Москва почти спала, утомленная дневной толчеёй у совсем недавно открывшихся полутора десятков своих станций метрополитена, толкотнёй в переполненных трамваях, с гроздьями висящих на подножках служащих при пухлых портфелях и папках, домохозяек с авоськами овощей, и ещё трепещущейся живой рыбой, которой было много в тот год в столице, как впрочем, и крабов, креветок, и чёрной и красной икры, паюсной и зернистой, выставленной в огромных лотках на прилавках, над которыми в свою очередь висели колбасы, свиные и говяжьи туши, от которых вежливые мясники отрезали те места, на которые указывали нетерпеливые пальчики покупательниц. Всё это, конечно, стоило денег, и вся Москва с раннего утра до позднего вечера только и делала, что бурлила вокруг заказов, нарядов, зарплат, выбивания фондов, шабашек, артелей, и кооперативов.
Среди безумной московской толпы, и так больше чем на половину состоящей из вчерашних крестьян, затянутых в водоворот огромного бурлящего города, со всеми этими линями трамваев, сносимыми монастырями, церквями, с новыми набережными, строящимися в связи с подачей в Москва - реку воды из Волги, со всеобщей асфальтировкой улиц поверх брусчатки, с передвижкой на домкратах целых домов, с новыми заводами, фабриками, институтами, конторами и министерствами, то и дело попадались стайки самых настоящих испуганных крестьян, с затравленными голодными глазами, в опорках, лаптях, штопанных – перештопанных рубищах и портах, с всклокоченными колтунами немытых, нечесаных волос.
Они, эти натуральные крестьяне, из Брянска, Тамбова, Владимира, или Смоленска, тащили на своих согбенных спинах необъятные кули, шарахались от любого человека в форме, будь это даже железнодорожник, или контролёр трамвая, тоскливо глядели на ломящиеся от промтоваров и ширпотреба роскошные витрины магазинов на улице Горького, наполовину ещё забранную в строительные леса, старались обходить стороной высокие, с балкончиками и завитушками на порталах, правительственные дома, с их шикарными, чёрными автомобилями у подъездов, и бдящей охраной. Крестьяне, то и дело чесали затылки, щупали ладонями затертые на загибах, замотанные в убогие тряпицы, справки от колхозных председателей, без которых этих гостей столицы тут-же могли отправить под конвоем в ближайший приемник НКВД и далее, как нарушителей паспортного режима, в Сибирь, или на одну из грандиозных строек ГУЛАГа. Крестьяне без конца пересчитывали свои жалкие рубли и копейки, на которые им с огромным трудом удавалось выторговать на сумасшедших столичных рынках хоть что-то путное, и только мечтать, хоть о самой малой малости от этой золотой пыли, летящей в глаза с витрин магазинов.
Мимо них, посмеиваясь, переглядываясь, прогуливались студентки и курсистки, сбежавшие безмятежным летним днем с занятий РАБФАКов и институтов. Девушки сверкали белыми носочками из-под сандалий фабрики "Скороход", и строили глазки молодцеватым совслужащим, или студентам, гордо волокущим желтоватые рулоны исчерченного ватмана с чертежами. Счастливо блестя глазами, девушки нарочито громко разговаривали. Они, будто случайно, задевали подложенными плечиками своих светлых платьев, сонных от ночных нарядов, или радующихся увольнительной, курсантов военных училищ, инженеров, снабженцев, или просто хорошо одетых молодых людей, и обсуждали при этом, а не поехать ли кататься на лодках в парк Сокольники, или не пойти ли вечером на танцульки в только что открывшийся ДК ЗИЛ.
Повсюду в городе, по вечерам, по выходным, по праздникам и просто так, в парках, у театров и кинотеатров, около строек, и на территориях заводов, играли оркестры, повсюду торговали мороженным и ситро, повсюду слышался бодрый говор, пестрели плакаты госзаймов и добровольных обществ, краснели транспаранты, которые никто не торопился снимать после недавнего праздника международной солидарности трудящихся. Транспаранты и плакаты призывали ударным трудом закончить пятилетку за четыре года, побороть малограмотность, сохранить социалистическую собственность, перестроить Москву и всю Советскую страну, поддержать ударные методы передовика Стаханова, и так далее, и до бесконечности. То тут, то там, высились щиты с портретами Сталина, Калинина, Молотова, Ворошилова, Будённого, Тухачевского, Литвинова, нового наркома НКВД Ежова и множества других руководителей коммунистической партии большевиков и советского правительства.
Сейчас же, город почти спал, или делал вид, что спал.
На едва освещенных ночных улицах царили тьма и тени.
Редкие прохожие спешили поскорее свернуть в переулки, уйти от прыгающих световых овалов автомобильных фар грузовых и легковых машин, шныряющих по заданным адресам, указанным в продавленных лиловыми печатями ордерах на обыск, или арест.
Безмятежное спокойствие зашторенных окон было обманчиво.
Многие, очень многие ночью не спали, глядя воспалёнными глазами в побелку потолка, на которой играли световыми бликами огни проезжающих автомашин, ворочались в бессоннице, вскакивали с душных, мокрых простыней при скрипе тормозов, тревожно прислушивались к гулким звукам шагов в парадных и на лестницах, отодвинув пропахший никотином тюль, курили в форточки, глядя на освещаемые прожекторами звезды Кремля сделанные из уральских самоцветов, под которыми, это знали все, не спит он, Сталин. И он одит там из угла в угол в своём отделанном не дорогими деревянными панелями кабинете, курит трубку, неторопливо набивая её табаком из разломанных папирос "Герцеговина Флор", и всё подписывает и подписывает какие-то бумаги…
Когда под малиновый перезвон часов Пётр Надеждин, держа в каждой руке по стакану горячего, крепкого как дёготь чая в серебряных подстаканниках, стараясь ступать плавно, чтобы ничего не расплескать, вошёл из гостиной в кабинет своего дяди, Тухачевский всё ещё стоял перед отрывным календарём. Заметив краем глаза юношу, маршал, похожий сейчас на Наполеона,о чем-то размыщляющего осенью 1812 года на фоне горящей Москвы, чуть наклонил голову:
- Это и есть твой племянник?- маршал продолжал высокомерно оглядывать восемнадцатилетнего, худощавого юношу, который восторженно уставился на стоящую перед ним живую легенду Красной Армии.
- Да, Миша, это мой племянник Пётр. Первый курс Московского училища НКВД Менжинского, что на Ленинградском шоссе. Покойной моей сестры Елизаветы, царство ей небесное младший сын. Его деда ты, скорее всего, мог встречать в германском плену в Кюстрине, в офицерском лагере. Его все лейб-гвардейцы семёновцы должны были хорошо помнить ещё и по Галиции, по реке Збруче. Давай, Петя, чай на стол. И ступай спать. У тебя завтра зачёт. По-моему по оперативно - розыскной практике.
- Хорошо, Семён Александрович.- Петр быстро поставил стаканы с чаем на край стола, повернулся, почти по-строевому, и быстро выйдя в прихожую, остановился, прислушаясь. Тишина в доме была не полная. В подъезде, скрипя, ехал лифт, отмечая своим блокировочным колёсиком этажи. Где-то лилась вода. У соседей справа били часы. Сверху кто-то торопливо ходил от кухни к спальне. Через открытые окна с улицы доносился шум порывов ветра в листве деревьев, лаяла собака. Петр поднял с тумбочки, стоящей у входной филёнчатой двери увесистый том учебника «Судебно-медицинская экспертиза», тетрадь с конспектами по этой теме взятую у приятеля за две бутылки пива всего на одну ночь, взвесил учебник и тетрадь на разных ладонях, словно богиня закона Фемида, и, положив учебник обратно, с одним конспектом отправился на кухню. Там, на новенькой газовой плите, на большой чугунной сковороде лежали маленькие квадратики ржаных сухариков, оставленные приходящей домохозяйкой Глашей. Надеждин взял целую горсть. Они были ещё тёплые. Подошёл к кухонному окну, на подоконнике которого Глаша с любовью уже год выхаживала заросли в горшках, состоящие из традесканций, аспарагусов, и бегоний. Он с хрустом раскусил один сухарик, невольно фиксируя доносящиеся из гостиной негромкие голоса дяди и маршала Тухачевского, и собрался было уже открыть тетрадь с конспектом, когда через арку во двор въехал урча крытый грузовик ГАЗ-АА с крупной надписью красным по синему кузову «МЯСО». Автофургон с визгом и скрежетом затормозил у первого подъезда. Из открывшейся дверцы выпрыгнул человек в форме НКВД старого образца, а из небольшого окошка кузова послышались явственные звуки пощечин, приглушенные крики и возня, и кто-то, высунувшись из небольшого окошка, загудел грубым голосом, отразившимся от отштукатуренных фасадов, и растворившимся в темных подворотнях:
- Гриш, Корягов, подмогнуть, или как?
- Не. Справлюсь. Там военный же, а у них мозги вообще набекрень. Заладит, как всегда: начальство разберется, заступится, всё выяснит, а я не виноват, и всё такое прочее. Всё будет без лабуды, короче.
- Лады. – голова исчезла.
И тот же хриплый голос, уже приглушенный стенкой кузова крикнул:
- Вытри блевотину, бухаринская ты сволочь! Не туфлей, платьем вытирай, паскуда! А ты, очкарик, заткнись, закрой пасть, зубы повышибаю сейчас! Контра - интеллигенция!
Там пронзительно закричала женщина, и кто-то жутко засмеялся.
Надеждин, перегнувшись через заросли на окне, в свете тусклой лампочки над подъездом увидел, как из кабины грузовика один за другим вылезли ещё двое мужчин, но в штатском, и то, как Корягов расслабленно почесал грудь под расстегнутым воротом гимнастерки, и потянул на себя дверь их подъезда.
Надеждин отпрянул от окна, и быстро пробежав по коридору, снял с входной двери цепочку, повернул ключ в замке, и вышел на лестничную площадку, прикрыв дверь за собой.
Лифт тем временем отсчитал пятый этаж. Грохнул. Остановился. Брякнули, распахиваясь, сначала внутренние двери лифта, потом решетчатая наружная дверь, и те, кто приехал, сделав по несколько шагов, тюкая оковками каблуков по керамической плитке площадки, нажали на кнопку электрического звонка нижних соседей.
Надеждин, ставя ноги как кошка, спустился на несколько ступеней ниже. Сквозь ограждение лестницы, и решетчатый угол лифтовой шахты он увидел три спины.
За невидимой отсюда дверью квартиры напротив, кто-то охнул, послышался звук отбегающих детских шажков и сдавленный голосок:
"Мама, бабушка, это не к нам".
В ответ старческий голос зашипел:
"Тише, Шура, ради бога тише!"
Корягов криво усмехнулся, повернувшись к своим сопровождающим:
- Ага, и там не спят, трусы - падлы. Значит, вину свою чуют. Ничего мы и туда скоро придём.
Один из мужчин, одетый в лёгкий бежевый плащ из парусины, повернул свою усатую физиономию в сторону той двери. Он был бледен и слегка растерян. Он зажёг спичку, светя себе на лист бумаги и начал всматриваться в написанное.
Несколько мгновений, пока горела спичка, все стояли неподвижно, только Корягов переминался с ноги на ногу, с удовольствием, видимо, слушая поскрипывание своих яловых сапог и кожаной портупеи. За дверью были слышны торопливые шаги, приглушённые голоса и звук передвигаемой мебели.
Наконец дверь распахнулась.
На пороге стояла молодая девушка, в шёлковой ночной рубашке с глубоким вырезом на груди. Поверх ночной рубашки был накинут халат.
Позади неё, в прихожей, встал со стула седой, на вид шестидесятилетний мужчина в гимнастерке без ремней, с блестящим тусклой эмалью орденом Красного Знамени, ниточками от отпоротых петлиц и нарукавных нашивок.
Он был бледен, губы сложены в вымученном подобии улыбки.
Рядом со стулом стоял небольшой коричневый чемодан с приваленной к нему сеткой с не то помидорами, не то яблоками.
В прихожей ярко горел свет, который, вырываясь на тёмную площадку лестницы, казался почти солнечным.
В остальных комнатах, выходящих стеклянными дверями в прихожую, было темно.
- А-а, ты уже собрался, я смотрю. Люблю я военных брать. Всё быстро, чётко. Дисциплина штука хорошая.
- Так точно, товарищ капитан госбезопасности.
- Я тебе не товарищ, а гражданин. Тебе Троцкий с Зиновьевым, и другие враги народа, товарищи. И не капитан, а пока что, лейтенант. Но это только пока. Ещё пяток командиров корпусов привезу, и буду капитан. А ты, как будто, знаки различия не разбираешь. Грубый, грубый подхалимаж. Бесполезно это.
Все трое вошли в прихожую, застучали каблуки по вощёному паркету.
Надеждин сделал ещё несколько шагов вниз по ступеням, и теперь его от двери соседей отделяла только сетчатая шахта лифта.
Вдруг девушка, имени которой Надеждин не знал, но которую несколько раз видел во дворе, и, даже один раз ехал с ней в лифте, схватила Корягова за рукав:
- Товарищ! Товарищ дорогой, отец же ни в чём не виноват, его оклеветали враги нарочно. У него полно завистников в Академии Генштаба и даже тут, в доме. Его оклеветали… Вы ведь, наверное, в курсе, его так любят все слушатели Академии, и его уважает за знания маршал Блюхер и командарм Уборевич. Друзья, товарищи миленькие, не забирайте его! Он, ведь, такой больной. И в Германскую войну три года просидел в окопах на передовой. У него чахотка открылась. А в семнадцатом году он, прапорщик, застрелил своего командира полка, который препятствовал солдатам расходиться по домам. Вместе с остальными офицерами перёшел на сторону солдатского комитета. Он ведь и с Фрунзе воевал вместе, и у него наградное оружие от Фрунзе. Не забирайте его, ведь вы всё можете, товарищи офицеры, помогите… Лучше меня возьмите! Я на все согласна, но только не забирайте отца! Я, всё…-девушка горько зарыдала.
Корягов посмотрел на старика, у которого по щеке поползла слеза, а пальцы мелко затряслись, в попытке достать папиросу из старинного серебряного портсигара с монограммой.
- Ну-ка, горе герой гражданской войны, предавший дело партии и великих вождей пролетариата Ленина и Сталина, давай-ка папаша, покурим твоих. – Корягов выхватил портсигар из рук старика, повертел его перед носом, взвесил на ладони, и, наконец, захлопнув, сунул в свой карман. Потом он повернулся к девушке:
- Тебя, говоришь, взять? Дело приятное.
Её лицо вспыхнуло от прихлынувшей крови.
Она вяло кивнула головой, уставившись на носки его запылённых сапог.
- Ну, если папаша не против, и если дамочка так упрашивает, то можно и взять – Корягов окинул взглядом длинную, нежную шею, ладную фигуру девушки, благородные, точеные пальцы, сложенные замком, впившиеся ногтями в тонкую, прозрачную кожу рук, из под которой проступали голубые прожилки:
- Ожидайте тут, папаша.
Пожилой мужчина вдруг очнулся как от гипноза:
- Нет, не позволю! Юля, что ты такое говоришь? Не смей, что бы…- он сделал неуверенный шаг перед собой, и упал навзничь, схватившись за сердце.
- Папа, тебе плохо, о, боже мой!- девушка рванулась к отцу, но один из оперативников, схватил её за волосы;
- Кхэ, без резких движений только, шлюха ты троцкистская. Давай, быстро, принеси водички, помрет ещё невзначай, а нам отчитываться утром по арестам.
Пока девушка бегала за водой, а старик тяжко дыша, стучал зубами о край поднесенного стакана, хватаясь рукой за рубашку дочери, Надеждин стоял не шелохнувшись, прижавшись спиной к холодной стене лестничной клетки, и готовый в любую секунду, как птица, взлететь в свою квартиру, где всё ещё находился его дядя Семён Александрович и маршал Тухачевский.
- Что-нибудь, наверное, я смогу тебе сделать. Пойдем-ка, цыпа, я засуну тебе пальчик. – Корягов тем временем грубо схватил девушку одной рукой за шею, другой за бедро, и потянул её в одну из комнат, задел старинного резной буфет со слюдяными створками внутри которого звякнули расставленные гуськом семь фарфоровых слоников «на счастье», а потом ещё, споткнулся об узкую кожаную банкетку и грязно выругался.
На улице нетерпеливо просигналила машина, оттуда закричали:
-Эй, Корягов! Скоро ты там, у нас ещё три адреса!
Один из оперативников в гражданском, тот, который до этого хватал девушку за волосы, скрылся в глубине квартиры, и, видимо из окна кухни крикнул вниз:
- Эй, кобели, эй, Чуткирашвили! Поднимайтесь по очереди сюда, кто хочет задарма женского тела. Тут одна цыпа из бывших благородных, сама просится!
Второй оперативник, усатый и бледный, в этот момент вынул из нагрудного кармана лежащего на спине старика офицерское удостоверение, и сличив его содержание со своей бумагой, крикнул в пространство:
- Ребята, это же не тот совсем человек. И фамилия другая и квартира. Нам этажом выше.
Через мгновение из комнаты выскочил Корягов, застёгивая на ходу свои синие голифе, а второй человек появился со стороны кухни. Несколько секунд они водили глазами по строчкам документов, после чего Корягов заключил:
- Это не те… Наши этажом выше. И эта сука, представляешь, не возбуждает меня совсем. Прямо не встаёт на неё ничего. Толи после вчерашней попойки, толи из-за моей социальной ненависти в троцкистам и бухаринцам. Двойной, слышь, облом.– он разражено снял васильковую фуражку с краповым околышем, озадаченно почесал неопрятные, сальные волосы, снова надел фуражку и заключил:
- Пошли товарищи. А я послезавтра приду специально для тебя, девочка. И откупорю в машине. Чтоб вечером, слышь, чтоб послезавтра дома была. А не то я… – он многозначительно указал на распластанное тело.
Все трое двинулись наружу, и Корягов, выходя последним, так сильно и зло захлопнул за собой дверь, что с откосов полетели куски штукатурки.
За секунду до этого Надеждин беззвучно поднялся на свой этаж, и, проскальзывая в квартиру, слышал, как эти люди, сопя, клацают каблуками по ступеням и переговариваются:
- Ну ты, Корягов, и скотина...Чего творишь то?
- Не видел ты, чистоплюй, что такая вот, сволочь белая, как этот дедок, притворившись красными командирами, с крестьянами и рабочими на нашей Тамбовщине творила, когда люди против продразвёрстки бунтовали.
Надеждин, затаив дыхание, закрыл за собой без щелчка замок, и сдавленно крикнул:
- Семён Александрович, к Вам с арестом три офицера НКВД поднимаются.
Разговор дяди с маршалом в комнате прервался. Кто-то быстрым движением повернул выключатель настольной лампы, и зеленый абажур потух, погрузив комнату и квартиру в синеватую мглу. Из-за двойной двери, остеклённой в виде вертикальных ромбов, появился сначала дядя, а затем Тухачевский. Высокая фигура маршала, его движения, по прежнему выражали равнодушие, и как бы снисхождение ко всему, что происходило вокруг. Держа одну руку за спиной, он другой рукой принял от юноши свою маршальскую шинель, надел фуражку, и застыл, пропуская Семёна Александровича с ключами в руках на кухню, где за ящиками с картошкой, находилась редко используемая дверь на чёрную лестницу, которая выводила в соседний двор. Нервно затренькал электрический звонок. Потом ещё, и ещё раз, пока его звон не сделался непрерывным.
- Сюда, Миша, дорогой мой. Как же Вы до машины своей дойдёте, она же на Никитской сейчас.
- Не беспокойся голубчик, до Варшавы дошёл, а уж до машины то…- Тухачевский сделав несколько широких шагов, задержался в проёме двери на чёрную лестницу, откуда пахнуло кошками и сыростью, и добавил, прежде чем начать спускаться по узким крутым ступеням вглубь колодца: - Мне нечего особо жалеть. Я очень устал жить… Мне только очень Мавру Петровну и Светочку жалко. И братьев своих, и своих сестёр. Я думаю, если меня скинут, то и их никого не пощадят. Когда Парижский Конвент, как сейчас наш партийный ЦК, расправлялся с club des Jacobins, которые до этого утопили всю Францию в крови, как мы в Гражданскую свою Россию, то они тоже никого щадили. История всегда повторяется. Жаль, только, что время нашего Наполеона так и не пришло…
- La Garde meurt mais ne se rend pas! Гвардия умирает, но не сдаётся! Прощайте, Миша…Вы успеете уйти незамеченным в любом случае…- тихо и быстро проговорил ему вслед, Семён Александрович, а затем, повернувшись уже к племяннику, сказал, стараясь сохранять спокойствие и от этого, как всегда, нарочито чётко выговаривая окончания, и, одновременно с этим, доставая из кармана галифе, пачку из десятичервонцевых светло-голубых билетов Государственного банка Союза ССР.
- Слушай меня, Петечка, внимательно. Сейчас же уходи отсюда. Всё. Про мою квартиру забудь, её теперь нет. В училище больше не появляйся. Возвращайся к матери, расскажешь всё. Вам нужно срочно уезжать из Москвы. Куда хотите, в Сибирь, в Казахстан, к чертям собачьим. Вот тебе деньги на дорогу и на пару месяцев. Этого хватит. Всё. Прощай. Давай, беги. Прости меня.
- Дядя, а как же Вы?- Пётр сжал втиснутую в ладонь пачку новеньких купюр, но дядя уже не слушал его, а переменившись в лице, застегнул крючок воротника между полковничьими звездочками на петлицах, щелчком ногтя расстегнул коричневую кобуру на портупее, и извлёк из неё револьвер «Наган» с почти стёршимся воронением. Затем он, сделав несколько уверенных шагов, подошёл к входной двери, в которую снаружи уже неистово стучали ногами и кулаками, и, перед тем, как повернуть ключ, посмотрел на Надеждина:
- Беги, Пётр, Беги!- почти беззвучно сказал он одними губами.
Брякнула снимаемая цепочка, щёлкнул замок. Щёлкнул взводимый курок револьвера. Полковник отступил на два шага. Дверь распахнулась, и в полутёмную прихожую ворвался взбешенный Корягов, который быстро нашарив около вешалки бугорок выключателя, зажёг лампочку под потолком. После этого, единственное, что он смог из себя выдавить, при виде направленного ему в лицо дула «Нагана», было:
- Аб-аб, э-э-э…
- Ты кто?- спросил его Семён Александрович холодным голосом.
- Лейтенант госбезопасности Корягов.
- Ну, понятно, что лейтенант, а не маршал. Дальше то что? Чего забыли вы тут ночью? А? Отвечать по форме, когда с тобой старший по званию разговаривает!
Корягов медлил с ответом, пытался унять вдруг возникшую дрожь под глазом, в который смотрел зрачок револьвера. Стоящие в проёме за его спиной офицеры в гражданском зашелестели плащами, видимо вытаскивая оружие.
- Ты… Вы… Вы арестованы. У нас ордер на Ваш арест. Вы арестованы, гражданин полковник, за связь с предателями Родины и народа, Пятаковым и Радеком из «Троцкистско – зиновьевского центра». – Корягов полез в нагрудный карман, рассыпал оттуда ворох каких-то желтоватых бумажек, квитанций, билетов.
- Враньё это всё. И про Пятакова, и про "Троцкистский центр"- ухмыльнулся майор.
- Не глупите, Вы же сами офицер НКВД, гражданин полковник. Должны понимать. Вот ордер. - Корягов взял из-за плеча поданный ему сзади листок с гербовой печатью и размашистыми подписями, протянул его перед собой.
- Какая нежная фраза – "не глупите". Если уж самых достойных людей, героев Гражданской войны, патриотов, ставят к стенке, то чего мне то ждать, бывшему царскому лейб-гвардейцу, хоть и служившего потом верой и правдой трудовому народу? Чего ждать? Того, что я, отдав тебе «Наган», буду избит сапогами, и потом меня потащат в «воронок», и голова моя, как у куклы, будет биться о ступени лестницы? Ведь я тебе так не нравлюсь, холуй ты, деревенщина лапотная. А потом, знаю, меня будут пытать на Лубянке, и я там скажу всё, что от меня потребуют, и то, что это я Ленина убил, и то, что это я Иисуса Христа распял. Потому как я знаю точно, что никто не может выдержать правильные пытки. Никто. Физиология человека такова. У меня, ты, собака, арестовали почти всех друзей. Их всех либо расстреляли, либо они исчезли без следа. Мы-то с тобой из одной конторы, ты прав, и я то хорошо знаю, что означает приговор тройки "десять лет без права переписки". И ты мне не забивай мозги рассказами о справедливом суде и гуманности. Не суд надо мной не будет, а произвол. А я так не хочу.
- Эй-эй… Гражданин. Сдайте оружие по хорошему, иначе будем стрелять!- сказал, всё ещё оставаясь на лестничной площадке, оперативник с усами и бледным лицом.
- Вы? Стрелять? Вы можете только в затылки стрелять, ублюдки. - Семён Александрович вдруг побледнел и пряжка портупеи на его груди перестала двигаться от дыхания.
Лицо же Корягова, наоборот, сделалось бардовым. Он опустил бумажку ордера, и сделал пол шага вперёд, поднимая ладонь к своей кобуре:
- Да ты сам трусишь, гад! Ты не выстрелишь! А я вот сейчас достану свой пи...
И тут оглушающее ударил выстрел. Затем ещё один. Голова Корягова треснула как спелый арбуз, забрызгивая потолок и обои. Пока он стоял, качаясь в пороховом дыму, выронив револьвер, заливая фонтаном крови из разбитой головы и половик, и учебник на тумбочке, пока падал спиной в проем двери на своих сотрудников, обратно в темноту лестницы, полковник успел отступить в комнату.
Когда Надеждин уже бежал по узким, крутым и постоянно поворачивающим направо ступеням чёрной лестницы, сверху послышались ещё несколько выстрелов, кто-то страшно закричал от боли, и вдруг всё стихло.
Буквально скатившись через последние ступени, юноша толкнул дверь и выскочил во двор. Следом никто не гнался. Из колодца двора, посреди которого между нескольких молодых тополей, уныло торчала голова шахты бомбоубежища, налево в сторону Никитской, вела арка проходного двора, а направо, такая же арка выходила обратно к первому подъезду. Маршала нигде не было. Надеждин осторожно прошёл к тополям, и через арку, увидел свой двор, где тарахтел с включёнными фарами автофургон «МЯСО», а рядом с ним, задрав головы вверх на окна, и придерживая форменные фуражки стояли трое:
- Ничего себе, им там дамочка на халяву подвернулась - палить пришлось!
- Хватит вам ржать! Ты, Чуткирашвили, оставайся здесь. Присматривай за этими врагами народа. А ты,Петро, пошли со мной.
Двое быстро забежали в подъезд.
Прошло несколько томительных минут.
Надеждин боролся с искушением развернуться и изо всех сил помчаться тёмными дворами домой, к матери, но он стоял и ждал чего-то, не смея шевельнуться, выглядывая из-за засиженной голубями бетонной коробки шахты бомбоубежища.
Вдруг в подъезде вподряд ударили выстрелы, послышался звон бьющегося стекла, истошные вопли. Затем дверь подъезда с грохотом распахнулась и на улицу вырвался Семён Андреевич, с двумя револьверами в руках.
Было видно, как оторопевший Чуткирашвили начинает лапать свою кобуру, но вдруг раздумав, бросается бежать поперёк двора, в сторону дощатого забора, за которым виднелся силуэт недостроенного дома в лесах. Семён Андреевич начал стрелять ему вслед поочередно из двух револьверов, почти не целясь. С головы Чуткирашвили сначала упала и покатилась по лужам фуражка сбитая пулей, а потом и он сам, споткнувшись о невидимое препятствие, и не выставив вперёд руки, как это обычно делают живые люди, упал со всего разбега вперёд, лицом в асфальт.
После этого, полковник устало подошёл к грузовику. Откинув щеколду. Рванул дверцу кузова:
- Выходите товарищи! Вы свободны! Разбегайтесь, бегите отсюда скорее!
В кузове слабо завозились. В наставшей вокруг гробовой тишине, было слышно как испуганные голоса замямлили:
- Мы не можем, мы не пойдем, с нами всё прояснится, мы по ошибке тут, гражданин офицер, нас отпустят, у нас семьи, мы не можем, прояснится, разберутся…
- Ну и сидите тут, как бараны для убоя. Бараны… А-а... Нет... Нет, ну-ка, выметайтесь все живо из машины. Выметайтесь, ну! А то перестреляю и вас всех!
Несколько неловких мужских и женских фигур молча выбрались из кузова, и пугливо прижавшись к стене, почти растворившись в тени козырька над подъездом.
Полковник, заметно хромая, забрался в кабину на водительское место.
Двигатель взревел на полных оборотах, визгнули по асфальту покрышки.
Машина несколько раз резко дёрнулась, и рванула с места. Она развернулась, сбила штукатурку с угла арки, и там ещё в арке какого-то человека, пытающегося расставленными руками приостановить движение, и, наконец, вырвалась на Большую Никитскую улицу.
Когда шум мотора стих. Надеждин оторвал взгляд от похожего на киноэкран, проема подворотни, и, прижимая рукой пачку денег в кармане своих брюк, со всех ног бросился бежать в противоположную сторону.
"Беги! Беги!"- звучало в его ушах.
Надеждин проснулся потому, что нечто болезненно ударило его по носу. Он приоткрыл глаза, и увидел медленно плывущие над собой тенистые ветви яблонь с уже розовыми, кое-где яблоками, а над ними высокое, голубое небо с двумя крохотными белоснежными облаками. Через замыленный от сна край глаза, он различил сначала внимательный взгляд, хлопающие рыжие ресницы, а затем и всю сосредоточенную, конопатую физиономию Петрюка, который из стороны в сторону мотал на его носом своей растопыренной ладонью.
- Ты чего, Петрюк, колдуешь? – приподнявшись на локте Надеждин осмотрелся по сторонам.
- Не-е, Петь, я слепня с тебя сгонял.
- И где слепень?
- Улетел лошадь кусать.
- Ага, и из-за него ты мне по носу заехал.
- Да ты всё равно плохо спал. Всё шептал про Москву и про погоню. - добродушно заметил Петрюк.
Крестьянская телега, на которой в соломе лежал Надеждин, а рядом сидел Петрюк, свешивая наконец-то свободные от ботинок ноги, качалась из стороны в сторону, как лодка на волне. Телега двигалась по двум глинистым колеям с травяным бугром посредине, и невероятно громко скрипела при каждом покачивании. На месте возничего расположился Зося Гецкин, с винтовкой за спиной по-кавалеристски. Он вяло подёргивал вожжи, и время от времени с видом заправского кучера покрикивал «Но-о! Пошла!». Старая серая лошадь с плешивой гривой хрипела, трясла головой, брякала сбруей, отчаянно мотала облезлым хвостом, отгоняя многочисленных назойливых мух. Её обвисшие мышцы на крупе и боках, при каждом шаге колыхались как студень.
Слева, за несколькими рядами яблоневых деревьев, зарослями багульника и тростника, тускло поблёскивала тёмная вода Курмояровского Аксая. Справа, тоже за рядами яблонь, начинался крутой подъем поймы реки, покрытый густыми лесопосадками из дубов, вязов, акации, орешника.
Лесопосадки, судя по толщине дубов и участкам мрачных буреломов, были очень древними. Иногда между плотными зарослями появлялись лежащие в траве заплесневелые стволы, а вечернее солнце высвечивало потоками света, бьющего лучами между ветвей, большие поляны и прогалины.
Яблони были тоже очень старые, искривлённые, и видимо пережившие много страшных зим, пожаров и смерчей. Неимоверно разлапистые и высокие для этих мест деревья, образовывали почти сплошной зеленый свод над дорогой.
За спинами трёх двигающихся сейчас к Даргановке красноармейцев осталась переправа у Курмояровского Аксая, с искрошенными пулями крестьянскими повозками, разорванными на куски лошадиными и человеческими телами, истошным детским плачем в далеким бурьяне, множеством беженцев и жителей Пимен-Черни, которые под присмотром солдат НКВД хоронили убитых при авианалёте в спешно отрытой братской могиле прямо у моста. Несмотря на то, что Надеждин, Петрюк и Гецкин, вместе со стариком Михалычем до налёта уже были перед недобрым взглядом командира заградительного отряда лейтенанта Джавахяна, их снова остановили и снова стали разбираться в том, что эти трое солдат при оружии делают во фронтовом тылу. Надеждин долго, слово в слово повторил Джавахяну то, что тот уже и раньше знал: кто они такие, и почему на телеге, и что телегу дал им старик Михалыч из имущества убежавшего председателя колхоза Ляпинша, и что они откомандированы из батальона 208-й стрелковой дивизии на три дня, по приказу генерала Чуйкова, чтобы искать пропавшую в Пимен-Черни девочку Машу, а заодно и её односельчанку Лизу Стеценюк, потому, что в Пимен-Черни и в окрестных сёлах в последнее время массово пропадают дети, и что потом находят только их трупы, а милиция вся непонятно теперь где. Для этого то они и едут в Даргановку, где по сообщению местного школьного учителя Виванюка, у своей тёти - учительницы младших классов Татьяны Павловны, может находиться Маша. Заодно они собираются осмотреть местность вдоль дороги и расспросить о девочках всех встреченых на своём пути. Джавахян тоже рассказал им всё с самого начала, и про то, что он подчиняется Военному совету фронта и командиру 10-й дивизии НКВД, и что ему предписано держать контрольно-пропускной и заградительный режим в тылу фронта у Пимен-Черни. При этом ему вверено обеспечивать наведение и поддержание должного порядка, проверять документы, а если возникают подозрения, то проверять личные вещи и весь проходящий гужевой и автотранспорт, как у гражданских, так и у военных, независимо от должностей, званий, выполняемых ими заданий. А ещё задерживать и доставлять на сборные пункты фронта самовольно уходящих в тыл командиров и красноармейцев, вылавливать дезертиров, диверсантов, шпионов, бежавших из-под стражи, или из мест заключения уголовников и военнослужащих, осужденных военным трибуналом.
Когда Надеждин, потеряв терпение, и решив, что Джавахяну уже и так всё понятно, толкнул Гецкина, а тот придал бодрости лошади, Джавахян с матерным криком неожиданно схватил Надеждина за ворот гимнастёрки, а когда Надеждин вывернулся, то достал из кобуры пистолет «ТТ». Из траншеи и магазинчика, моментально повыскакивали амбалы с автоматами и взяли троих красноармейцев на мушку.
Пришлось всё повторять опять, долго и нудно извиняться, прикидываться простачками. Солдаты НКВД делово выворачивали для осмотра карманы, ранцы, вещмешки, переворачивали на телеге сено, обнюхивали воду в бидоне, сало, хлеб, колбасу, данную Михалычем в дорогу из подвала бежавшего председателя. Петрюк же предъявлял всем из под пыльно-потных обмоток, свои кровавые мозоли, демонстрировал тяжелые солдатские ботинки, иссеченные мелкими камешками, а Гецкин постоянно отлучался, то «до витру», то за стамеской - вынуть из копыта лошади камень, то ещё за чем. Заградотрядовцам, видимо, очень хотелось найти что-нибудь подозрительное, но ничего подозрительного, кроме слишком нового обмундирования на молодых солдатах, из которых лишь Надеждину было чуть больше двадцати лет, и слишком новых винтовок СВТ-40, они не так и не обнаружили. Перед тем, как позволить красноармейцам переехать через злополучный мост, солдаты НКВД дотошно изучили красноармейские книжки, письма, справки, комсомольский билет Петрюка, и даже заглянули в ножны от штыков к винтовкам.
- Вот гады, всё перевернули, всё ощупали, будто мы преступники какие! – продолжая мотать ладонью перед лицом Надеждина, сказал Пертрюк, блаженно шевеля свисающими с повозки голыми ступнями.
Помытые в реке коварные ботинки чернели рядом с ним. По другую сторону от Петрюка в соломе покачивались два немаленьких полосатых арбуза.
- Погоди, эти гады нам ещё в спины-то постреляют, ой, постреляют… – не поворачиваясь, отозвался Гецкин.
- И долго я спал? - Надеждин продолжал разглядывать в разрывы между яблонями и кустами, иногда открывающиеся внутренности леса.
- Один час, двадцать минут. – отозвался Гецкин.
- Откуда такая точность? – ухмыльнулся Надеждин.- Ни у кого часов-то нет.
В ответ Гецкин, не оборачиваясь, отвел одну руку в сторону, и на его запястье на потёртом кожаном ремешке обнаружились наручные часы Tissot в стальном корпусе с перламутровым циферблатом:
- Во. Хронометр антимагнитный, удивительной точности. Пока эти гаврики нас шмонали, я у них со стола реквизировал. Временно конечно, и исключительно для выполнения важного задания командования. Как говорил дядя Изя: тренировка рук, это всё равно, что тренировка головы – всё зависит от того, какой из частей тела можно больше сейчас заработать.
- Ну, ты даёшь, Зося. – не без восхищения сказал Надеждин.- Со стола у них спёр под шумок.
-Не спёр, а временно реквизировал. Смекаешь, москвич, в чём разница?
- А, может, ребята, а ну его, это задание. Посидим дня три в Даргановке, пока харчи Михалыча не кончатся, а потом вернёмся в батальон на тамошнюю гороховую кашу. А, Петь? Ты как старший группы, не будешь против? – Петрюк простодушно улыбнулся.
- Я думаю, что если даже генерал-лейтенант Чуйков, решил среди этой жуткой войны отправить троих, ценных для обороны страны солдат на поиски пропавшей девочки, то мы должны попытаться её найти, и сделать всё, что в наших силах для этого. А в батальон ты и так вернёшься через три дня. А не вернёшься, или опоздаешь, то будешь числиться у комиссара как дезертир, и за это твои же товарищи, тебя расстреляют перед строем. Или вон, Зосе поручат. – сказал задумчиво Надеждин, садясь по-турецки, и открывая замок на крышке бидона с водой.
- С большим удовольствием я тебя, Петрюк, шлёпну за нытьё. Но-о! Пошла, мёртвая!- Гецкин подхлестнул лошадь, которая, дёргая ушами, начала было пытаться на ходу доставать ветви яблонь, на которых повсюду было полно крупных, уже розовых, но пока ещё слишком кислых яблок.
Петрюк обиженно засопел.
Надеждин принялся осторожно, примериваясь к движению телеги, пить маленькими глотками прямо через край измятого алюминиевого молочного бидона ледяную воду, сводящую зубы. Перед его глазами ещё плыли картины ночной довоенной Москвы, маршальские звёзды на шинели расстрелянного теперь Тухачевского, и красивой девушка с нижнего этажа, имени которой он так и не узнал…
Глава 9
КРОВЬ
- Хорошая тут вода - вкусная. У вас в Москве, небось, такой воды и нет. У вас, наверное, всё больше химическая: - важно заметил Петрюк глядя как жадно Надеждин пьёт из бидона ледяную воду.
- У половины Москвы воды вообще никакой нет, там, где дома на холмах стоят. Когда построили канал от Дубны, в Москва-реке хоть вода появилась. А так летом можно было у Воробьевых гор реку по пояс перейти. Теперь водопровод после войны везде построят и вода везде будет. А вода, товарищ красноармеец, по любому химическая. Потому, что состоит из химических элементов водорода и кислорода, плюс загрязнения разные, плюс, иногда, для обеззараживания, хлор.– ответил Надеждин захлопывая звякнувшую крышку бидона.
- Ну, мы люди-то не ученые. Не то, что некоторые. А вот скажи, москвич, как ты всё-таки на Дальнем Востоке в нашей Славянке оказался?
- А как еврей Зуся Гецкин в вашей Славянке в 208-й стрелковой дивизии оказался, ты не интересуешься, или вся третья рота нашего батальона, из казахов составленная. Посмотри, где Казахская ССР, а где ваша Славянка Хасанского района Приморского края? Далеко. А у вас там и сопки, и болота, и кедры и виноград. А ещё тигры и корейцы. Подозрительное, знаешь, место. Не находишь, Зуська? – Надеждин передразнивая внимательно-детский взгляд Петрюка, потешно выкатил глаза.
- А Зуся говорил, вообще, что он из Азербайджана. Тоже ведь далеко очень. – не унимался в своём дознании Петрюк.
- Не из Азербдайджана, который в Закавказье, а из Бирабиджана, который на границе с Китаем. – усмехнулся Зуся, которого этот диалог явно начал веселить:- У границы с Китаем есть река Бира, что с эвенкийского переводится как река, и совсем рядом есть другая река, которую эвенки называют Биджан, что означает стойбище. А место между этими реками называется Бирабиджан. То есть стойбище у реки. В этом месте сначала была станция Транссибирской магистрали под романтичным названием Тихонькая. А потом, когда образовали посёлок, его и назвали Биробиджан. По имени двух соседних рек. Так что к Азербайджанской Советской Республике, Биробиджан никакого отношения не имеет. Просто созвучие такое похожее.
- Но ты же не эвенк, я надеюсь, Зуся? – Надеждин рассмеялся, запрокинув голову.
Гецкин только головой тряхнул и продолжил:
- Когда Бирабиджан до войны сделали главным городом Еврейской автономии, туда много евреев приехала, со всего союза, из Соединённых Штатов Америки, Аргентины, Палестины и из стран Европы, а потом многие уехали, потому, что там иногда всю зиму ноль градусов, а летом жара под сорок, а иногда бывают года, когда наоборот, летом всего градусов пять тепла, а зимой бывает минус сорок. Мне самому было восемь лет, когда отец с семьёй нас на английском океанском пароходе, а потом на поезде, привёз в Бирабиджан из Аргентины. В Аргентине у него была сапожная фабрика, но он поссорился с властями в провинции Мисионес, власти которой после военного переворота в Буйнос-Айресе, стала состоять вся сплошь из индейцев гуарани. Они не давали отцу спокойно работать. Сначала поднимали цену на кожу, на разрешение на торговлю, а потом и просто стали деньги вымогать. А тут дядя Изя приехал, сказал, что теперь в Аргентине долго будет беспорядок, и что в СССР для евреев сделали собственную автономию, и дети Израилевы, наконец, спустя пять тысяч лет имеют свою территорию. Хотели сначала в Палестину ехать. Туда Герцель, вождь сионистов звал жить всех евреев, и на деньги Рокфеллера покупал у Турции куски земли, в Палестине, оплачивал проезд и материалы для строительства домов. Там были кебуцы. Трудовые комунны. Всё общее. И еда и земля. Евреи уже пять тысяч лет назад были коммунистами. Все всем помогают. Делятся. А Аврам, который вел Евреев их Египта, и перед ним море расступилось, это прямо как Иосиф Виссарионович Сталин, перед которым расступаются дебри из воды и морей. Но отец не захотел ехать в Палестину. Он сказал, что еврейский коммунизм ему не очень нравиться. Пусть лучше будет социализм, и решил ехать в СССР. В провинции Миссионес было три больших еврейских семьи, и все три уехали в СССР. А потом две уехали дальше, в Польшу, и, думаю, фашисты их всех там убили. А отец, и ещё один еврей из Одессы создали в Биробиджане артель по производству венских стульев, и никуда не уехали, а теперь, вот, делают там приклады для винтовок и автоматов, и посылают их в Ижевск. У нас в Биробиджане до войны и Государственный театр имени Кагановича построили, и педагогическое училище, и железнодорожный техникум, и автобусы теперь ходят. Когда Гитлер напал на СССР, и по еврейской голубиной почте пришли вести об убийствах евреев германскими фашистами и их подручными из Латвии, Литвы и Украины, отец и мать сказали мне: «Шесть твоих сестёр не могут послужить стране, которая нас приютила, а братья Жорж и Генех ещё совсем маленькие. Поэтому, иди ты от всех от нас, и сражайся с Гитлером». И я пошёл добровольцем. В сентябре прошлого года у нас в городе 60-ю танковую дивизию формировали. Я тоже хотел в танкисты пойти, но возраста тогда не хватило, и из-за того, что не комсомолец я, не взяли. Потом вот, в пехотную 208-ю попал.
- Вот это да, Зуся! Так ты ещё у нас и аргентинец. Просто на тебя не перестаю удивляться.- Надеждин перестал смеяться и на секунду задумался:- А ты, Петрюк, хоть знаешь, где Аргентина?
- Аргентина?
- Вот, смотри на арбуз. Здесь мы - СССР. - Надеждин ногтем сверху на арбузе, сделал отметину. Потом повернул арбуз вверх жёлтым донышком и сделал другую отметку: - А здесь Аргентина.
- Не понял. При чём здесь арбуз.
- Так арбуз это, представь себе, глобус. Уменьшенная копия земного шара.
- Шара?
- Всё с тобой ясно, Петрюк. А ты сам откуда?
- Я - то? С Северного Сахалина. – Петрюк наконец прекратил мотать перед собой ладонью, после чего мухи, видимо тоже обессиленные этой вечной борьбой, тут - же опустились на его короткие рыжие волосы и замерли: - Отец там при царе сначала каторгу отбывал. А потом, во время войны с Японией в 1904 году, когда японцы высадили войска на Северном Сахалине, его записали в военную дружину. В дружине два месяца как за два года каторги шло. Вот он и воевал там по лесам с японцами. А когда весь отряд окружили японцы у Ныйского поста на реке Тыми, и оставшихся в живых взяли в плен, то привязали к деревьям и кололи в руки и в ноги штыками, жгли волосы и глаза, пока все не приняли мученическую смерть. А отец, и ещё двое со штабс-капитаном сбежали, пробрались к берегу Татарского пролива, и на лодке доплыли до Николаевска-на-Амуре. А потом он, уже после революции, когда разбили Колчака, и японцы ушли, вернулся на Сахалин. А мать он в Уссурийске встретил. Вместе и вернулись.
- Папаня у тебя героический. – сказал Надеждин уже посерьёзнев, и наблюдая как Гецкин борется с серой лошадью, которая всё норовит съехать из колеи поближе к ветвям, и ухватить на ходу яблоко . - Петрюк, а ты оказывается и говорить умеешь складно. Чего ты всё время такой рохля и растяпеля?
- Я домой хочу. У нас там море красивое. Сопки, лес густой. Людей мало, зверей и рыбы много. Уголь прямо под ногами лежит. Я бы в старательную артель пошёл, золото мыть. И мамке с папаней помогать на старости. А тут этот Гитлер проклятый. Где Сахалин, а где Сталинград. - Петрюк свесил голову на грудь.- Папаня очень раненый. Пальцев на руке нет. А маманя всё болеет. И только дочки у них ещё.
- Ладно – ладно. Не хнычь. Выгоним Гитлера, вернёшься на свой любимый Сахалин. А звать-то тебя как? А то в эшелоне ты так имя то и не назвал.
- Коля я. И по батюшке Николаевич.
- Ну, Коля-Николай, держи хвост трубой. Прорвёмся. Девчонок этих отыщем, и к старшине Березуеву, немцев бить. А отсиживаться в деревне я тебе не дам. Так-то.- Надеждин заметил краем глаза какое-то движение в зарослях справа, будто несколько человек осторожно переходили от дерева к дереву. К тому же в том месте нервно взлетела, встревоженная кем-то пара птиц.
Гецкин привстал со своего места и вытянул шею, всматриваясь вперёд:
- Петя, там впереди толпа гражданских.
И действительно, им навстречу небольшими группками шли крестьянки.
Белые платочки, незатейливая ткань кофт, пыльные, подоткнутые за пояс юбки.
Почти все босяком.
Уставшие лица, тёмные от загара руки с прожилками, вздувшимися от тяжелой ежедневной работы, большие заскорузлые ступни с большими пальцами.
Чуть поодаль, особняком, шли двое мужчин с такими же натруженными руками и усталыми глазами.
Почти у всех в руках были деревянные и металлические вилы, грабли и косы, у одного из мужчин на плече изгибалась завёрнутая в рогожу двуручная пила.
Некоторые из селян несли замасленные узелки с харчами и крынки с питьем.
Держась за материнские подолы, семенили несколько голоногих карапузов, шмыгая грязными носами, а рядом с ними шли ещё несколько детей постарше.
- Ну, прямо голь перекатная.- тихо, почти про себя сказал Гецкин.
Двуручная пила, содрогаясь от шагов блестящим стальным телом, издавала иногда нежный, щемящий душу звук.
Шорох босых ног в пыли, позвякивание упряжи, скрип телеги, шелест высоких крон, неправдоподобно сочного для этих засушливых мест леса, мелодичные завывания пилы, всё это резко оборвалось треском близкого винтовочного выстрела.
От арбуза, на котором Надеждин только что обозначал Аргентину, во все стороны разлетелись куски и брызги. Справа, откуда теперь с невероятным шумом взлетело множество жаворонков, трясогузок, и красавок, висело прозрачное облачко порохового дыма.
Зуся Гецкин бросил поводья, и скатился за левую сторону телеги. Надеждин сделал тоже самое. И только Петрюк, всё ещё вертел по сторонам головой и хлопал ресницами:
- Коля, быстро с телеги.- Гецкин с опаской выглянул из-за бидона с водой.
До Петрюка, наконец, дошло в чём дело. Он прекратил стряхивать со своей гимнастёрки и галифе куски арбузной мякоти и чёрные семечки, и тоже спрыгнул с телеги, почему-то прихватив вместо винтовки, свои липкие от арбуза ботинки. И сделал он это весьма вовремя. Пуля от второго выстрела выбила щепу из доски телеги в том самом месте, где он только что сидел.
Надеждин, не решаясь, что-либо предпринять, неуверенно перекладывал винтовку из ладони в ладонь.
Наконец, оглянувшись на сосредоточенного Гецкина, на остановившуюся от них в пятидесяти шагах группу колхозников, на дымок выстрелов в зарослях, и оценив, что серая лошадь, почуяв свободу, убыстрила шаги к заветным яблокам, и начала поворачивать телегу с дороги, он привстал с винтовкой на изготовку:
- Ну, давай, Зуся, ответим гадам, как исподтишка стрелять по Красной Армии!
Гецкин тоже привстал. Они щёлкнули предохранителями и, наводя винтовки в заросли, откуда только что взлетели птицы, почти одновременно нажали на спусковые крючки.
Самозарядные винтовки в течении нескольких секунд исторгли оглушающую серию по десять выстрелов каждая. Мерцая огнём через прорези дульного тормоза, и бешено клацая затворами при выбрасывании очередной стреляной гильзы, они бились в руках как живые существа. В зарослях, куда стреляли Надеждин и Гецкин, посыпалась листва, ветки сбитые пулями, куски коры. Крестьяне, как стояли, пригнулись или сели на дорогу, прикрывая своими телами и руками детей.
В ответ никто больше не стрелял.
- Ух, ты! – восхищённо оглядывая свою нагревшуюся винтовку сказал Зуся, принюхиваясь к кислому запаху порохового дыма.- Похлеще автомата бьёт.- Что, козлы, съели? А ну, выходи сюда, пока я пулемёт не достал!- Крикнул он уже в сторону зарослей.
- Давайте с Петрюком, сходите туда. Посмотрите, что там. А я лошадь подержу, и если что, и по вам будут стрелять, то падайте, а я над вами ещё разок заросли обстреляю.- Надежнин торопливо поменял магазин винтовки.
- Давай, Петрюк. Да брось пока ботинки свои. Винтовку бери с телеги.- Гецкин поднялся во весь рост и, показывая крестьянам ладонью, чтобы они оставались на месте, пошел между яблонь в сторону зарослей. Петрюк последовал за ним. Прошла томительная минута, и они скрылись в листве. Ещё через какое-то время послышался голос Гецкина:
- Здесь нет никого. Обрывок газеты, окурок и две гильзы от винтовки Мосина. Они ушли уже.
Надеждин опустил свою СВТ-40 и, держа её в руке, свободной рукой подхватил поводья, чтобы придержать лошадь, которая уже достигла интересующих её ветвей и дёргала с них недозрелые яблоки:
- Идите сюда, товарищи колхозники. Опасность миновала.
Люди встали, подобрали свои инструменты и с некоторой опаской приблизились.
- Здоровья вам, товарищ солдат.- сказала пожилая женщина в красном платке и сарафане, за край которой держался маленький голоногий мальчик. Остальные тоже покивали головами, здороваясь.
- Я смотрю, вы со стороны Даргановки идёте. А мы тут девочку ищем - Машу. На вид лет тринадцать, платьице жёлтое, косички. Могла пойти в Даргановку к своей тётке, учительнице Татьяне Павловне. Её вчера у Змеиной балки видели. А ещё девочку Лизу ищем. Одета была в красную юбку, белую рубашку с пионерским галстуком. – Надеждин невольно пристально посмотрел на двух девочек, лет десяти, которые держались вместе и с любопытством разглядывали красноармейца. Одна из них увидев под ногами блестящую винтовочную гильзу, быстро подняла её и стала нюхать, а вторая пыталась ей мешать. Крестьяне, напуганные и бледные, столпились вокруг Надеждина. Маленький мальчик, держась за материнский подол, начал всхлипывать, с интересом разглядывая винтовку, а мужчина с пилой, положив её в пыль, неверными пальцами достал из кармана табачный кисет, и, едва не просыпав драгоценный табак, мимо папиросной бумаги, принялся сворачивать, самокрутку.
- Да, из Даргановки мы. Михалыч, который стал теперь за председателя в Пимен-Черни, вчера за наличные деньги просил обработать колхозные бахчи и огороды вдоль Аксая. Его-то люди кто отказался, кто в Сталинград подался. А что нам? Скотина наша доена, птица кормлена. Надо уже начинать хлеб жать, да наш председатель не даёт. Говорит, хлеб нужно сжечь, чтоб фашистам не достался и подсолнух, и гречиха. Даже горчицу, и ту спалить. А мы сидим без работы и ждём. А трудодней никто не ставит. Что мы в конце года получим на еду? Только если своим хозяйством и огородом. А немец придёт, худо будет. Все уж знают, что он все запасы выскребет, да если скажешь что, дома пожжёт и постреляет всех. Хоть за Волгу беги. А председатель наш и пустить не пускает, и работы никакой не даёт. И жать хлеб не даёт. Ждите, говорит. А сам третий день пьяный с утра ходит. Вот мы по вечеру без жары отработаем на Михалыча и в ночь вернёмся.
Надеждин понимающе кивнул, понял, мол:
- Я говорю, может, видели девочку лет тринадцати в жёлтом платье в Даргановке. Она могла к учительнице прийти в гости.
Мужчина, у ног которого лежала пила, в заштопанной в нескольких местах, некогда синей косоворотке, задымив самокруткой, важно и степенно вступил в разговор:
- Вот мы и говорим, товарищ военный. Нехорошие тут места, вокруг Змеиной балки. В зарослях вдоль Аксая так спрятаться можно, и не найдёшь. Тут калмыки обычно ворованный колхозный скот прятали. А сейчас вокруг полно беглых красноармейцев и беглых заключённых. У нас в Даргановке каждую ночь какие-то люди по амбарам и по огородам шарят. Вооруженные. Что уж девочек - коров уводят. Тряпками копыта обматывают, на голову мешок с сеном, чтоб не мычала и всё. Ищи – свищи. Собак всех потравили. Участковый милиции, уже месяц как не появлялся. Оружия-то нет у нас никакого. Только вот вилы, да топоры. Как тут с разбоем этаким сладить?
Крестьянин обернулся на подходящих сзади между яблонь Гецкина и Петрюка. Они шли, рассматривая свисающие вокруг яблоки, выискивая, какое покраснее.
- Я говорю, девочку, товарищи, не видел кто по дороге, или в Даргановке? – Надеждин начал терять терпение.
- Если вам, солдатики, чего постирать надо, или ещё чего. Можем немного хлеба продать, или сала. Самогонки можно продать. Деньги есть, солдатик? – спросила одна из крестьянок, опираясь на деревянные грабли.
- Товарищи советские колхозницы и колхозники. – вмешался в разговор Гецкин.- Если не расскажите нашему командиру про девочек, то он вас именем Советской власти не пустит на работу в Пимен-Черни, и останетесь вы без своего заработка. Так что, говорите, что знаете про двух девочек.
Крестьянка в красном платке насторожилась и быстро заговорила:
- Учительша наша с неделю уже как уехала с семьёй в Абганерово. В колхозе грузовик брала. Грузовик с водителем Мусой, до сих пор и не вернулся. У неё в Абганерово свояк живёт, агроном. Я у неё ещё перед этим отъездом денег заняла. Чужих детей в доме я не видела. Только её Варька и Сенька. Так что, мил человек, не может ваша девочка у неё быть. Ведь нету учительши в Даргановке. Зря идёте, служивые.
- Ясно. Идите, товарищи колхозники. – Надеждин махнул рукой в сторону Пимен-Черни.
Мужчина, дымящий самокруткой, щурясь от едкого дыма, крякнув, подобрал пилу:
- Неспокойно теперь вокруг. Кто его знает. Пропадают люди, скот. Неспокойно всё это. – он повернул обветренное, заросшее седой щетиной лицо в сторону зарослей, откуда недавно по красноармейцам стреляли: - Тут, вон, какой разбой творится вокруг. Тут не то, что девочку, трактор умыкнут. Змеиная балка тут рядом. Проклятое место. Так и есть – змеиная. Правда, Глаша?
Ему уже никто не ответил, потому что все женщины молча двинулись дальше.
- Ну, что теперь будем делать, Петя? - Зуся подошел к лошади, которая жевала яблоки вместе с ветками и листвой. – Не могла наша Маша найти там ту мамашу. Стихи. Возвращаемся в Пимен-Черни?
- Нет. Нужно ещё кого ни будь расспросить. Ведь учитель Виванюк говорил, что видел девочку очень похожую на Машу у Змеиной балки вчера вечером, когда возвращался от этой самой учительницы. А мы до этой балки ещё даже не дошли, а уже бежим, поворачиваем обратно. Эх, был бы в Пимен-Черни работающий телефон, можно было бы в два счёта это выяснить. Но тут, в этой провинции…
- А вот мне интересно, кто из них врёт. – Гецкин начал тянуть лошадь за поводья, чтобы вывести обратно на дорогу, но та стала упираться.
- Кто врёт? – Надеждин вопросительно уставился на Зусю.
- Если Виванюк вчера всё-таки был у учительницы в Даргановке, то врёт эта тётка в красном платке. А если она не врёт, то значит, врал учитель Виванюк, что девочка могла пойти в Даргановку к тётке, которой уже неделю там нет.
- Виванюк сказал, что видел девочку очень похожую на Машу. Это не одно и тоже. А что у Маши в Даргановке тётка живёт, он просто сообщил, предполагая, что если она шла по направлению к Даргановке, то значит, могла идти к тётке.
- Как ни крути, но этот Виванюк ехал вчера на велосипеде от тётки, которой уже неделю нет в Даргановке, и встретил у Змеиной балки, которую все деревни вокруг считают проклятым местом, девочку, которая по описанию - копия Маша. Лично мне весь этот гевалт кажется очень странным.- Зуся, несколько раз хорошенечко огрев старую лошадь концами вожжей по крупу, добился от неё того, что она оставила свои яблони, и потихоньку стала выходить на дорогу, вытягивая за собой скрипящую телегу.
- Странно.- согласился Петрюк, ставя на телегу свои ботинки, с которыми он даже в чащу за Гецкиным ходил, и укладывая рядом с ними свою винтовку.- Ну вот, теперь после стрельбы винтовки чистить. А что мы старшине про патроны израсходованные скажем?
- Зуська, умница. Действительно странно. Получается Виванюк мог соврать нам и Михалычу. Но зачем? – Надеждин отрицательно помотал головой, в ответ на предложение Петрюка попробовать кусок разбитого выстрелом арбуза.
- Прямо приключения сыщика Пинкертона, а ещё Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
- Ты читал эти книжки?
- Ты чего? Самые мои любимые после Торы. Ты думай, москвич, думай. Ты, же вроде в студентах был. Это у меня железнодорожный техникум.- усмехнулся Гецкин, и хлестанул лошадь что было силы. – Но-о-о! Пошла мёртвая!
- Погоди, Зуся. Отведи телегу поглубже и привяжи. А сами мы, я думаю, должны поподробнее выяснить всё о людях, которые только что чуть не убили Кольку из засады. Тут заодно и Змеиная балка рядом. Всё равно до неё на лошади не доехать.
Гецкин посмотрел на Надеждина так, как если бы тот сошёл с ума. Потом хотел что-то сказать Петрюку, но тот с таким упоением выгрызал мякоть из разбитого арбуза, что взывать к нему было бессмысленно. Однако после того как красноармейцы взяли свои сумки с едой, фляги, вещмешки и, оставив ранцы, шинели, противогазы и каски, Гецкин всё же повёл лошадь обратно под яблони и, заведя её вместе с телегой за кустарник, оставил там, завязав вожжи вокруг поваленного ветром ствола дерева.
На всякий случай, держа винтовки наизготовку, а Петрюк даже от волнения примкнул к винтовке штык, и надел пилотку звёздочкой назад, трое красноармейцев вернулись в те заросли, откуда по ним недавно вели огонь.
- Ну, вот это место.- с ярко выраженным скепсисом в голосе сказал Гецкин.- Отсюда они по нам шмаляли. Вот обрывок газеты. Чего-то на ней про сбор урожая написано, а на другой стороне международные новости из Ирана, где наши войска Тегеран охраняют вместе с англичанами. А вот окурок папиросы – видать зажиточно живут, раз папиросы курят. И гильзы патрона к винтовке Мосина образца 1891/30 года или СВТ-40. Может, конечно, у них тоже самозарядные винтовки, как у нас, но звук уж больно не похожий был. Ну, всё?
Надеждин тем временем присев на корточки, уронил пилотку, поспешно её поднял, тоже ошибившись как Петрюк, надев её звёздочкой назад. Потом он рассмотрел окурок, повертел в руках клочок газеты, поднял и бросил гильзы:
- Шрифт похож как из газеты “Красная звезда”. Кто-то из своих балуется. Хорошо, хоть не немецкие диверсанты. Хотя им в нашу форму переодеться и советскую винтовку взять плёвое дело. Ещё и незаметнее можно ходить по тылу. Не в крестах же своих, да в касках рогатых им по деревням шнырять.
- Тонкое замечание, господин сыщик.- Гецкин посмотрел сначала на Петрюка, потом на Надеждина, и потом по очереди развернул пилотки на их головах как положено – зелёной, защитного цвета звёздочкой вперед: - Так красивее. Вон туда они пошли. В сторону Даргановки. Видишь в траве опята раздавленные. А ещё ветка сломана. Хотя тут от нашей стрельбы всё и так поломано. Но, будем думать что они где-то в Змеиной балке гнездятся. Наши сорок разбойников и Али-Баба.
- Что за баба?- Петрюк вопросительно уставился на Гецкина, но тот уже шёл вслед за Надеждиным.
Так они шли довольно долго вглубь лесополосы, пригибаясь, раздвигая руками упругие стебли орешника и смородины, стараясь не шуметь и не хрустеть, ориентируясь по следу примятой травы, надломленным сухим веточкам. Мухи, бабочки, шмели, кузнечики, жужжа и сверкая крыльями, сновали по своим делам, пауки караулили бесчисленные блюдца паутин, в траве бегали мыши, сновали суслики, и вились ужи. В некоторых зарослях чёрные комары - дергунцы, вились вокруг тучей и, хоть и не кусали, но так настойчиво лезли в нос, глаза и уши, что людям порой приходилось останавливаться, чтобы отчистить от них свои лица. Некоторое время неподалёку за ними шла осторожная и хитрая лисица. В кронах деревьев беспрерывно пели и перелетали с места на место многочисленные птицы. В этом зелёном и тенистом оазисе жизни, тянущемся вдоль реки, среди выжженной солнцем безводной степи, была толчея и толкотня, словно утром на кухне в коммунальной московской квартире.
Петрюк потихонечку ругался то и дело, подбирая падающую с головы пилотку, и всё время задевая штыком за ветки, пока он, в конце концов, не сунул пилотку за поясной ремень а, плоский штык не отсоединил от винтовки и не спрятал в ножны.
Неожиданно он, хотя и шёл позади всех, углядел что-то среди зарослей справа, и схватив Гецкина за край гимнастёрки, прошипел:
- Вон там, правее, смотрите!
Они замерли.
В тридцати метрах, может меньше, сквозь прорехи листвы, смутно угадывались неподвижные темные фигуры, которые толи наблюдали за красноармейцами, толи, затаившись, чего-то выжидали.
- Ну что, Петь, снимем гадов в глаз, чтоб шкурку не попортить? – неожиданно разгорячился Петрюк. Он привстал на одно колено и, держа винтовку за магазин, как его научили на стрельбище в Славянке, плавным движением заправского охотника поднял ствол. Он совместил мушку и целик на силуэте одного из незнакомцев и покосился на Надеждина: – Огонь?
- Подожди, Колюня.- отчаянным шёпотом ответил тот, кладя ладонь на винтовку Петрюка и опуская ствол к траве.
- Может тогда гранатой их? - Петрюк проворно извлёк из кармана галифе осколочную гранату Ф-1.- У нас же в ранцах шесть "лимонок". Мы из них в момент жаркое сделаем!
- Да подожди же ты! Может это и не они стреляли в нас. А что если их тут не двое-трое, а больше, и на выстрелы целая банда высыплется. Не стоит нам сейчас устраивать перестрелку. У нас цель девчонок найти. Надо этих людей расспросить. Может, полезное чего скажут.
- Вы оба с ума сошли. – Гецкин утер рукавом со лба вдруг выступивший пот.- Это ж вам не игра в казаки-разбойники, или в пионерскую «Зарницу». Тут наверняка дезертиры прячутся, или беглые уголовники, люди отчаянные и отпетые, а на нас ведь форма полевая красноармейская, которая от полевой формы солдата НКВД почти не отличается. Они с тобой и разговаривать не будут.
- Надо попробовать.
- Они либо убегут, либо попытаются нас перебить. И не факт, что это не немецкие диверсанты. Возвращаться нам надо на дорогу, Петя, и ехать дальше в Дагановку на нашей голодной серой кобыле.
- Если они ходят по лесу, а не по дороге, значит - они боятся попадаться на глаза. А если боятся, то будут уходить от нас, а не сражение затевать.
- Или попытаются нас тут грохнуть, чтобы за ними никто по лесу не шастал. – закончил Гецкин цепочку логических рассуждений товарища.
- Огонь? - Петрюк быстро как фокусник спрятал гранату обратно в карман галифе, снова подниял винтовку и прицелился.- Да погоди! Какой ты горячий. Что ж ты вместо винтовки свои ботинки во время перестрелки на дороге баюкал? – теперь уже Гецкин осторожно повёл ствол винтовки Петрюка вниз: - Пальчик-то, Колюня, со спускового крючка убери, друг.
Но Петрюк уже и сам уже опустил винтовку и, держась за низ живота прокряхтел:
- Ух... Всё, ушли они. Ух, как от арбуза живот крутит то. Мне, ребята, кое-что надо по быстрому сделать.
- Как ушли? – Надеждин всмотрелся в разрывы растительности, где только что шевелились силуэты: - Пошли за ними. Давай Колюня быстрее делай свои дела. А то потеряем их.
Пока Петрюк, укрывшись за листвой, быстро приводил в нужный порядок содержимое своего живота, Надеждин и Гецкин продвинулись метров на тридцать вперёд, и здесь им стало понятно, что особо торопиться уже не стоит, потому, что в воздухе отчётливо запахло костром и какой-то жареной едой, а к шуму птиц добавился ни на что не похожий звук гармошки. Приглушённый листвой, этот звук музыкального инструмента, обычно сопровождающего деревенское и фабричное веселье, свадьбы и праздники, в этом фронтовом лесу, среди буреломов и окружающего его великого ужаса, казался порождением чьей-то зловещей насмешкой над происходящим, кощунственной инфернальной шуткой. Не выпуская из вида кустарника, где ещё оставался Петрюк, оба красноармейца сделали ещё десяток шагов, пригибаясь, и двигаясь так, чтобы не наступать на сухие ветки, и не задевать ветки живые. Потом они опустились на корточки, а затем и вовсе легли на живот. Ещё несколько метров они проползли по-пластунски и остановились, потому, что за стволом поваленного ветром замшелого дерева, и за кустами молодой дикой смородины, начиналась небольшая залитая вечерним солнцем поляна. Посреди неё перед горящим костром, спиной к Надеждину и Гецкину, стоял человек в кожаном пиджаке, вроде тех, которые любили носить в годы гражданской войны сотрудники ВЧК. Если бы не автомат ППШ в руке, то по его кепке, брюкам и сапогам, можно было бы подумать, что это какой ни будь председатель колхоза, или начальник плотницкой артели. Ещё один человек, в обрезанной выше колена солдатской шинели без хлястика, наклонившись, что-то выкладывал из вещмешка. Его короткий казачий карабин был закинут на ремне за спину стволом вниз. Около костра сидели, или спали в траве на расстеленных телогрейках и шинелях, шесть, может быть семь человек, одетых кое-как, но с преобладанием армейских вещей цвета хаки. Двое жарили на винтовочных шомполах над огнём не то тушки цыплят, не то какой-то лесной птицы. Все эти люди на поляне были покрыты грязной многодневной щетиной. Выглядывающие из под шинелей мозолистые ступни, поломанные чёрные ногти, слипшиеся волосы в лесном соре, открытые участки тела в расчёсах от укусов блох и вшей. Далеко распространяющийся тяжелый запах давно не мытых тел, сапог, ботинок, портянок и обмоток. Вокруг чего только не валялось: каски, патронные подсумки, мятые фляги, ремни, затасканные кальсоны, пустые консервные банки, бутылки, тряпки, птичьи перья, гражданские полосатые брюки с зазелененными о траву коленками и бурыми кровавыми пятнами, какие-то пестрые дырявые платки. Всё указывало на то, что в этом месте долгое время располагается лесной лагерь. Один из спящих сидел, обняв винтовку. Остальные наверняка тоже были вооружены. На другой стороне поляны в тени деревьев, виднелся большой шалаш, в конструкцию которого органично вплетались ветви лежащего рядом старого, замшелого тополя и его лопнувший, расщепленный пень. Рядом виднелся входы в землянки. Тут-же лежала большая куча хвороста, стояли в беспорядке несколько распряжённых повозок с остатками какого-то тряпья и скарба. За землянками к деревьям были привязаны три, четыре лошади и корова, которую, сидя на корточках, доил щуплый молодой человек, босой, в солдатских галифе и гимнастёрке без ремня. Гармониста нигде видно не было, а звук доносился, скорее всего, из шалаша. Человек с ППШ сдвинул кепку на затылок, не вынимая руки из рукавов, отбросил пиджак с плеч за спину, открывая совершенно мокрую от пота некогда белую косоворотку, и сел прямо на траву.
Отложив автомат он принялся кряхтя от усилия, стаскивать выпачканные землёй кирзовые сапоги, с застрявшими под каблуками пучками травы. Лица его было не видно, но судя по низкому, хриплому, голосу, ему было лет за сорок.
- Все дрыхнут опять. Жратвы нет, курева нет, на дороге солдаты, а он дрыхнет целый день. А ты, Мордюков, почему здесь? Тебя ж к сестре в Пимен-Черни послали, а ты тут прохлаждаешься. Небось, с утра задницу не поднял, а? Просыпайся, сука! – он замахнулся над головой сапогом и запустил им в спину одного из спящих. Тот, получив подошвой под лопатку, дернулся и повернулся заспанным лицом на свет, захлопал мутными глазами:
- Чего такое, Худосеев?
- Чего – чего. Где харчи от сеструхи? Рыщешь тут как волчара за добычей, а другие только жрать горазды. – Худосеев неожиданно заложил два пальца в рот и пронзительно, резко свистнул.
Остальные спящие вздрогнули, завозились, привставая на локтях, растирая тыльными сторонами кистей сонные глаза. Гармонь в шалаше стихла, и оттуда, отодвинув занавесь из куска брезента и щурясь на свет, выглянул здоровенный детина с тупым, скуластым лицом и с синими тюремными наколками на руках и груди:
- Ты что, Худой, охренел тут свистеть? В хрен ещё свистни! О-о! А где Гращь с Варёным, почему вернулись только вдвоём?
- А ты сам не охренел на гармошке наяривать, и коней с коровами тут держать. Нас же так любой баран обнаружит. Граща, между прочим, только что у дороги солдаты подстрелили. Кость в плече, кажись, не задета, но видок у него был такой, что не ровен час сдохнет. Варёный его к фельдшерице в Даргановку повёл. Слышали, небось, перестрелку – то?
- Ну?
- А чего тогда спите все?
Детина, наконец, выбрался наружу, задев своей холкой жердины шалаша. Он, видимо недавно что-то ел, потому, что всё время икал, ковырял палочкой во рту, обнажая желтые прокуренные зубы с несколькими стальными фиксами, и то и дело вытирая ладони о грязную рубаху:
- А что за солдаты? НКВДэшники? Лес прочесывают?
- Нет. Гращь с Варёным телегу с солдатами обстреляли, хотели отогнать, и харчи с телеги взять. А те как начали в ответ лупцевать из пулемётов. Аж все кусты вокруг нас повыкосили. Постреляли, но в лес потом не пошли:– ответил за Худосеева человек, с карабином за спиной, закончив разгружать от консервных банок вещмешок.
Детина озабоченно почесал подбородок:
- Солдаты вокруг начали на телегах шнырять, значит, фронт опять подошёл. Мордюков вон, с утра пошёл к сеструхе в Пимен-Черни, а там НКВД у моста с броневиком. Всё. Теперь в Пимен-Черни ходить нельзя. Драпать надо дальше за Волгу.
- Куда за Волгу? Когда немцы дальше пройдут, можно будет здесь по сёлам ходить, вроде как партизаны мы, и еду у селян брать. Автоматом перед носом потрясешь, всё колхознички отдадут. Не пропадём. А с фронтом на Восток, если пойдём, окажемся за Волгой в голой степи. Там ни леска, ни перелеска. А зимой морозы будут ниже сорока. Подохнем. На пароходы, или на железную дорогу надеятся тоже нельзя. Патрули НКВД нас переловят в два счёта, и с маршевой ротой обратно на фронт в атаку ходить. Хорошо если сразу не шлёпнут. Надо нам тут потихоньку сидеть. Без гармошки, костров и коров. Лично я за большевиков воевать не собираюсь.- Худосеев вынул из кармана пиджака портсигар и, щёлкнув крышкой, достал папиросу. Человек в обрезанной шинели без хлястика достал из костра ветку с горящим углём на конце, и угодливо подал её Худосееву.
Из-за завесы входа в шалаш, выскочил голый по пояс, маленького роста тощий парень, с отсутствующими передними зубами и болезненным румянцем на прыщавых щеках.
Он сразу принялся развязно изображать танец, размахивая тонкими женоподобными руками, и напевая песенку из повторяющегося словосочетания «Опа-опа». Двигая костистыми ключицами, притоптывая, прихлопывая ладонями по своей заднице, паясничая, он ходил вокруг костра, между проснувшихся мужчин, но, в основном около Худосеева. Наконец странный танцор запел фальцетом:
Раз в ШИЗО попал студентик,
Говорил что медик.
Но отдался блатарям,
Как обычный педик.
- Опа, опа, жаренная грабля. - усмехнулся Худосеев прикуривая папиросу: - Слышь, Бораздин, по прозвищу «Мышь». У меня жена, дети, и уже пара внуков дома. Ты мне эти пидорские танцы вокруг не пляши, не цепляет. Не нравятся мне пидорки. Иди своему пахану петушиные танцы танцуй.
Бораздин изобразил обиду:
- Чё, папаша? Или мы уже все тебе не нравимся. Что-то против блатных имеешь?
Было видно, что Мышь напрягся, сгруппировался, словно для прыжка и, всё ещё продолжая приплясывать, вытащил из кармана финку в кожаных ножнах с наборной пластигласовой рукояткой. Он обнажил остро отточенное лезвие, блистающее на солнце, и стал гримасничать.
Детина в наколках подошел к Бороздину сзади и блаженно улыбаясь, схватил его за ягодицы:
- Обижаешь, ты, начальник, такую девушку. Смотрю, Худой, ты со своими дезертирами совсем нюх потерял. На кого тянешь? На блатных?
- Пашуля, убери от меня этого гадкого фраера, он меня раздражает. – Бороздин притворно прижался к детине, и вдруг дернулся, повалился на спину, пытаясь разорвать майку на груди и продолжая размахивать над собой финкой:
- Гад, гад! Опозорить меня захотел, изнасиловать, гад, убью! Порежу на куски, гад! Мышь некоторое время катался по траве, по плевкам, окуркам, шелухе от семечек. Было похоже, что его на самом деле начала бить дрожь и брать судороги.
На поляне все окончательно проснулись и, сонно ворча, стали кто - садиться, кто - подниматься на ноги. Из своего укрытия Надеждин и Гецкин, то и дело разгоняя от лиц мошкару, отчётливо видели, как из шалаша вылезли ещё несколько человек в наколках и с фиксами на зубах, а поближе к Худосееву подошли наверное те, кого детина называл дезертирами. У всех в руках было наготове оружие. Приготовление мяса на костре и доение коровы тоже было окончено. И только Худосеев всё также невозмутимо дымил папиросой.
Пока люди на поляне на повышенных тонах увещевали друг друга с помощью матерных угроз и демонстрации оружия, сзади, как слон в посудной лавке к красноармейцам подобрался Петрюк.
- Ты чего, сахалинец - таёжник так шумишь-то, блин горелый.- зашипел на него Гецкин, расширяя глаза: - Облегчился, значит должен легко ходить и бесшумно.
- Я не настолько сильно облегчился, Зуся. Чего там такое?
- Ложись и молчи…
- Стрелять будем?
- Что ж ты такой неугомонный-то!
- Тише.- шикнул на них Надеждин, и в этот момент за спинами красноармейцев хрустнула ветка, и грубый голос скомандовал:
- Медленно встать, и руки вверх!
- Вот и дошумелся, Колюня.- уже громко сказал Гецкин, вставая сначала на колени, а потом и в полный рост, с поднятыми над головой руками.
- Чёрт побери, как подкрались то. Совсем без шума...- Надеждин от досады заскрипел зубами.
- Теперь давайте вперёд!
Оставив свои винтовки так, как они лежали, Надеждин, Гецкин и Петрюк с поднятыми руками перешагнули через ствол поваленного дерева, прошли через кусты дикой смородины и оказались на поляне, все споры и ругань на которой сразу стихли, а все глаза с любопытством устремились на пленных .
- Опачки! Вот и Варёный вернулся, да и с добычей! – детина с наколками на груди сунул руки в карманы своих брюк на подтяжках.
- Ты зачем их сюда привел, Варёный? – спросил Худосеев, поворачиваясь к красноармейцам лицом. Ему действительно было далеко за сорок лет, и его широкое лицо, всё в оспинах и морщинках, имело тёмно-коричневый от загара оттенок.
Варёный, тоже не молодой уже мужчина с большим родимым пятном в пол лица, в лаптях, обмотках, галифе и косоворотке без ремня, вышел из-за спин пленных. Он приставил свою винтовку к ноге, сдвинул серую кепку на затылок и, показывая большим пальцем в сторону поваленного дерева сказал:
- Я Граща к фельдшерице в Даргановку отвёл, и стал возвращаться. Слышу, кто-то рядом по большой нужде на весь лес распространяется. Я подошел тихонько и смотрю солдат этот рыжий штаны натягивает и с винтовкой под мышкой направляется в сторону лагеря. Я за ним. А тут, за деревом ещё двое притаились, как тетёрки. Похоже это те, кто на дороге в нас стреляли и Граща ранили.
- Мы в ответ стреляли.- как бы сам себе, но достаточно отчётливо сказал Гецкин.
- О! Еврейчик носатый в адвокаты записался.- притворно умиляясь, и перекладывая из ладони в ладонь финский нож, сказал Бороздин – Мышь. Он подошёл к Гецкину, открыл клапан его нагрудного кармана и извлёк оттуда красноармейскую книжку, пару небольших фотографий и писем. Из другого нагрудного кармана была извлечена серебряная ложечка, выменянная Гецкиным утром на мосту, портисаг с эмалевыми ирисами. После этого Бороздин опустил правую руку красноармейца и почти одним движением снял с него сияющие перламутровым циферблатом часы Tissot:
- Деньги где?
- На телеге остались.- ответил за товарища Надеждин.- В ранцах и вещмешках. Не много.
- Ну-ка, выворачивайте все карманы.
Пока красноармейцы выкладывали из своих карманов их не хитрое содержимое, Варёный принёс их самозарядные винтовки, которые, так же как и документы и фотографии, тут же разошлись по рукам. Худосеев, рассматривая СВТ-40, с видимым удовольствием отсоединял, присоединял магазин, щёлкал затвором, регулятором огня и спусковым курком, прицеливался в небо, и цокал языком:
- Вот это русское оружие. Не то, что при царе Николае Кровавом. Я ж в первую мировую на германском фронте с японской винтовкой «Арисака» в руках воевал. А в соседней дивизии берданки прошлого века были только. Пукалки. Что одна, что другая. Ну, и естественно патроны на вес золота. Надо ж было так страну свою Россию довести, чтоб даже своих винтовок не могли запасти к большой войне. А это значит, давай, народ, своими жизнями и ранами отрабатывай недостаток в вооружении. Помню, в 1915 году германцы, был у них тогда генерал Макензен, и генерал Гинденбург, один со стороны Пруссии начал наступление, а второй из Галиции, и как в клещи начали брать весь наш центральный фронт. Аж двадцать пять дивизий. Было всё вот как: немец к нашим окопам подходит, и своей артиллерией тяжёлой, как на барабане, начинает обстрел. Все окопы и все кто в окопах, вместе с лесом перепахивает, никого в живых не остаётся. У нас-то пушек раза в тридцать раз меньше, дальнобойных вообще нет, а снарядов у наших артиллеристов по пять штук в день на пушку. Потом германец всю линию уничтоженную занимает пехотой, ставит пулемёты через каждые тридцать метров, чтоб мы не могли к ней и на пятьсот метров обратно подойти, снова пододвигает артиллерию и всё повторяется опять. У нас на одного убитого германца тогда десять своих погибало. Кто разорван, кто засыпан, кто оглушённый в плен попадал. И так эти Макензен с Гинденбургом протаранили нашу оборону с двух сторон и начали весь западный фронт окружать. И весь фронт начал отступать и драпать. Ели успели. За одно лето Польшу всю бросили, Литву бросили, пол Белоруссии бросили, Галицию бросили. Если б у Германского кайзера Вильгельма II кавалерия была посильнее наших казаков, или были тогда танки, всю бы Русскую Армию они тогда успели бы окружить, и уже в 1916 году взяли бы Москву и Питер. Куда нам было до них тогда с японскими «Арисаками», да без патронов. Народ посмотрел на такого царя, который Россию оборонить не может, а только кровь пить горазд, и взашей его! Революция! А сейчас, сморю и душа радуется. Ей, богу. Германец при царе на два фронта воевл, а сейчас только на нас всей силищей навалился. И прёт и прёт, а сломить Россию не может. Под Москвой и Ростовом в прошлом году им наваляли по первое число. Драпал хвалёный германец так, что только пятки сверкали! Севастополь полгода брали. Питер взять не могут уже год. Вон - до Волги и Кавказа прорвались, а им навстречу вот такие солдатики, все в новеньком, и с винтовками-автоматами. Это тебе брат, не царь-идиот, который даже сапоги не мог сколько нужно обеспечить солдатам, это брат мой, силища. Вся страна поднялась. Большевики, конечно выродки полные, но страну оборонять могут!
-Вот блин, митинг ты нам прочитал тут, начальник.- детина с наколками на груди оглядел окружающих: - Я тебя Худой чего-то не пойму. Сам тут в лесу гасишься, а вроде как в партийные записался?
- Я своё отвоевал, браточек. И в Германскую, и в Гражданскую. Что такое фронт я знаю по своим шрамам и туберкулёзу. Если б меня в железнордорожные войска, или в пехоту двинули, я б ещё остался за паёк. А из пехоты я на второй день сбежал. Семью мою они чёрта с два найдут. У жены фамилия другая и она сразу уехала к родственникам в Пермь. А без пайка семье солдата они и так проживут. Учителя, знамо дело, везде нужны.
- Ща заплачу просто, только ещё «Мурку» под гитару тут спеть.- детина перевёл зловещий взгляд на красноармейцев: - А с этими фраерами чего теперь делать. Зашухирят они тут нашу малину.
- Ничего мы не защухерим, у нас задание девочек пропавших найти из Пимен-Черни. А потом вернуться в батальон и принять бой с фашистами у переправы.- сказал Надеждин, опуская руки. Поскольку на это никаких возражений не последовало, Гецуин и Петрюк тоже опустили руки.
- Чё, ты нам туфту гонишь про каких-то девочек? – искренне удивился Бороздин-Мышь, и даже перестал водить по воздуху лезвием ножа.
Надеждин, испытывая чувство дежавю, как если бы всё то, что сейчас происходит, уже с ним однажды было, рассказал что они из 208-й дивизии с Дальнего Востока, и занимают оборону у Пимен-Черни, и то, что дед Михалыч просил генерала Чуйкова, как представителя военной власти в прифронтовой полосе, помочь найти пропавшую девочку Машу, дочку Андреевны, и ещё пропавшую Лизу Стеценюк, и что в Пимен-Черни и в Даргановке, и в других сёлах всё время пропадают дети и молодые женщины, и находят потом только трупы, а милиция тут больше нет. Именно поэтому они и ехали в Даргановку, когда их обстреляли в лесопосадках из засады. Учитель Виванюк сказал, вроде, что Маша может быть у тёти своей Татьяны Павловны, хотя, вроде, она уехала неделю назад.
- Точно, есть такие люди и в Даргановке и в Пимен-Черни.- сказал тот человек, в которого Худосеев кидал сапогом, и называл Мордюковым.
- И зверюга в этой местности завёлся, это точно. Сначала мы думали, может калмыки, или дагестанцы казакам мстят за обиды, или из-за выкупа, но теперь на юге сплошной немецкий фронт, и дагестанцам не пройти, а убийств стало ещё больше. - добавил босой юноша, в солдатских галифе и в гимнастёрке без ремня.- По всей округе куски человеческих тел разбросаны. Только женские. По одежде видно, что и крестьянские дети, и городские. Жуть. Изверг. Сатана. Какое-то чёрное зло тут поселилось.- юноша неумело перекрестился.
- Да. Гнида где-то рядышком с нами тут гнездится. Знал бы кто, сам бы голову отрезал.- согласился Худосеев.- Мы тут утром, недалеко отсюда, за Змеиной Балкой, нашли нескольких. Может и ваша девчонка там есть. Там недалеко сбитый немецкий лётчик под утро опускался на парашюте. Парашют у немцев цветной, а у наших белый. Тот цветной был. Думали взять живым, подержать, а как немцы подойдут, отдать его и получить пропуск, еду, или ещё чего. Немец-то дохлый оказался, и даже одежда вся обгорела и в дырках. Печенье только у него взяли, а ещё ракетницу и пистолет. Зато парашют весь взяли. Там ткань – отличный шёлк на платье бабам, и стропы крепкие. Для хозяйства верёвки – лучше не придумаешь. А там рядышком их и нашли бедняжек.
- Платье жёлтое, или, может пионерский галстук?- Надеждин с облегчением вздохнул, увидев, как Бороздин-Мышь, наконец-то отошёл в сторону, спрятал в карман финку, и принялся обсуждать с двумя дезертирами как лучше дожарить тушки птиц на шомполах.
- Темно было. Да и не интересно это было нам. Автоматы с предохранителей только сняли, и обратно пошли. Только мороз по коже.- Худосеев погладил ладонью цевьё СВТ.- Это Гращь в вас на дороге стрелял. Думали пугануть и в телеге еду пошарить, когда убежите. Он-то со ста метров в пятикопеечную монету в сумерках попадает. Талант у него к стрельбе. Он по Сталинградской области всегда в соревнованиях первые места брал. Кто мог подумать, что молодёжь так жёстко ответит из этих своих винтовок - пулемётов. Орлы...
- Мы не хотели, дяденька.- промямлил Петрюк, хлопая рыжими ресницами.
- Хорошо. Война идёт страшная. Вам, пареньки, может, завтра умирать в бою с германцем. Жизнь ваша нам без интереса. Идите, ищите своих девочек. Может и живы они. Эй, мужики, верните винтовки и документы служивым.- Худосеев неопределённо махнул ладонью.
- Я чего-то не пойму, Худой, ты что, их отпускаешь?- детина выпятил глаза.
- А что, ты тут сейчас будешь мне расстрел этих пареньков устраивать? Ты здоровый жлоб тут со мной стариком в лесу ховаешься, а этих, кто завтра за Россию смерть пойдёт принимать, укокошить решил? Всё. Советской власти тут уж никакой нет. Кто тебе угроза? Кому они нас сдадут в этой чащобе? Глаза завяжем, и у Даргановки развяжем. Чёрта лысого, они ещё раз это место найдут. А цепями лесопосадки прочёсывать сейчас из-за нас никакая власть не станет. Вокруг толпы бегущих на восток людей, толпы дезертиров всех мастей, германские шпионы, воры, убийцы, налётчики, казнокрады, предатели. Пусть эти солдатики идут. А телегу мы без них обшарим, что нужно возьмём.
- И жидочка тоже выписать?
- А какая разница? Он же тебе не продавал на рынке старую лошадь с гнилыми зубами крашенными белой масленой краской? - усмехнулся Худосеев.- Тем более, что это цыганские штучки.
- Хорошо, корешь. Хер бы с ними. Могёшь ботать.- детина сразу потеряв интерес к пленным, сунул большие пальцы рук за ремешки брючных подтяжек и, цыкая зубом, пошёл обратно к шалашу.
Петрюк облегчённо выдохнул, и опять с гримасой боли схватился за низ живота. Гецкин, побелевший от злости, прищурившись, кусал нижнюю губу.
Все их документы и вынутые магазины винтовок пригоршней положили за ворот гимнастёрки Петрюка, а разряженные винтовки велели повесить за спины. Перед тем, как Варёный завязал всем троим глаза какими-то грязными тряпками, Надеждин успел увидеть, как все окружающие их люди, переходят примерно в то же состояние, из которого они были выведены происшествием с захватом пленных у самого лагеря: кто ложиться на свои подстилки, кто садился к костру, а худой юноша, снова устраивался около коровы. Только вот солнце стало заметно ниже, тени стали длиннее. Оттенок солнечного света приобрёл чуть красноватый оттенок, и жара начала ощутимо спадать.
- Давай пошли вперёд. Ноги осторожнее ставь. Кто повязку попробует снять, получит прикладом по затылку. И потом руки за спиной свяжу, чтоб все лбы себе об деревья поразбивали. Ну, вперёд. Левее. Пошли.- Варёный как лоцман корабль, повёл красноармейцев на юго-запад в сторону Даргановки. Если бы повязки на глазах были бы настолько плотными, что не позволяли бы ничего увидеть, то, конечно путь по лесу был бы невозможен. Однако повязки позволяли в узкую щёлочку между щекой и носом видеть полоску земли под ногами. Все трое, конечно, попеременно падали, и постоянно спотыкались. Идти быстро было в любом случае невозможно, не рискуя войти в плотный кустарник, удариться о ствол дерева, или упереться животом в остриё торчащей навстречу ветки. Путь был долгим и мучительным. К тому же из-за Петрюка, который никак не мог совладать со своим бурлящим желудком, всем приходилось подолгу стоять, ожидая его очередного облегчения. Духота и мошкара, а также до конца не известный исход этого пути, действовали угнетающе. Хотелось сорвать повязку и бежать изо всех сил. Однако, усталость, накапливавшаяся с момента ночной разгрузки батальона в Котельниково, усталость от изнуряющего марш утром и днём под палящим солнцем вдоль Курмояровского Аксая, от блуждания по лесу, без горячей еды и отдыха, настолько измотали Надеждина, Гецкина и Петрюка, что каждый из них, сейчас думал только о том, чтобы сесть, лечь и закрыть глаза, хоть бы на час. Тем более, что судя по тому, что им вернули оружие и документы, и их конвоирует всего лишь один лесной обитатель со старой винтовкой, до освобождения им оставалось совсем чуть-чуть.
Наконец, Варёный разрешил им снять повязки и, закинув свою винтовку за спину, с сожалением поглядев на свои лапти, а потом на ботинки Петрюка, махнул рукой вперёд, и перед тем, как скрыться в листве, уже не таким, как раньше грубым голосом, сказал:
- Там это место, где мы этих нашли, когда утром за сбитым немецким лётчиком ходили. Всё, давайте, не попадайтесь больше. Повезло вам на этот раз, что Худой был не в отлучке. А то б, шлёпнули бы мы вас за Граща точно, и за то. что лагерь видели... Прощайте, парни.
Когда Варёный как призрак растворился в тенях и звуках лесопосадок, красноармейцы утомленно опустились на траву, а первым делом вытрясли из гимнастёрки петрюка свои документы и фотографии и зарядили винтовки.
- Теперь порядок. – облегчённо сказал Гецкин. – Колюнь, ты своим поносом нас чуть на тот свет не отправил. Смотри, теперь мы из-за тебя без ранцев, шинелей, воды. Без еды и телеги. И ложечку мою любимую серебряную этот пидорочек-Мышь заиграл себе.
- Это почему это из-за меня? Я что ль предложил за ними следить. Это вона, Петя сказал.
- Чего ты на москвича валишь, он, что ли своим поносом наше положение демаскировал?
- А чего теперь, и по нужде нельзя ходить?
- Нужда нужде рознь, сахалинец.Ты там такую органную симфонию Баха еа весь лес исполнял!
- Хорошо, что мы тогда этого Граща не укокошили на дороге, а то бы эти бандиты нас точно шлёпнули бы.- угрюмо сказал Надеждин поперёк этого препирательства.
- Ух, как ноги болят, уй, мамочка! Сколько же можно ходить-то! – Петрюк с гримасой страдания начал было снова расшнуровывать свои зловредные ботинки, но Гецкин его отвлёк от этого занятия:
- Это что, кровь?- на его поднятой ладони был бурый пыльный след.
- Кровь?- Петрюк наклонился, провел ладонью по траве, и обнаружил на ней похожий оттиск. Оглядевшись, он увидел, что вся трава и листва вокруг забрызгана бурой, почти уже высохшей жижей.
- Это старая кровь. Она уже чёрная почти. Гемоглобин, железосодержащий компонент в красных кровяных тельцах крови окислился в кислороде, который содержится в воздухе.- Надеждин, сидя на окроплённой кровью траве, в сильном волнении щурился, и гонял языком бугорок под своей щекой.
- Ничего себе, москвич, ты словечки знаешь.- удивился Гецкин.- Откуда такие познания Петруха?
- Я один курс Московского училища НКВД имени Менжинского почти закончил, прежде чем на Дальнем Востоке оказался. Там был предмет по судебно-медицинской экспертизе в курсе следственных действий.
- Ничего себе. Из училища НКВД просто так после первого курса на окраине страны не оказываются. Ты беглец. Может быть и фамилия у тебя другая.- с ещё большим удивлением сказал Гецкин, и даже похлопал себя по колену: - Ну, и компания у нас подобралась. Я из Аргентины переселенец, Колюня из Сахалинских ссыльнокатожных мест, ты в бегах, наверное сын врага народа…
- Полегче шути, Зуся, про сына врага народа и всё такое.- Надеждин продолжал рассматривать следы крови вокруг.
- Не боись, следователь, прорвемся. Правда Колюня? А запах тут тоже какой-то странный. И мух навалом, как на коровнике или бойне. Комарьё то понятно, его тут из-за реки полно, а мухи-то, мухи! Запах напоминает что-то, погоди, не разберу. Э-э! Что это?! Слышите?– Гецкин вытер ладонь об обмотки на голени и, вытянув шею, начал всматриваться в окружающие заросли: - Слышите?
Все трое начали крутить головами из стороны в сторону, и их периферийное зрение стало фиксировать малейший скачок цикады, трепыханье мотыля, или движение травы из-за бегущей мыши. Кажется, что они сейчас были способны почуять даже падение сухого листа на расстоянии в сотню метров. Слева от Гецкина за листовой что-то явно двигалось. Движение было очень медленное и осторожное. Оно скорее чувствовалось кожей, чем наблюдалось глазом. Неожиданно с той стороны с противным клекотом взлетели многочисленные птицы. Это были вороны.
- Ах ты, блин! Я вас! – Петрюк потянулся к винтовке, но Гецкин схватил его за руку:
- Тише. Ты уже нам сегодня устроил один раз весёлую жизнь. Сиди!
В том месте, над которым с гадким карканьем продолжали кружить вороны, отчётливо донеслись шорохи и фырканье. Источник этого звука был не один.
– У меня от этих поисков скоро руки трястись будут. Это что, они, или оно, или она…- Гецкин по-прежнему держал Петрюка за руку, и только после того как странные шорохи начали быстро удалились, он его отпустил.
Надеждин устало поднялся:
- Пошли туда.
- Господи! Опять пошли! И что ты такой упёртый? Дай хоть дух перевести, начальник! - взмолился Гецкин.
- Скоро будет темнеть, и мы, во-первых, ничего не увидим, во-вторых, будем тут пол ночи плутать, пока дорогу найдём к Даргановке. Не плохо было бы ещё и вещи наши успеть найти. Может бандиты нам нашу лошадь-клячу и телегу развальню оставят всё-таки. Пошли. Я, например, не хочу от таких шорохов потом шарахаться. Если там чёрт с рогами, то я его увидеть хочу. Пошли. Пошли!- Надеждин двинулся через орешник к месту над которым кружили птицы. Гецкин и Петрюк, отмахиваясь от паутины и мошкары, нехотя последовали за ним.
На небольшой прогалине на людей стояли и смотрели маленькими злыми глазками, с лесным сором на мокрой, побуревшей короткой шерсти морд, несколько животных среднего размера.
- Кто это? Волки? Лисы? Да, скорее лисы! Вот вам, как нас пугать! – бледность с лица Петрюка быстро схлынула. Он молниеносно вскинул свою СВТ-40 и, с видимым наслаждением и облегчением сделал нескольких выстрелов в ближайшего зверя. От лисицы полетели клочья шерсти и мяса, а саму её отбросило на несколько метров.
Остальные лисицы кинулись врассыпную.
- Охотник, блин, отставить стрельбу!- Надеждин изо всей силы, держа винтовку двумя руками перед собой, толкнул Петрюка в плечо.- Идиот!
- Ты чего? Чего толкаешься?
Невообразимый гвалт, поднятый птицами после выстрелов, заглушил дальнейшие угрозы в адрес Петрюка.
Гецкин тем временем, равнодушно перешагнув через тело убитой лисицы, сделал несколько шагов сквозь заросли орешника, и остановился как вкопанный. Впереди была ещё одна небольшая прогалина. Лисицы стояли неподалёку. Не уходили. Ждали, когда люди пройдут мимо.
- Ребята, может, пойдём отсюда от греха. Какие-то жуткие места тут, вроде как проклятые? - заныл Петрюк, потирая ушибленное плечо, и подозрительно вдыхая жуткий запах, витающий над прогалиной.
- Не ной. А ещё комсомолец. Может ты ещё и верующий вдобавок? – зло сказал Надеждин, подходя к Гецкину.- Ну, что встал?
Приторно сладкий, тошнотворный запах усилился до того, что хотелось зажать нос. Вокруг вовсю суетились, роились блестящие мухи. Прилетали, улетали деловыми кучками. На этой небольшой прогалинке, утыканной ростками молодого ясеня, высотой не выше пояса, видимо высаженного искусственно, вся трава была умята, будто здесь долго кто-то топтался. Почти везде виднелись следы крови, а в маленьких впадинках она даже образовала небольшие лужицы перед тем, как начать высыхать. То тут, то там валялись обрезки верёвки, окровавленные тряпки, какие-то бесформенные предметы, сплошь облепленные мухами. Чёрные и серые вороны деловито расхаживали повсюду, что-то клевали и то и дело хрипло перекликались.
У Гецкина свело горло, и он стиснул его ладонью, подавляя кислый ком лезущий вверх:
- Кровищи-то, кровищи. Будто свинью резали!
- Ну, и свиней сюда приводили в одежде и связанными.- мрачно ответил Надеждин, подавляя подступающую тошноту.- А вот это явно не свиное. Похоже на половинку ремешка от наручных часов или сандалий небольшого размера. А где же, интересно, сами сандалии?
Худосеев обошёл Гецкина и, наклонившись над травой, как грибник, принялся ходить туда сюда, вороша траву стволом винтовки. Его цепкий взгляд выделил маленький кусочек ткани: рисунка на нём было не разобрать, всё пропиталось кровью. Это был кусок не то платья, не то рубашки, с застроченной на машинке складкой.
Глава 10
СТРАХ
- Ничего не пойму. Тело-то где? Труп. Трупы. Кому понадобилось их прятать, в этой глухой чащобе? – Надеждин обернулся на шум ломаемых веток. Это через орешник в сторону могучего, старого дуба, царившего над обступившими его кустами, оглядываясь и держа оружие наготове, продирался Петрюк. С трудом заглатывая смрадный воздух приоткрытым ртом, и затравленно озираясь, он храбрился и пытался ступать:
- Ладно-ладно, следователь, ты человек любопытный, из столицы. Банкуй тут с Зусей. А я отойду подальше.
- Может, и вправду пойдём отсюда?- Гецкин продолжал держаться за горло, наблюдая, как Надеждин шарит по траве.
На другой стороне прогалины, близко, очень близко, среди нудного стрекотания насекомых, и разноголосой переклички успокоившихся птиц, совсем недалеко лопнула сухая ветка, а затем появляется звук, словно у кого-то голодно урчало в животе.
Надеждин и Гецкин застыли словно каменные. Их чувства обострились до предела, а зрачки глаз быстро побежали по примятой траве, по забрызганной кровью листве. Наконец Надеждин совладал с волнением и, подойдя к товарищу вплотную, взял его за пряжку поясного ремня:
- Слушай, Зуся, не могу я просто так уйти. Я должен знать, что это не чертовщина, и что я не спятил за компанию с тобой, и это не кошмарный сон. Не может такого быть; идешь, идешь по лесу и вдруг бац! Лужи крови и больше ничего! Понимаешь? Должен быть труп. Ведь мертвые не ходят. Не ходят, черт меня побери! И лисицы, лисицы ведь жрали чего-то, и ой как не хотят убираться. И вороны…
Гецкин осторожно вынул из руки Надеждина пряжку своего ремня, и несколько отодвигаясь, ответил:
- Знаешь, Петечка, мне, честно, по барабану твои поиски трупов. Мы ищем живую Машу и Лизу. Если помнишь, мы идём в Даргановку, что бы узнать, там ли девчёнки, или нет. И всё. Мы что тут, по твоему, до ночи должны по этим лесопосадкам лазить? Нас тут уже и обстрелять успели, и телегу мы потеряли с вещами и припасами, и дезертиры с урками нас чуть не грохнули. Ты, Петюня, как хочешь, а мы с Петрюком идём в сторону дороги, телегу нашу искать, пока не стемнело. А ты сам думай, следователь-студент!
Гецкин решительно развернулся, и двинулся через кустарник вслед Петрюку, который как раз в этот момент оказался около дуба, обойдя который, вдруг невнятно вскрикнул и, закрываясь рукой, отвернулся от чего-то ужасного. Через секунду стало слышно, как он судорожно глотает воздух, силится что-то сказать, заикается, несвязанно лопочет начальные буквы алфавита, а потом, бросая винтовку, падает на колени и его начинает неудержимо рвать на траву.
Надеждин с Гецкиным, спотыкаясь о корни, и поскальзываясь на траве, не обращая внимания на жесткие удары ветвей по лицам и рукам, кинулись к Петрюку.
- Ух, мамочка дорогая.- поражённый увиденным Гецкин отвернулся и, зажмурив глаза сел на траву рядом с Петрюком.
- Ну, вот и трупы. - в сознании Надеждина непроизвольно закрутилось профессиональное колесо, пункты осмотра места происшествия, намертво вбитые на курсе следственных действий в училище: три трупа висят рядом, на одном суку. Дерево – дуб, расположено в труднопроходимых зарослях орешника. Тела чуть касаются друг друга. От свисающих пальцев ступней до утоптанной травы чуть больше ширины ладони. Трупы сильно обезображены. Судя по пропорциям тел и наличию других признаков, остатков длинных волос, это девочки-подростки, или молодые женщины, лет четырнадцати-восемнадцати. На лица грубо нанесена пудра, глаза подведены сажей, губы не аккуратно накрашены помадой, видимо косметические средства и сажа наносились посторонней рукой уже после подвешивания тел. Одежда полностью отсутствует. Посторонних деталей, кроме полос ткани неопределенного цвета, стягивающих щиколотки и запястья, и постороннего макияжа - нет. Роста все убитые среднего, телосложения скорее плотного, хотя из-за отсутствия многих частей мягких тканей, определить это тяжело, однако, скорее всего мышцы рук и ног для вышеуказанного возраста были развиты хорошо. Кожа гладкая, бледно-коричневая, со следами интенсивного загара. На её неповрежденных участках имеются слабо выраженные трупные пятна. Смерть, с учётом высокой температуры воздуха, вероятно, наступила не более двенадцати часов назад. Причина смерти множественные ранения в области груди и шеи, конечностей, с последующим удавлением посредством повешения. Шеи сдавлены петлями, вывернуты, языки выпали и прикушены. Некоторое удлинение шей и характерное запрокидывание голов свидетельствует о том, что после подвешивания тел, преступники или преступник, повисали на ногах жертв, чем зазывали переломы и раздвигание шейных позвонков. На оставшихся участках мягких тканей рук и ног, видны синюшные кровоподтеки от сдавления проволокой или верёвкой. На телах имеются следы пыток, множественные кровоподтеки, надрезы, нанесенные остро отточенным предметом. Часть мягких тканей с бёдер, груди, живота, спин, срезаны. Брюшные полости всех жертв вскрыты. Видны остатки внутренних органов чёрно-синюшного цвета. В кулаке висящего справа трупа зажат пучок выдранной с корнем травы. Колени зазелены травой. На телах имеются так же посмертные ранения без выделения из ран крови, и нанесенные, скорее всего птицами – падальщиками. Яблоки глаз у жертв частично выклеваны…
- А почему тогда такая свежая кровь была на прогалине? Кровь этих девушек должна была уже засохнуть. Значит должны быть еще тела или тело… – Надеждин медленно достал из ножен штык-нож от винтовки и, привстав на носках, начал перерезать веревки. Тела одно за другим с глухим стуком упали на землю, подняв целое облако мух. После этого стало видно, что на веревках, рядом с узлами петель были закреплены небольшие картонные бирки с десятичными числами, вроде тех, какими нумеруют канатные бухты, но надписи разобрать было сложно, слишком сильно они были запачканы кровью и землёй. Толи 46 и 47, толи 85 и 81. Пока Надеждин рассматривал эти странные бирки, за его спиной не прекращались клокочущие, булькающие звуки. Петрюк всё ещё стоял на карачках, и давился теперь не рвотной массой, которая уже вся вышла, а собственной слюной и душным, зловонным воздухом. Его выворачивало наизнанку и он, еле удерживался на руках, чтобы не повалиться ничком от бессилия. Поодаль от Петрюка, на кочке, на расстеленном обрывке ткани голубого цвета в белый горошек, перепачканные травой, землей и кровью, были разложены окровавленные куски плоти, из-за которых ссорились несколько ворон. Некоторые куски валялись в стороне, испачканные лесным сором и землёй. Везде в несчётном количестве роились мухи разных размеров и цветов. Тут же рядом, валялся страшный мусор: обрывки бантов, босоножки, побуревшее от крови рваное тряпье, в котором смутно угадывались части одежды.
- Вот что жрали тут лисицы… Человеческое мясо! – бледный Гецкин исподлобья посмотрел на Надеждина: - Всё?Доволен?
Он с трудом подавил новые позывы рвоты и пнул Петрюка в подошву ботинка:
- Долго ты тут будешь свой рацион за последнюю неделю демонстрировать? Нашёл место для привала. Уходим давай. Нет тут нашей Маши и Лизы. Им по двенадцать-тринадцать лет. А эти девки, вон, какие здоровые были…
Гецкин, которого всё ещё продолжали душить спазмы, поднялся и потянул Петрюка за воротник гимнастёрки, и почти что поволок его за собой, лишь бы побыстрее уйти от этих изувеченных трупов, от роя сытых, блестящих мух, нагло садящихся на бледные лица живых и мёртвых. Прочь от плотного, жуткого трупного запаха.
Петрюк, волоча по земле за ремень винтовку, наконец, сделал несколько самостоятельных шагов и тут же, поскользнувшись на чём-то жёлтом, упал лицом вниз. Эта встряска от падения окончательно привела его в чувство. Он уже раскрыл полные слёз голубые глаза, и остервенело вдавил каблуком кусок обнаруженного склизкого хозяйственного мыла:
- Смотри, Зуся, эти изверги после зверской бойни ещё и руки тут помыли, сволочи!
- Зверье, собственными руками удушил бы! Кто... Кто это мог сделать...– Гецкин с Петрюком двинулись напролом через заросли с ничего не видящими ошалелыми, безумными глазами.
Воздух заметно посвежел. Жара отступила, но не духота, несмотря на то, что в гамму ощущений добавился легкий ветерок, который зашелестел в листве, задергал верхушки деревьев. Зато стало больше комаров и мошек. Они тучами взвивались навстречу из-под влажных корневищ деревьев и кустарников, облепляли руки, лезли во рты, ноздри, уши, в глаза. Казалось, их можно было размазывать по лицу как кашу. Надеждину удалось нагнать Гецкина и Петрюка лишь спустя полчаса, уже в яблоневых садах у самой дороги. Отсюда, через прорехи в ветвях деревьев, за ровными полосками бахчей, были видны крыши и столбы линий электропередачи и связи, над которыми кружили птицы. Это была Даргановка. До неё было километра три, может чуть больше. Фигурки людей на бахчах казались с такого расстояния размером с булавочную головку. Соломенные, дощатые, изредка крытые металлическим листом крыши домов, дровяных сараев, конюшен и амбаров, хаотично располагались среди холмистого пространства по обе стороны Курмояровского Аксая. Река была не видна из-за постоянных изгибов русла и высоких обрывистых берегов. Она скорее угадывалась по верхушкам деревьев, густому кустарнику и зарослям камыша. Косые лучи вечернего солнца контрастировали с глубокими, почти чёрными тенями среди домов и зарослей, подчёркивали складки многочисленных оврагов, идущих из безлесной степи к реке, и придавали всему пейзажу вид абсолютно умиротворённого покоя. Если бы не столбы пыли в степи и не чёрно-синий дым на горизонте, можно было бы подумать, что в таком прекрасном мире очарования и покоя, жестокая война никогда не может происходить наяву, а может только присниться, или пригрезиться.
У дороги, в вернее у накатанных телегами и автомашинами борозд в коричневой глине, Гецкин и Петрюк, наконец остановились и уселись перевести дух.
- Видал, что в жизни бывает? Дьявол живёт среди нас. - подавленно сказал в пустоту Гецкин.
- Как люди могут такое делать?- отозвался Петрюк затравленно оглядываясь на подходящего сзади Надеждина: - Когда мне рассказывали о зверствах японцев у нас на Сахалине, или о зверствах фашистов против советских людей на оккупированной территории, я даже не всегда верил, что люди могут такое делать с людьми. А когда сам видишь девушек, замученных, истерзанных и убитых…
Гецкин молчал.
- Я так устал, Зуся, что даже ноги перестали болеть. – продолжил Петрюк: - Теперь просто всё тело болит. Мне кажется, я больше и шага не смогу теперь сделать.
- Нужно было остаться и похоронить их. – сказал Надеждин останавливаясь перед товарищами и опираясь на винтовку, как на костыль: - Не по-людски было их там так бросать, чтоб их птицы клевали и лисицы жрали. У этих девушек и мамы, и папы были, и им хотелось жить, любить и детишек воспитывать.
Ответа не последовало.
Надеждин сел на траву рядом с товарищами, а потом и прилёг на локте, глядя в сторону Даргановки. Заметив среди листиков две крохотные землянички, он сорвал их и съел. Сладко-кислые ягодки подчеркнули горький вкус во рту. Потом он оглядел себя и начал машинально отряхивать с гимнастёрки и галифе листья, паутину, жучков, какие-то семена, комочки земли. Сколько они просидели так в молчании, у вымершей будто дороги, среди шорохов листвы и жужжания насекомых, среди птичьего пения и гула самолётов в небе, сказать было сложно. Над крышами Даргановки медленно, чуть заметно двигались редкие белёсые облака, а серые тени на них слагались в прихотливые узоры, похожие иногда на лица, иногда на паруса кораблей, или какие - то затейливые орнаменты.
- Чего молчишь, москвич?- глухо спросил Гецкин. – Как думаешь, кто это мог сделать? Может бандиты из Змеиной Балки?
Надеждин чуть заметно покачал головой:
- Может они там и уроды все, и финкой в живот пырнут, и выстрелят в затылок, но чтобы резать на кусочки женщин? Это нужно иметь жуткую ненависть ко всем людям и даже к самому себе. А у этих бандитов есть какие-то свои принципы. Они могут захватить среди беженцев любых женщин, и куражится над ними, а потом посадить к себе на цепь, или убить и выбросить как не нужные вещи, но чтобы вот так - вырезать им грудь, кишки и сердце, да ещё прицеплять бирки с номерами, вроде как на охотничьи трофеи... Нет. Это что-то другое. Террор. Месть. Сумасшествие.
Некоторое время красноармейцы молчали, пока невдалеке, со стороны реки не послышался звук, бренчание, похожее на легкие удары ложечкой по подстаканнику. Гецкин встрепенулся и зачем-то пригладил волосы на потном лбу:
- Слышите?
Они некаторе время прислушивались, пока слава от них, из-за поворота дороги не появилась стройная молодая женщина в синем шёлковом платье в белый горошек, в небольшая шляпке из соломки с синей лентой, в тон платья, и в белых открытых туфлях на каблуке. В одной руке у неё был небольшой коричневый чемодан, а в другой большой, но видимо лёгкий куль. Она шла усталой походкой, но при каждом шаге её упругое тело под шёлковым платьем чуть заметно подрагивало, а бёдра раскачивались, как если бы она всё ещё шла по тротуару на Крещатике в Киеве, или по вечернему бульвару Ростова. Следом за ней, с трудом и с гримасой обиды, шла девочка лет десяти, в коротком, выше колен запылённом голубом сарафане и в белой тканевой панаме.
- Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты. Как мимолетное виденье, как гений чистой красоты. Ну, и краля! Какие ножки в всё остальное! Сегодня целый день кругом женщины. То Зойка голая бегает, то эта.- Гецкин встрепенулся и поднялся на ноги, словно и не было усталости, недавней смертельной опасности и кровавого ужаса на поляне.
- То на деревьях висят, то ходят как на балу разодетые. - мрачно пошутил Надеждин.
Увидев впереди в нескольких метрах от себя неожиданно появившегося из высокой травы красноармейца, женщина остановилась, и по её ухоженному лицу, под тенью шляпки, пробежал сначала испуг, а потом удивление и равнодушие.
- Ты куда, Зуся? Знакомиться с блондинкой? – Надеждин приподнявшись равнодушно оглядел остановившуюся молодую женщину и девочку. В его ушах всё ещё звучал глухой стук падающих на землю тел замученных женщин.
- Здрасьте, гражданочка. Чего это вы тут с дочкой в одиночестве бродите между Пимен-Черни и Даргановкой? Все вроде к Сталинграду идут. Там магазины, транспорт, милиция, переправы. – Гецкин выбрался на дорогу, закинул винтовку за спину, нацепил свою пилотку чуть набок, для форса. И поняв, что вся его гимнастёрка и галифе, а так же обмотки и ботинки покрыты лесным сором, паутиной, и дохлыми мухами, принялся быстро отряхивать себя ладонями.
- Я, товарищ военный, должна на этой дороге встретится с очень любезным и интеллигентным мужчиной из Пимен - Черни, который пообещал мне с дочкой, что устроит нас на проживание с полным понсионом за очень небольшие деньги у своей знакомой в Даргановке. Его зовут Василий Владимирович. Он школьный учитель. – мелодичным голосом словно пропела женщина и слегка, но от этого совершенно обворожительно улыбнулась.- Василий Владимирович убедил нас всех, что в Сталинграде невозможная теснота от эвакуированных и беженцев. Люди спят прямо на земле. Еды нет, даже за очень большие деньги. Везде спекулянты, мародёры, грабители и воры. А всех прибывающих сразу гонят копать окопы и противотанковые рвы. А на пароходы и в поезда грузят только оборудование предприятий и документы контор. Там, по его словам, очень и очень опасно.
- Дядя ещё сказал, что у него для нас есть только два места. И наши дядя Коля и дядя Ваня, пошли сами по себе в город. – сообщила в свою очередь девочка в белой панаме голосом чрезмерно громким и пронзительным.
- А одной ходить по лесу, где чёрт его знает что происходит в прифронтовой полосе, значит, не опасно? - пробурчал себе под нос Надеждин, с сожалением прислушиваясь к ощущениям усталости и ломоты во всех мышцах, и то, как зудят натёртые обувью ступни.
- А я Зуся Самуилович Гецкин. В будущем поэт – песенник и композитор. Тут я временно как доброволец. На следующей неделе я должен ехать в офицерское училище поступать. Вызывали уже. Где, говорят, Зуся Моисеевич? Мы его ждём. А там вон мои боевые товарищи Петя и Коля. – Гецкин расплылся в улыбке, словно увидел целый бидон сливочного масла и столько же густой сметаны.
- Ах, какая прелесть. Композитор. Очень приятно. А меня зовут Наталия Андреевна. Хотя, у нас не очень большая с Вами разница в возрасте. Можете меня называть просто Наталией. А вам, товарищ военный, не встречался на дороге человек на велосипеде? – продолжала хлопать подкрашенными ресницами женщина.
- Вот блин, врунишка. А что же это всё-таки такое в лесу дзинькает то всё?– снова вполголоса заметил Надеждин.
- Нет. Не видели мы такого. Мы тут важное задание командования выполняем, вообще-то. – с важным видом сказал Гецкин, закончив наконец отряхиваться, что впрочем его обмундированию не очень-то и помогло.
Не успели они после этого перекинуться хотя бы ещё хоть парой слов, как среди яблонь, сначала замелькал, а потом и появился мужчина на велосипеде «Украина», лет пятидесяти, в серой кепке, в синей косоворотке, чёрных брюках, заправленных в короткие калмыцкие сапожки. Правая брючина была почти до калена закатана, чтоб не попала в велосипедную цепь. Он чему-то странно улыбался и вроде даже напевал себе под нос какую-то песенку. На багажнике велосипеда над задним колесом был приторочен большой куль из брезента. Переднее колесо велосипеда скакало по кочкам, мягко обтекало мелкие камешки и чуть проступающие корни деревьев, и из-за этого толи звонок на руле, толи поклажа, издавала жалобный тренькающий металлический звук. Только теперь красноармейцам стала заметна едва различимая тропинка, подходящая с той стороны к дороге почти к тому месту, где они расположились на непредвиденный привал.
- Вот же он, Василий Владимирович! – радостно сказала Наталия и, поправив шляпку на соломенно-золотистых подвитых волосах, замахала узкой ладонью: - Товарищ учитель! Товарищ!
- Это ж учитель Виванюк, который чуть ли не больше Андреевны из-за пропажи Машеньки страдал! - неподдельно изумился Гецкин.
Надеждин, который до этого полулежал, опершись на локоть и закрыв уставшие от солнечного света глаза, через силу, но быстро поднялся. Когда велосипед коснулся протектором шины колеи дороги и, заметив женщину и девочку, Виванюк расплылся в довольной улыбке, ещё не различая скрытых от него кустами красноармейцев, Надеждин шагнул вперёд и вытянул перед собой раскрытую ладонь:
- Ну-ка, стой!
Для учителя это появление было, видимо, неприятной неожиданностью. Улыбка исчезла с его лица, и он в секундном замешательстве ещё несколько метров проехал по дороге в сторону Пимен-Черни. Однако после этого Виванюк вернул улыбку на своё место и, разыгрывая бодрую невозмутимость даже пропел тихонько:
- На земле, в небесах и на море, наш ответ и могуч и суров. Если завтра война, если враг нападёт, будь сегодня к походу готов. Пум – пу - бум… Пум – пу - бум… Велосипед остановился, тренькающий звук смолк, а Виванюк с маской радушия театрально произнёс:
- О-о! Наташенька, какое чудо Вас снова увидеть. Всё-таки решились принять моё предложение. О-о-о! И солдатики тут! Ой! Ну и видок у вас, служивые. Как у леших. Какими судьбами? Вы уже что, из Даргановки возвращаетесь? А телега ваша где? Маша где? Нашли?
- Интересная встреча.– сказал Надеждин подходя ближе и осматривая крепкую раму велосипеда учителя, широкие и новые шины, багажник-прищепку, с большим брезентовым кулём: - Хорошая машина.
- Да-да. У беженцев на сало сегодня выменял. ХэВэЗэ - Харьковский велосипедный завод. Ему и сносу не будет. Теперь это уже вполне довоенный раритет. Немцы то Харьков себе взяли. Только вот в спицах всё время что-то щелкает. А так – отличный велосипед. – согласился Виванюк и обозначил в сторону женщины некое подобие полупоклона: - Ведь сало сейчас почти что золото, не так ли, Натальюшка?
- Ах, как это всё печально теперь, Василий Владимирович!
- И куда вы едете и откуда? – Надеждин с плохо скрываемым интересом стал рассматривать одежду учителя, которая была вся покрыта лесным сором, паутиной, семенами камыша. На его сапогах и на деталях велосипеда были свежие ещё куски влажной прибрежной глины и земли, а на руках и лице Виванюка - множество мелких красных ссадин и даже царапин. На куле, на одежде были заметны пятна какой-то бурой жидкости.
- По делам. – Виванюк отогнал от лица мошек, и ловко размазал по щеке комара, успевшего, однако, хватить изрядную порцию крови. Он брезгливо посмотрел на свои окровавленные пальцы и покривился:
- Вот кровопийцы.
- Да эти мошки и комары несносны. – женщина вполне искренне нахмурила подведённые брови: - Я столько одеколона «Красная Москва» на них извела. Не помогло, знаете ли.
- А, что, собственно, товарищ учитель, у Вас тут за дела в зарослях у Змеиной балки? Чего это Вы тут разъезжаете? Вот в Пимен-Черни, к примеру, все сейчас заняты на похоронах жертв авианалёта у моста, или на рытье траншей. Что это за странная знакомая у Вас в Даргановке, которая пенсион предлагает. Уж, не Татьяна ли Павловна часом, которая на самом деле неделю назад как из Даргановки в Абганерово уехала?
- Постойте, как уехала? – насторожилась Наталия Андреевна.- Значит, мы зря своих мужчин отправили в Сталинград, а сами решили тут остаться?
- Вы в любом случае зря в этом хаосе отправили от себя своих мужчин. – кивнул Надеждин, продолжая с любопытством рассматривать замусоренную одежду Виванюка.
- Я, молодой человек, во-первых, решил вроде как Машу поискать у реки, вдоль зарослей камыша. Может они там ото всех прячется. Эти маленькие девочки, знаете, такие фантазёрки! Мне эта девочка так дорога, что я по ночам из-за неё спать не могу. Это для вас она чужая, и вы не разу её и не видели. А я её каждый день видел, и взрослела она на моих глазах. Так то. А во-вторых, у меня на этой дороге свидание с Наталией Андреевной. – Виванюк осторожно потрогал пальцем несколько параллельных, вздувшихся красных царапин на своей шее.
- Свидание обычно назначают как в фильме «В шесть часов вечера после войны», на городской площади, под часами, с цветами, а не на дороге длинной десять километров в глухих зарослях у самого фронта. – Гецкин уже больше не улыбаясь, снова снял пилотку и засунул её за поясной ремень.
Возникла неловкая пауза, в течении которой люди, размышляя каждый о своём, то и дело отмахивались от насекомых. Наконец Виванюк разглядел в траве всё ещё бледного Петрюка, перепачканного рвотной массой:
- А чего это с вами такое приключилось, солдатики?
- Нас бандиты обстреляли на дороге. – ответил за товарищей Гецкин, обходя учителя и становясь у того за спиной: - Тут, папаша, дело такое случилось. Колхозники недавно проходили и сказали, что учительница Татьяна Павловна со своими детишками неделю назад уехала из Даргановки в Абганерово. И нам, знаешь, совсем непонятно, почему ты тогда всем соврал, что у ты неё был вчера? Не мог ты у неё быть вчера, если она неделю назад уехала. Понимаешь? Враньё это. А если это враньё, то значит, ты мог соврать всем и про то, что Машу с козой видел у Змеиной балки. А зачем? Интересный вопрос. А затем, чтобы нас на ложный след пустить. А что это значит? А это значит, что ты знаешь, какой след не ложный? Ну-ка, учитель, говори нам всю правду! Что ты тут делаешь? Что у тебя в свёртке? А это что у тебя на одежде? Смотри-ка, Петруха, у него кровь на одежде!
- Ай, такой умный солдатик, не иначе еврей.
- Да. Похоже на кровь – Надеждин подойдя к Виванюку вплотную, ещё раз рассмотрел на его синей косоворотке, на груди и животе несколько бурых расплывшихся пятен. Пятна на брезентовом свёртке, притороченном к багажнику велосипеда он даже потрогал пальцем: - Похоже на кровь. Свежую. Это что за пятна, гражданин?
Виванюк, на которого слова Гецкина и Надеждина словно и не произвели никакого впечатления, виновато посмотрел на Наталию Андреевну, словно извиняясь взглядом за возникшее небольшое недоразумение из-за глупости красноармейцев, снял кепку, пригладил короткие седые волосы, помахал кепкой на себя, снова надел её, наклонив чуть на сторону, и спокойным голосом ответил:
- Молодые люди, ваша игра в героя пограничника Карацупу с его верным четвероногим другом Индусом, мне не очень нравится. Я в Пимен-Черни уважаемый человек. Учительствую уже десять лет. И не надо мне тыкать и называть меня папашей. Я вам не папаша, молодые люди. Я не знаю, что вам наплели даргановские колхозники - лапотники, и почему они сказали, что Татьяна Павловна уехала в Абганерово. Я не знаю. Они все пьяницы и голь подзаборная. Вчера Татьяна Павловна была в Даргановке, и я у неё был в гостях. Девочку, вроде как Машу, я видел собственными глазами, поэтому про это и сообщил. Сейчас я, к примеру, еду из Небыково. Ехал по степным тропинкам и через брод на Аксае, и по лесопосадкам, потому, что сейчас все дороги забиты беженцами, патрулями НКВД и бандитами. Что, теперь нельзя по тропинкам вокруг своего села ездить? В чём вопрос? Чего вы ко мне прицепились? Я вот, к примеру, смотрю, что вы тут очень даже прохлаждаетесь! Вам ведь генерал Чуйков поручил девочек искать, а вы тут разлеглись! Отдыхаете. Вопросы провокационные задаёте. Вопросы задавать должна милиция, или хотя бы офицер войск НКВД. Вы то сами, ещё мальчишки. Вы тут просто посыльные. Дошли до Даргановки, проверили всё, вернулись и доложили. Всё. И телегу колхозную потеряли. Разгильдяйство это, товарищи, государственное имущество терять. Преступная халатность. Ну, ладно, хватит. Передавайте привет Татьяне Павловне. Находите телегу, и шагом марш в батальон, Родину защищать. Спасибо за помощь и счастливо оставаться, ребята! Нам с Наталией и её прелестной дочуркой нужно своими делами заниматься.
- Да, да, мы, пожалуй, пойдём.- согласилась блондинка в синем платье в белый горох, и подняв ладошку, пошевелила тонкими пальчиками с неожиданно аккуратным маникюром: - До свидания.
- До свидания. – повторила за ней девочка пронзительным голосом.
Глядя на то, как Виванюк отрывает от земли подошву сапога и начинает балансировать, постепенно надавливая на педали велосипеда, Надеждин отметил какое-то чрезмерное спокойствие учителя, совсем не похожее на ту его угодливую суетливость, которую была продемонстрирована всем в разговоре со стариком Михалычем и Андреевной, днём на мосту у Пимен-Черни. Вокруг этого человека люди бегут в страхе и ужасе к Сталинграду и за Волгу, Советская власть шатается и теряет устойчивость, к Аксаю подходят немецко-румынские войска, магазины пусты, школы не работают, связи нет, Сталин несколько дней назад выпустил приказ НКО со словами о том, что отступать больше некуда, в Пимен-Черни вражеские самолёты расстреляли беженцев, вокруг пропадают женщины и дети, орудуют банды, валяются трупы, а вот учитель Виванюк абсолютно спокоен. Вместо того чтобы бежать, или запасать продукты, соль и спички, вместо того чтобы помогать односельчанам хоронить убитых, или сидеть при командире заградотряда Джавахяне, он в одиночестве разъезжает на своём велосипеде по тропинкам и лесопосадкам, забрызганный чем-то бурым, со странным кульком, при этом похоже, что врёт в глаза. Пытается принять участие в судьбе красивой городской женщины и её дочери, назначая им встречу на глухой дороге в районе Змеиной балки, пользующейся зловещей славой, в то время как в его собственной родном селе полным полно раненых, голодных и не устроенных людей, которым нужна помощь.
- Ну, да. Вперёд, дамочка. Смотрю я вы торопитесь, чтобы этот вурдалак из вас и вашей дочки котлеты поскорее нарезал. - мрачно сказал Надеждин.
- Э! Э! - Гецкин выставил перед собой винтовку как шлагбаум, и заставил Виванюка снова остановиться: - Куда?
- Слушай, солдат – интернационалист, я на вас лейтенанту Джавахяну нажалуюсь. Чего вы тут в лесу бандитничаете? По какому такому праву? – Виванюк исподлобья посмотрел на Гецкина с таким вдруг возникшим в его прозрачно-голубых глазах лютым огоньком, что Гецкину стало не по себе. - Ну-ка, сынок, посторонись с дороги!
- Мама, и я хочу котлету!- прогнусавила девочка, похлопав себя по животу.
- Никаких сынков, и никакой дороги. Покажите, гражданин, что у Вас находится в свёртке. – Надеждин сделал знак Петрюку, чтобы тот прекратил безвольно валяться в траве и присоединился к товарищам.
- Это уже переходит всякие границы! Я тороплюсь домой. Что за дурацкая идея? Что за произвол? По какому праву? – Виванюк перевёл злой взгляд на Надеждина.
- Именем Советской власти. - ответил Надеждин, отмечая при этом, что со стороны Даргановки сначала возникает, а потом начинает усиливаться шум мотоциклетных моторов. С дороги становится видно, как через складки холмов, то появляясь, то пропадая между домами, и оставляя кургузые пыльные хвостики, быстро двигаются несколько мотоциклов с колясками.
Виванюк, поймав взгляд Надеждина, повернулся все корпусом туда же:
- Интересно, кто это там по Даргановке на нескольких мотоциклах разъезжает? Уж не немцы ли?
- Ой, ой, немцы! – женщина придерживая шляпку вытянула шею, слегка приподнялась на носках и стала всматриваться в крыши Даргановки – Где? Где?
- Здравствуйте.- подошедший Петрюк осторожно поглядел на золотоволосую красавицу, изогнутую сейчас как натянутый для выстрела лук. Ему было определённо стыдно за свою испачканную гимнастёрку и исходивший от него сейчас специфический запах.
- Немцы, не немцы… Показывай поклажу! – Гецкин сделав шаг, решительно схватился за верёвку, которой и был завязан куль на багажнике велосипеда, и очень похожую на парашютную стропу, и что было силы дёрнул. Верёвка соскочила с одной из сторон свёртка, брезент развернулся, и всё его содержимое высыпалось на дорогу: брезентовый фартук, мотки верёвки и проволоки, нож большого размера, мыло, молоток, полотенце, несколько пустых стеклянных бутылок из-под «Баржома» с пробками, небольшой узелок из носового платка. Всё это было покрыто бурыми свежими пятнами и лесным сором.
- Ничего себе поклажа! – сказал Петрюк, даже рот открыв от удивления.
- Интересное сочетание предметов, места и обстоятельств. – согласился Надеждин, продолжая прислушиваться к нарастающему стрекоту мотоциклетный моторов со стороны Даргановки: - Это что же такое, товарищ учитель получается? Это же полный набор убийцы местных женщин и девочек, а также, наверное, беженцев. Пользуясь неизбежным хаосом и неразберихой в прифронтовой полосе, этот убийца безнаказанно вершит своё чёрное дело. Не хватает только вещей жертв. Ну-ка, Зуся, что там в узелке?
Гецкин, не спуская глаз с Виванюка подобрал небольшой кулёк из носового женского платка с вышивкой и развязал его на ладони. Внутри оказалась тонкая золотая цепочка с нательным золотым крестиком, ещё одна цепочка с кулоном из какого-то простенького голубого камушка, пара серёжек-колец, которые так любили всегда казачки, несколько серебряных колечек и изящный гребень из китового уса.
- Это что, вещи с убитых? – было заметно, что в голосе Надеждина зазвучала ненависть.
- Убитых? Каких убитых? – Наталия перестала рассматривать пейзаж Даргановки.
- Ай, да учитель! – Петрюк, зачарованно скользнув взглядом по золотым изделиям, поднял и развязал свёрток из вощёной бумаги, похожий на маленькую почтовую бандероль. Внутри, в нескольких слоях бумаги, словно в капустных листах, показались несколько кусков свежего розового мяса, каждый из которых был размером с котлету. Мясо было промыто и почти не содержало крови.
- Ты что, ещё и людоед? – глаза Гецкина расширились до невозможности. Он положил украшения обратно на дорогу, и снова взяв винтовку двумя руками, угрожающе надвинулся на Виванюка. У Петрюка тем временем заметно затряслись руки, отчего края бумажного свёртка дрожали как лист на ветру. Было очевидно, что он борется с новым приступом тошноты.
- Ну, а вот и котлеты. – сдавленным голосом заключил Надеждин.
- Боже мой, Василий Владимирович, что здесь происходит? – голос женщины дрогнул, а на глазах выступили слёзы: - Что за ужас они такой говорят? Мой муж - инженер «Харьковдормост», уважаемый человек и коммунист. Его все знают. И даже в ЦК партии Украины. И лично товарищ Хрущёв и Каганович. Я вам говорю, прекратите это безобразие!
- При чём тут «Харьковдормост»? - Надеждин взял винтовку наперевес и прошипел глядя себе под ноги:
- Вы, гражданин, арестованы по подозрению в убийстве людей. Мы Вас сейчас свяжем и отведём в Пимен-Черни к лейтенанту НКВД Джавахяну, как представителю военной власти, для расследования. Показывайте, что у Вас в карманах, гражданин учитель!
- Это всё бред какой то. Наташечка! Они просто сумасшедшие, эти молодые люди! Ладно. Ладно. Не горячитесь. Послушайте. Предположим, что я был в Небыкове, у тамошней хозяйки окраинного хуторка, вдовы Семёновой. Она на прошлой неделе ещё просила помочь ей свинью зарезать. Вот я ей и помогал. Свинья была большая, дрыгалась, кровь брызгала. – с ледяной холодностью ответил Виванюк, и покосился на Гецкина, который теперь стоял так близко, к нему, что, наверное между ними нельзя было наверное просунуть и ладонь. – А золото, я часть взял за помощь, а часть обменял у беженцев на табак, который у меня и так давно лежал без всякого дела. Ещё есть вопросы?
- Не знаю, кто тут следопыт Карацупа с псом Индусом, а кто нет. Но факты лежат совсем на поверхности. И они весьма красноречивы и совсем просты. Во-первых, Небыково отсюда даже не видно. До него километров двадцать по степи в один конец. Во вторых, всего пять часов назад, ещё до налёта немецких самолётов на Пимен-Черни, Вы были на мосту, и там оставались, когда мы с Михалычем пошли на двор бывшего председателя брать телегу и припасы, сказав тогда, что останетесь при заградотряде на мосту, чтобы помогать Джавахяну отличать своих жителей от чужих. Во-вторых, как Вы ухитрились от своей помощи заградотряду отвертеться, и всего за несколько часов Вы успели и взять велосипед, и съездить в отдалённое село, и зарезать там свинью, и после этого оказались у реки на дороге почти у самой Даргановки, а не у своего села Пимен-Черни. В-третьих, в Ваших вещах, гражданин, женские золотые украшения, за цену которых можно было всю неделю без передыха свиней резать, и подозрительные куски мяса. Я, конечно, не большой знаток цен на забой скота, но этого явно много. Не похоже, что это плата за забой всего лишь одной свиньи. И к тому же, что, в Небыкове что, свинью некому зарезать кроме пожилого учителя? И ещё, откуда у учителя школы такие знаменитые навыки на весь район по забою скота, что его даже в соседнее село приглашают для этого, и ещё золотом рассчитываются? И мясо очень и очень странное.
- Враньё. Одно вранье тут от тебя. Ты и есть местный Джек – потрошитель. – сверля висок учителя взглядом, кивнул Гецкин: - И не скотину ты тут забиваешь, а людей!
- Ой, товарищ еврей! Всех я убил. Всех я зарезал. Ну, хорошо, ладно. Скажу вам всё как на духу. Про свинью из Небыково я сказал неправду. Просто пошутил. Хотел вас разыграть. Не был я в Небыково. Не был. Туда, действительно, аж целых двадцать километров только в одну сторону по степи пилить. – Виванюк сменил холодность на язвительную усмешку. Он сдвинул кепку на затылок, картинно раскрыл белёсые глаза и развёл в стороны ладони с чёрными полукружиями земли под ногтями: - Настоящая правда в том, что это не мой велосипед, и не мой свёрток, не мои цацки, и не моё мясо в вощёной бумаге. Я велосипед этот несколько часов назад на дороге у беженцев на сало выменял. Я же говорил вам про это. Свёрток на велосипеде уже был когда я его выменял. Я в свёрток и не заглядывал. Мне велосипед понравился очень. ХВЗ. Вещь. Подумаешь, свёрток какой – то. Велосипед я выменял у мужчины. Он роста огромного, волосы косматые, в татуировках, зубы золотые, весь в шрамах, хромой, один глаз всегда сощурен, на левой руке нет мизинца, говорит басом и не выговаривает букву "эр". Как звать его я не спрашивал, откуда и куда шёл, не знаю. Я поехал на юг, он пошёл на восток. Хотите, ищите его, может поймаете. И свидетель у меня есть. Бабка старая в платке. Как звать её не знаю. Тоже ушла. Если эти вещи из свёртка вам нужны, то забирайте их себе. Пустые бутылки эти забирайте, мыло. И мясо тоже. Не знаю, что это за мясо. Может это свинина. Пожарьте. Всё. Можно идти, господин Пинкертон?
- Да, и мужчины того были рога, а изо рта вырывалось пламя. А бабка на метле летала. Что-то портрет продавца велосипеда смахивает на книжного злодея - Бармалея, а не на реального беженца. Откуда свёрток, и что за косматый мужчина тут велосипедами торгует с окровавленными ножами, вы расскажите лейтенанту Джавахяну. Мы что, мы действительно просто красноармейцы. Вести дознание, конечно, мы не можем, не имеем права, да и дактелоскопического оборудования не имеем для взятия и сличения отпечатков Ваших пальцев и отпечатков пальцев на орудиях преступления. Джавахян тоже не имеет, но в Сталинграде, наверняка такое оборудование есть. В крайнем случае, обыск в доме, опрос свидетеле, и просто кулаком под дых, Джавахян вам прекрасно обеспечит. Если конечно голые девки ему в этом не помешают. А мы что, мы Вас вполне можем в соответствии с приказом генерала Чуйкова о розыске девочки, задержать как подозреваемого и доставить к офицеру НКВД. Показывайте живо, что у Вас в карманах. А ты Петрюк, давай уже, прекращай икать, и собери обратно вещи в узел, а потом свяжи-ка этому гражданину руки за спиной. Мы его арестовываем, этого гада. – говоря это, Надеждин старался сохранять спокойствие, но чем больше он старался, тем больше ноток ненависти появлялось в его голосе.
- Не ходите дети в Африку гулять. Там живут гориллы, злые крокодилы, будут вас кусать, бить и обижать. И Бармалей…- всё таким же высоким голосом вдруг вставила девочка, но побледневшая мать взяла её за руку и отвела на несколько метров от мужчин: - Да, да, доченька, это стихи Корнея Чуковского.
- Бармалей, не Бармалей. Не знаю. Как было дело, так я вам и рассказал. Никаких карманов я вам, сопляки, и показывать не буду. Арестовывать себя я не дам, да и глупо арестовывать меня и вести к лейтенанту Джавахяну, когда я и так еду к нему в Пимен-Черни. Расскажу я там ему, чем вы тут здесь занимаетесь, пока ваш батальон к бою с фашистами готовится за нашу советскую Родину. Ещё неизвестно, кого из нас больше нужно арестовывать. – Виванюк наконец перекинул вторую ногу через раму велосипеда и встал уже нормально, на две ноги.
- Ах ты гад, всё глумится тут над нами всеми! – с этими словами Гецкин двумя руками поднял свою винтовку на уровень груди, и что было силы резко толкнул, скорее даже ударил Виванюка в плечё: - Выворачивай карманы!
Виванюк качнулся, с головы его слетела кепка, но равновесия он не потерял, и даже не вскрикнул от боли, хотя удар, по всей видимости, был весьма болезненным. Он не стал кричать и возмущаться, не стал заискивать, или искать примирения.
- Понятно. Безоружного бить. Однако, похоже, солдатики, кончилось тут ваше время, и ваша Советская Власть.- Виванюк чуть заметно улыбался, потирая плечо, и наблюдая как в полутора сотнях метров от того пригорка, где он стоял в окружении красноармейцев, на околице Даргановки, над камышами и тростником у реки, массово взлетают перепуганные синеклювые савки, утки – нырки, и бестолковые, похожие на кур, стрепеты.
Моторы уже не просто шумели и расслабленно тарахтели, где-то там, в балках и оврагах, между домами, а мощно завывали на повышенных оборотах совсем рядом, пока из зарослей камыша на дорогу не выскочили два мотоцикла. Передний мотоцикл с коляской, увешанный со всех сторон большими кожаными сумками и тюками, с изогнутым номерным знаком над передним колесом и светомаскировочной накладкой с узкой щелью на фаре, сидел коротко стриженный и щуплый человек в мотоциклетных очках и расстёгнутом на груди сером кителе с чёрными погонами и воротником, и непонятными нашивками. Он улыбался. Поскольку лицо его было очень тёмным от пыли, гари и загара, его зубы, обнажённые в улыбке, казались неестественно белыми. В коляске мотоцикла, на которой был нанесён по трафарету жёлтый знак в виде ромба с двумя хвостиками внизу, удерживая от качки ствол пулемёта в кожухе воздушного охлаждения, сидел ещё один человек в такой же форме мышиного цвета и в пыльном стальном шлеме на голове, чем-то напоминающем ночной горшок. Он так же улыбался. Второй мотоцикл, тоже не имеющий ни одной блестящей детали, был без коляски, и на нем сидел только водитель, без шлема, но в чудной пилотке, а за спиной его виднелся ствол винтовки:
- Was maht du, Willi?
- Allen Leuten recht getan ist eine Kunst, die niemand kann.
- Nischt so schnel, bitte!
- Aha! Wie du fur mich, und ich so dir.
- Немцы? – Петрюк замешкался, не решаясь бросить верёвку, приготовленную для того, чтобы связать подозреваемого, и из-за чего он удерживая свою винтовку подмышкой.
- Не так как на плакатах, но очень похоже на фрицев. Разведка. Едут как у себя дома.- Надеждин бросился на траву рядом с колеёй дороги и выставил на локтях перед собой винтовку: - Ложись!
Гецкин последовал его примеру по другую сторону дороги, а Петрюк ещё несколько секунд колебался в какую сторону ему двинуться. За эти несколько секунд вражеские мотоциклисты преодолели несколько десятков метров, и люди стоящие на возвышенности среди яблоневых деревьев стали им скорее всего отлично видны. По шуму мотора можно было понять, что первый водитель сбросил обороты:
- Was seen sie?
- Петрюк, Коля, ложись, блин! – Надеждин замахал ладонью вверх-вниз так отчаянно, словно это могло помочь исчезновению Петрюка с глаз врага. Но было уже поздно. Между женщиной, ребёнком и мужчиной с велосипедом, мотоциклисты разглядели вооружённого советского солдата. Немцы остановились. Сидящий в коляске у пулемёта приник к прицелу, а остальные двое, всё так же улыбаясь, замахали руками:
- Рюський! Стафайся! Рюки верхъ! Komm hier!
Петрюк наконец бросил верёвку, сказал женщине «Простите» и, вцепившись в винтовку, сделал несколько прыжков в сторону Гецкина. Одновременно Виванюк толкнул перед собой велосипед и, схватив Наталию Андреевну за упругую талию, потащил её за собой:
- Бегите за мной, Наташа! И ты куколка - детка!
- Рюський, рюки верхъ! – немцы всё ещё махали руками, когда с той стороны, где в траве укрылся Гецкин и Петрюк, синхронно ударили самозарядные винтовки СВТ-40 и, сделав подряд по десять выстрелов каждая, отклацав затворами, утихли. И почти вслед за этим оттуда же, из облачка порохового дыма, вылетел какой-то предмет, мелькнула рука Петрюка, и голос Гецкина зло крикнул:
- Шолом алейхем вам гадам!
- А чтоб вас! Патроны берегите!- Надеждин приподнялся немного над травой, чтобы рассмотреть то, что происходило у камышей. Брошенный предмет явственно тюкнулся о глинистый грунт метрах в двадцати от красноармейцев и на расстоянии в два раза большем от вражеских солдат.
- Scheise-e-e! Auseinanderziehen! – немцы, что было силы, нажали на акселераторы. Мотоциклы истошно взревели форсированными моторами “Zindapp”, создав вокруг себя облако сизого выхлопного газа. Немец – пулемётчик сидел теперь в коляске откинувшись назад, и словно смотрел высоко в небо, а водитель, пригнувшись к рулю так низко, что головы его не было видно из-за фары со светомаскировочной прорезью, разворачивал свою машину, собираясь скрыться в зарослях. Второй мотоцикл уже выдал из-под заднего колеса шлейф пыли и травы, перемолотой бешено вращающимся задним колесом и едва не боком стал удаляться, постепенно набирая скорость. Отсчитав положенные ему по конструкции секунды, взрыватель гранаты Ф-1, а именно её бросил в сторону противника Петрюк, сработал, и последовал резкий, оглушительный от неожиданности взрыв. Воздух дрогнул. Маленькая, яркая, злая вспышка разбросала вокруг дым, комочки земли, сора, и веер осколков. На Надеждина посыпалась с яблони листва и мелкие веточки. Несколько зеленых яблок оборвавшись упали неподалёку. Гецкин и Петрюк опять принялись стрелять по мотоциклистам, но те через мгновение уже скрылись в зарослях камыша.
Было слышно, что мотоциклы там остановились. Звук ещё нескольких мотоциклов стал быстро приближаться. В колыхающихся зарослях, над которыми взлетали всё новые и новые птицы, что-то происходило. Когда Гецкин с Петрюком начали привставать со своих мест, победно посматривая то на Надеждина, то на заросли, оттуда, прямо сквозь последние ряды камыша по пригорку вдруг ударил пулемёт. Он бил короткими очередями. Надеждину сначала показалось, что пулемётов было несколько, настолько часто следовали выстрелы, словно крутилась оглушительная металлическая трещотка, или циркулярная пила со свистом распиливала бревно. Но, судя по вспышкам в тростнике, пулемёт был один. Однако всё вокруг было заполнено свистом и жужжанием, глухими ударами пуль о землю, треском крошащихся стволов яблонь, и шорохом облетающей листвы. Когда справа, совсем рядом, несколько пуль вывернули большой кусок дёрна вместе кустиком астрагала, Надеждин осознал, что огневой бой с этим пулемётом с помощью винтовок, пусть и самозарядных, вести бесполезно, а оставаться на месте убийственно. Нужно было убираться отсюда немедленно.
- Зу-уся-я-я! Ко-оля-я-я! Уходи-и-ите оттуда!
- У нас патронов больше не-е-ет! – крикнул в ответ толи Гецкин, толи Петрюк, сквозь треск пулемётных выстрелов.
- Уходи-и-ите! – Надеждин начал пятиться назад, стараясь не поднимать спину, развернулся, и прополз метров десять, тараня головой стебли пырея, солодки и астрагала. После этого он встал на корточки и оглянулся. В том месте, где должны были находиться Гецкин и Петрюк, мелькнули два холмика их спин, и в тот же момент туда ударил пулемёт, и там разразилась целая буря из комьев дёрна и мелких кусочков травы. Кто-то вскрикнул, или, может, это послышалось. Пулемёт замолчал. Надеждин осторожно приподнялся и увидел, как несколько немцев с винтовками осторожно вышли из камышей и направились к пригорку, пригибаясь и переговариваясь.
- Зуся! – почти шёпотом позвал Надеждин. После грохота выстрелов, вокруг стояла такая тишина, что казалось малейший шорох, может быть слышен за сотни шагов, хотя над яблонями летали птицы, крича на все голоса, совсем рядом стрекотали мотоциклетные моторы, и разговаривал враг:
- Das Feuer ohne Befehl!
- Ich weis alles, Willi.
В запасе оставалось не больше минуты до того момента, когда нельзя будет уже и пошевелиться, чтобы не быть замеченным. Надеждин решил уже, что ничего другого не остается, как только стрелять по немцам, чтобы они остановились и залегли на время, рискуя вызвать на себя новый шквал пулемётного огня, когда между яблонями он увидел полусогнутые фигуры Гецкина и Петрюка. Они бежали, низко наклонившись, и скорее не бежали, а шли так быстро, как только могли, семеня полусогнутыми ногами. Надеждин таким же образом двинулся по своей стороне дороги. Только пройдя таким образом не менее ста метров, и едва не задохнувшись от невозможности нормально дышать от быстрого передвижения в таком скрюченном состоянии, он пересек дорогу и оказался рядом с товарищами, до этого едва не упав, споткнувшись о чемодан Наталии Андреевны, валяющийся в траве.
Петрюк был без винтовки и ранен. Правая руке его безжизненно висела, рукав и грудь гимнастёрки были чёрными от крови. Кровь непрерывно лилась с его посиневших пальцев, а вместо плеча была густая кровавая масса похожая на то, как если бы в блюдце смородинового варенья опустили кусочки ткани от гимнастёрки. Лицо Петрюка было белого цвета в серых веснушках. В широко раскрытых голубых глазах застыл ужас и страдание. Вены на его шее и лбу вздулись от напряжения, с которым он сжимал зубы, чтобы не закричать от жуткой боли. Гецкин тоже был ранен. Вся левая сторона его головы, шея и грудь были в крови. Он тоже был бледен, тяжело дышал, но взгляд его карих глаз был зол и собран. Он сказал, словно пролаял:
- Покоцали нас с Колюней. Но ты видел, мы убили пулемётчика! Видел? А ты чего не стрелял? Ты же «Ворошиловский стрелок»!
- Уходим! Уходим! - Надеждин, вслушиваясь в рокот мотоциклов, двинулся в сторону реки, прочь от дороги, увлекая за собой Гецкина и Петрюка. Из-за того, что яблони здесь росли довольно далеко друг от друга, а кусты дикой смородины и орешника встречались редко, весь сад просматривался довольно далеко, и поднявшиеся на пригорок немцы могли их легко заметить, несмотря даже на глубокие и длинные тени, от низко стоящего теперь солнца. До спасительных зарослей камыша, осоки и рогоза было метров сто, и эти сто метров показались всем троим бесконечной дорогой, гораздо более длинной, чем та, которую они прошли с момента выгрузки ночью из эшелона на станции Котельниково.
Вломившись с шумом и треском в заросли камыша, где упругие стебли с большими коричневыми головками нещадно хлестали по лицам, оводы, стрекозы и мошкара носились перед глазами, а из под ног разбегались перепуганные мыши, змеи и маленькие цапли, они быстро дошли до того места, где под ботинками начала хлюпать вода.
- Стойте. Хватит. – Надеждин остановился и опёрся на винтовку. Сердце бешено стучало, в голове звенело, а перед глазами плыли яркие круги. Петрюк повалился на колени, не обращая внимания на чёрную грязь под собой, и держа себя за локоть, завыл сквозь зубы.
- Как мы их шуганули! – Гецкин опустился на корточки и стал трогать голову: - Ты чего не стрелял-то, москвич?
Со стороны дороги послышался и быстро стих шум мотоциклов. Надежднин ещё некоторое время прислушивался, а потом ответил, не глядя на Гецкина:
- Да я и не успел ничего сделать. Вы – то за секунду свои патроны выстрелили, а после этого фашисты тут же удрали, и стали отвечать их пулемёта. Не по камышам же мне было стрелять последнюю обойму?
- Ну-ну. – зло сказал Гецкин: - Мы то себя вспышками обнаружили, а ты как суслик в норке сидел. Или ты сдаться хотел? Не пойму что-то!
- Слушай, Аргентина! Я тебе сейчас за такие слова все твои зубы выбью. – огрызнулся Надеждин. – Что делать-то теперь? Вести Петрюка назад до телеги, если её найдём, и ни солона нахлебавши вернуться в Пимен-Черни? Ничего не выяснив в Даргановке о судьбе Маши? Идти сначала в Даргановку, а потом возвращаться? Коля же кровью истечёт, пока мы будем ходить туда-сюда.
- Оставьте меня, я сам к телеге пойду-у-у… А вы догоните. В телеге наши перевязочные пакеты. М-м-м….Невозможно как больно. Жжёт так.– сказал Петрюк, стараясь придать голосу убедительность. Но, во-первых, он стонал, едва не кричал, а во-вторых, он говорил так тихо и сдавленно, а лицо его при этом было таким бледным, как лунный свет, что его слабость от потери крови и неспособность самостоятельно двигаться была очевидной.
- Какой толк в бинтах. Нужно руну чистить, мыть, убирать кусочки кожи и мусора. Нужно найти и пережать сосуд. А в телеге ничего нет. Ни йода, ни марганцовки там у нас нет. Одна только вода чистая в бидоне, чтобы рану промыть. Вон у тебя в ней и нитки, и листья, и земля. Ну-ка, давай-ка мы тебя сперва перевяжем хоть как. Кровь может поутихнет. - Надеждин прислонил винтовку к бедру, расстегнул поясной ремень, стащил с себя мокрую от пота подмышками, на груди и спине гимнастёрку, затем нательную рубаху, такую же мокрую, и зубами оторвал от неё сначала один рукав, потом другой. Потом он эти рукава разорвал вдоль по шву. С этими двумя короткими, но широкими кусками влажной ткани, он подступил к ране Петрюка.
- Её бы промыть бы и йодом обработать.- сказал Гецкин, и глядя как Надеждин пытается зацепить пальцами и вынуть из раны Петрюка кусочки кожи, нитки и лесной сор, тоже снял гимнастёрку и нательную рубаху, и оторвал от неё рукава.
- Его надо быстро в Даргановку довести, там можно добыть чистой воды, тряпок и йод. И хоть какого коновала, ветеринара, может фельдшера. Отрезать надо шмотки кожи, пинцетом всё почистить, иначе попадёт какая ни будь гадость и всё. Пиши – пропало. Рана прямо у ключицы. И даже отпилить то в случае заражения нечего. Если только тело на две части. – Гецкин передал Надеждину свой импровизированный бинт и снова занялся своей головой, вернее своим опухшим ухом, потому что пуля оторвала ему мочку, и из раны хотя и вытекло достаточно много крови, однако рана была сама по себе небольшая и кровь быстро запеклась: - Ну, вот и война для нас началась. Нет, ну ты видел, Москва, как мы этого фашиста шлёпнули. Видел? Будет знать, гад, как на нашу Родину нападать! Это ж смотри, куда они - гады фашистские, дошли. До Волги! До Сталинграда и Кавказа. Им под Москвой в прошлом году накостыляли как следует, а они всё не уймутся, эти гитлеровцы. Вооружились до зубов. У каждого пулемёт. Всю Европу сюда с собой пригнали воевать против нашего интернационального государства рабочих и крестьян. И лезут, и лезут…
- Слушай, Аргентина, заткнись, пожалуйста. Что на тебя говорливость такая нашла? – Надеждин как мог, замотал рану Петрюка кусками разорванных рубах, и вся ткань мгновенно пропиталось кровью: - Хоть так. Хоть немного кровь остановить. Плечо и рука распухли сильно. Словно кувалдой его ударило. И кровь не останавливается. Где-то крупный сосуд перебит. Нужно фельдшера какого ни будь быстро. Иначе он кровью истечёт.
- Я дойду…- прошептал Петрюк, и в его глазах заблестели слёзы.- Я думал повоюю с фашистами. Отомщу за нашу Советскую Родину… Простите меня…
- Давай так, Москва: идём все вместе в Даргановку. Дойдём до крайнего дома, оставим Колю хорошим людям, найдём ему фельдшера, потом найдем эту учительницу у которой Маша могла быть, если она там, конечно, а не в Абганерово, расспросим про Машу, возьмём телегу и отвезём Петрюка в Пимен-Черни. Там, заодно и этого гада учителя прищучим. Или вы с Петрюком идите к телеги и езжайте в Пимен-Черни, а я пойду в Даргановку искать Машу.- Гецкин напялил на себя рубаху без рукавов, затем гимнастёрку, и решительно поднялся: - Только патронов мне оставь, хоть парочку.
Надеждин посмотрел на лежащего на слопанных стеблях камыша, в коричневой жиже и среди роя мух Петрюка, на Гецкина, который, несмотря на свою бодрость, стоял покачиваясь от усталости, и отомкнув от своей винтовки коробочку магазина, отщелкал оттуда все патроны кроме одного:
- На. Держи, Аргентина. Немцам только не попадись. Они еврея сразу убьют.
- Я скажу, что я осетин. Да и не будет их разведка там долго ошиваться. Поездят, понюхают и уйдут. Наших частей там нет, а ихние тоже далеко. Переправы нет. Только вброд. Уйдут. Я осторожно. В общем ищу Татьяну Павловну, Машу и Лизу. Всё. Бывай, Москва. Как говориться: No passaran! Passaremos! Они не пройдут, а я пройду!
- Хорошо, Зуся. Будь осторожен.
- И ты будь осторожен. Увидишь Виванюка, убей его. Это он тут сатана. Я уверен. Убей. Он же гад, неравён час останется на немецкой территории. А нас ухлопаю, или ранят через день-два. Джавахян и Михалыч тебе могут не поверить. Скажут, что ты все фантазируешь. А Виванюк наплетёт любые небылицы, и будет уже при немцах убивать, а потом, когда Красная Армия их выгонит, снова при Советской власти будет убивать. Будет убивать всех этих Зоек, Наталий Андреевен, Машь, Лиз и так до бесконечности, пока не умрёт от старости…Это он. Точно он. Убей его, если увидишь. – глаза Гецкина засветились яростью, а на бледных щеках, на которых уже появилась чёрная суточная щетина, выступили пунцовые пятна. Он не без сожаления протянул Надеждину один патрон:
-На телеге-то нашей патроны есть. Много. Жаль пошли тогда за дезертирами без них. Будь у нас эти патроны, то чёрта с два, немцы тогда нас с дороги согнали бы. Никто бы обратно в камыши не вернулся. Но на. Возьми ещё один. Вдруг этот гад упырь-учитель тебе раньше встретится, а ты первым выстрелом промахнёшься. И идите скорее. Днём жара, а ночи то здесь - холоднючие. И всё мокрое от росы. А шинели все наши в телеге остались.
После этих слов Гецкин сунул патроны в карман, закинул винтовку на плечё, поднял сжатый кулак, как будто он сейчас был в романтическом образе солдата интербригады Республиканской Испании во время Гражданской войны с фашистами генерал Франко, и дело происходило вовсе не на берегу Курмояровского Аксая в степях Сталинграда, а по меньшей мере где ни будь в Арагоне, у реки Эбро:
- Passaremos!
Затем Гецкин вздохнул, повернулся, и стал пробираться через камыши в сторону Даргановки.
ГЛАВА 11
ЛЮБОВЬ
За кустами цветущего жасмина послышался тихий женский смех.
Ветка затрещала и зашаталась. Мальчик потерял равновесие и упал с дерева.
Упал на большие сочные лопухи.
Сверху ему вдогонку посыпались обломанные веточки и кусочки заплесневелой коры.
Он лежал на спине и внимательно прислушивался к своему гудящему телу, боясь приоткрыть глаза:
- Интересно, жив я, или уже умер?
Он осторожно ощупал ноющий затылок, потрогал пальцем прикушенный при ударе о землю язык. Сначала открыл один глаз, затем второй, и с удивлением поглядел на обломанный сук над головой.
А ведь оттуда земля казалась такой далекой…
Закусив губу он поднялся.
Зверски болела содранная о ствол старого дуба правая коленка.
В запущенном саду, где медленно чахли выродившиеся мелкие цветы, которые никогда не получали солнца, но которые упорно вылезали каждую весну из сырой, чёрной земли, степенно дремали вековые дубы, и исподволь набирались соками молодые крепкие ясени.
Этот уголок некогда роскошного парка подступал к самым окнам спальни Манфреда. Два небольших окошка смотрели на заросли из глухой замшелой стены родового поместья Вольфберг, сложенного из огромных блоков прусского гранита.
Здесь недалеко от этих окон стояла маленькая скамейка, окруженная угасающими цветами. Эта скамеечка была любимым местом уединения его гувернантки, невысокой, стройной девушки с ярко-зелеными глазами и копной густых черных волос.
Она была абсолютно не похожа на своих пышных родственниц, иногда приезжающих её проведать из далекой Саксонии.
Когда эта зеленоглазая девушка неторопливо шла с книгой в руках в этот уголок парка, вдыхая прохладный вечерний воздух, Манфред стремительно нёсся в свою спальню и, перевешиваясь через подоконник, смотрел, как она плавно опускается на скамью, грациозно поправляет облегающее платье на округлых коленях, отбрасывает ладонью волосы и открывает очередную главу на закладке в виде плетёной змейки.
Он знал, что девушка проглатывает один за другим старые французские романы, взятые из обширной библиотеки Вольфберга.
Она двумя пальцами переворачивала желтоватые, сухо шуршащие страницы, иногда улыбаясь, иногда хмурясь.
Однажды Манфред не выдержал, тихонько позвал её:
- Эльза... Эльза...
Его от этого бросило в холодный пот, а она, сидя полуоборотом, сделала еле уловимое движение точеным пальчиком, будто журила Манфреда.
Значит, она услышала его слова! Слова, сказанные не громче неровного, возбужденного дыхания. Значит, она знала, что он поглядывает! Но, тем не менее, она не останавливала, не прогоняла его, впивающегося глазами в очерченную тканью платья высокую грудь, плавные линии ног, подчеркнутые сеточкой чулок, и не искала себе другого места для уединения, хоть её уединение тут было уже весьма условным.
В тот раз Манфред отпрыгнул от окна, сшибив расставленные на дубовом паркете оловянные фигурки, изображающие английских и французских гвардейцев эпохи Наполеоновских походов, зарылся головой в подушки и затаился, пытаясь унять бешено колотящееся сердце:
- Так вот почему Эльза так странно смотрит на меня всегда. Она всё знает и смеётся надо мной…
В ту ночь Манфреду не удалось уснуть. Он ворочался на влажных простынях, стараясь отогнать горячие, безумные мысли. В его голове всё перепуталось. Его наполовину бодрствующее сознание перебирало одно за другим множество не связанных между собой вещей и событий. Вот например вечные и обидные подтрунивания его младшего брата Отто над его увлечением военной миниатюрой, всеми этими оловянными, раскрашенными фигурками солдат эпохи Наполеоновских войн, и тем огромным количеством времени, который Манфред тратил на реконструкцию сражения у Йены, или у Аустерлица, с использованием сотен фигурок. По мнению Отто, который был на четыре года младше Манфреда, все эти солдатики не стоили и одного посещения автогонок, где бесподобные Adler Trumpf Junior и BMW Wartburg соревновались в скорости и манёвренности. Отто своей завышенной требовательностью к окружающему миру, и заниженной требовательностью к себе, своим шумным, задиристым и бесконечно самоуверенным характером пугал всех окружающих, за исключением разве что, собственной матери. В его речи присутствовали в основном технические словечки и термины, кузовные фирмы, вроде Ihle Karosserie-Bau, легкие спортивные родстеры, двигатели и подвески, шасси и облицовки радиаторов, мощность в лошадиных силах, рабочий объём, скорость, расход топлива, цены в рейхсмарках. Одновременно с обидными шутками младшего брата, в сознании Манфреда постоянно присутствовало настойчивое давление на него его отца, который во что бы то ни стало, желал отвадить своего старшего сына от мыслей о карьере военного. Отец Манфреда делал всё, чтобы та торговая фирма, которой он после ухода в отставку посвящал все силы, стала бы и для его сына главным делом в жизни. Видимо те злоключения и тяготы собственной военной службы, гибель и увечья своих товарищей, настолько отвернули отца от войны, что он не хотел своему сыну участи подобной своей. На его взгляд транспортировка и мелкооптовая продажа кофе из Руанды, где бельгийская администрация потворствовала фон Фогельвейде из-за его умения договариваться с племенами банту и тутси обо всём одновременно, являлось бы для молодого человека более перспективным делом в век, когда деньги стали ценится гораздо выше, чем мужественность и героические таланты мужчины. Кончилось это всё тем, что старший фон Фогельвейде перестал приглашать в своё поместье своих боевых друзей по войне в Родезии и в России, офицеров Императорской армии, от разговоров и воспоминаний которых в гостиной у камина, у юноши всегда так разгорались глаза. Отец не мог не заметить, как оживляется взгляд юноши, при рассказах и воспоминаниях старика фон Зейдлова о войне вместе с генералом Лотаром фон Тротом против племени гереро в Южной Африке, и о битве у Ватерберга, после чего всех оставшихся в стране гереро сконцентрировали в особых лагерях, а немецкие поселенцы смогли вздохнуть свободно. И конечно – же больше всего, в эту ночь в голове Манфреда было мыслей и слов, взглядов и движений Эльзы. Сквозь любые другие цепочки мыслей и видений, сквозь все строчки ранее прочитанных книг и журналов, или через все ранее произошедшие события, слышались её слова, сказанные непередаваемо изящным южно-саксанским говором, а также лукавый взгляд изумрудно-зелёных глаз. А ещё тот жест, когда она не оборачиваясь, грозила ему пальчиком. Несколько раз за ночь Манфред просыпался и, выйдя по скрипучим дубовым половицам в коридор, как приведение бродил по верхней галерее поместья мимо портретов предков и родственников в париках и камзолах, рыцарских доспехах и имперских мундирах, бальных платьях и охотничьих костюмах. Ему всё время не давала покоя загадочная фраза сказанная ему конюхом Густавом-Адольфом вполголоса в тот момент, когда у конюшен тот поймал восторженный взгляд Манфреда на вырезе платья Эльзы, в котором двигался от дыхания простенький хрустальный кулон и обольстительная ложбинка её груди.
- Берегитесь чар красавицы, мой юный господин. Ваш отец уже давно находится в коварных сетях сказочной Лорелеи. И могу поклясться двумя святыми таинствами лютеран, что всё это кончится скверно. – вот что сказал тогда Густав-Адольф. Но что бы это могло всё значить, и при чём тут Лорелея, которая: «Не знаю, что стало со мною, печалью душа смущена. Мне всё не даёт покоя старинная сказка одна…» - своим пением топила на Рейне корабли и все моряки, которые слышали её песню, погибали. И при чём здесь фон Фогельвейде – старший? После того как мысли немного успокаивались, Манфред брёл в свою комнату, ложился на влажные, душные простыни, и пытался заснуть. Но вдохновенные трели соловья в парке, духота, и лезущие со всех сторон обрывки мыслей о брате, об отце, о кофе и военной службе, а больше всего об Эльзе снова заставляли его сначала подолгу сидеть на кровати, потом подходить к окну и вдыхать запах свежей листвы и тлена увядающих цветов, а затем опять идти бродить среди пейзажей и портретов.
На следующее утро, после завтрака в малой гостиной, отец не допив кофе с досадой швырнул в резной комод скомканной газетой и обратился с речью к потолку, где в кессонах между балками нарисованные ирисы плели своими стеблями затейливый узор:
- Эти коммунисты Тельмана, после того как всего несколько месяцев назад сожгли святой символ объединения Германии – Рейхстаг, а Гинденбург подписал декрет «О защите народа и государства», запрещающий коммунистическую партию, всё никак опять не уймутся. Газеты их, вроде пресловутого «Красного Знамени», закрыли, всех вожаков коммунистических и социал-демократических арестовали, включая депутатов. Но тогда что это? Куда смотрит этот рейхсминистр Фрик? Он министр внутренних дел, или управляющий пансиона для девиц? Почему корабелы «Дейче верке» в Киле остановили работу завода который строит наш военный флот? Почему медеплавильный завод «Миттельдейчланд» бастует, и аккумуляторный завод в Хагене, и металлургический комбинат в Дюссельдорфе и шахты в Рура и Силезии? А этим рабочим завода «Оппель» в Рюссельсхейме чего надо? Живут же почти лучше меня. А электротехнического комбинат АЭГ в Берлине? Почему "Закон о устранении бедствий народа и государства" не действует как надо? Чем там занимается этот Гитлер с Герингом и Фриком? Только флаги свои на ратушах развешивает, да вместо земельных правительств назначает гауляйтеров НСДАП? Когда же кончится этот коммунистический шабаш в нашей родной Германии? Мне что теперь, бросить торговлю и записаться в отряд штурмовиков, чтобы навести порядок?
Обычно после комментариев к прочитанному в утренних газетах, фон Фогельвейде начинал вдохновенно рассказывать, как хорошо его знают в Руанде, и что не у каждого бельгийца может сохранится хотя бы терпимое отношение к немцам после того, что происходило в Бельгии при штурме крепости Льеж и захвате Брюсселя во время Великой войны. А его вся бельгийская администрация знает хорошо, что сильно влияет на выгодную закупочную цену на кофе. Обычно он красочно описывал благодатную природу Руанды, обилие экзотических зверей и птиц, дешевизну строительства и обслуживания дома. При этом он многозначительно поглядывал на Эльзу, которая обычно присутствовала на завтраках с тех пор, когда у неё кроме виртуозного владения французским, английским и испанским языком, открылся дар собеседника на тему политики и экономики, чего всегда не доставало фон Фогельвейде – старшему в общении со своей женой Амалией, которая была всегда поглощена внутренними переживанием двух своих уже взрослых дочерей, и была в общении с ними скорее их старшей подругой, чем матерью. Поскольку в это утро Эльзы за столом не было, то и традиционного рассказа отца про жизнь в Руанде не последовало. Вместо этого он перевёл взгляд на свою старшую дочь:
- Ну, что Гретель, я так понимаю ты учиться не хочешь, мне помогать в конторе не хочешь, а желаешь уехать из отчего дома с этим несносным пижоном Мартином?
- Он не пижон, папа. Он очень образованный и порядочный человек. Вы же сами сказали, что его знания мироустройства и критический взгляд на современную науку заслуживает уважения – ответила стройная девушка с вытянуты, но соразмерным лицом в обрамлении вьющихся жёлто-соломенных волос. Она как всегда была в строгом платье серого цвета с белым кружевным воротничком, кружевными манжетами и накладными карманами. Множество маленьких декоративных пуговиц на рукавах и на клапанах карманчиков, тоже были обтянуты тканью, что придавало этому фасону торжественную значимость. Эта манера сестры одеваться, поддерживаемая матерью, всегда невыгодно отличалась от ярких платьев Эльзы, словно срисованных с французских модных журналов, и навивала мысли скорее о чопорной Викторианской эпохе, чем о современности, насыщенной электроприборами, радио, кино, мощными автомобилями и самолётами, потоком разнообразных товаров и общедоступных культурных ценностей.
- Позволь, но он же гол и нищ. Или он рассчитывает получить с тобой в приданное от меня тысяч сто рейхсмарок? – фон Фогельвейде посуровел, и морщин на его лбу и вокруг глаз стало как будто больше.
- Ах, вот чего вы боитесь, отец. Можете не волноваться, мы даже не помолвлены. Тем боле, что он не так гол, как тебе кажется. Он врач, и очень популярный. У него несколько научных работ по психиатрии. Он работает с Алфредом Хохе по вопросам эвтаназии и участвует в программе «Предотвращении рождения детей с заболеваниями, обусловленными генетическими причинами». – девушка сняла салфетку с колен и свернув в три раза положила рядом с тарелкой, собираясь выйти из-за стола.
- Так он нацист. А кофе? – фон Фогельвейде продолжал буравить дочь взглядом.
- Спасибо. Я что-то не хочу. Пойду почитаю Стендаля.
- Ты бы лучше почитала учебник физики и сдала экзамен в Кёнигсбергский университет Альбертина. Ты же всегда была умницей. Зачем тебе этот Мартин? Что ты будешь делать в его глухих Судетах? Он до конца лета доживёт у свое тётки в Алленштайне, и уедет свои Судеты. И если бы твой Мартин знал, что твоя мать на половину полька, он бы с тобой из-за генетических причин и разговаривать не стал. Я вот в следующий раз ему про это скажу. Посмотрю, как он будет ёрзать на стуле. Я двадцать пять лет отдал армии Германской империи и как проклятый торгую этим чёртовым кофе, не для того, чтобы разбрасывать деньги в приданное дочерям, которые без ума от нацистов. Фашисты даже с коммунистами не могут справиться, не то, чтобы детей воспитать и семью обеспечить.
- Ну, всё, папа, с меня довольно. Сколько можно это обсуждать. – Гретель резко отодвинула стул, поднялась и направилась к высоким двустворчатым дверям. Взявшись узкой ладонью за длинную латунную ручку с головами птиц и львов, она обернулась в сторону братьев, и холодно заметила:
- Манфред, послушай, и ты тоже Отто, прошу вас, не шпионьте за нами с Мартином, когда мы гуляем в саду. Это мерзко и подло, подглядывать за людьми в то время, когда они ищут уединения. Надеюсь, что это не папочка надоумил вас стать шпионами.
- Что такое? – фон Фогельвейде принявшись было за яблоко в карамели, стукнул десертной вилкой по краю тарелки: - Я воспитываю в своих сыновьях рыцарский дух и кодекс чести. Что ты такое говоришь? Как тебе не стыдно?
- Вот – вот. Особенно это проявляется в запрете Манфреду поступать в кавалерийскую школу в Ганновере, и вашем желании сделать из него торгаша. Очень рыцарское занятие день и ночь пересчитывать мешки из Африки.- последнюю фразу девушка закончила уже пересекая по мягкому ковру широкую гостиную.
Фон Фогельвейде отодвинул от себя тарелку с десертом и задумчиво провёл пальцем по краю кофейной чашки:
- Не слушайте её, мои мальчики. Сейчас уже другие времена. Сейчас общественное признание даётся соразмерно имеющейся сумме денег, а не соразмерно заслуг перед страной и народом. Героев подталкивают на подвиги ради дополнительных денег толстосумов. Герои погибают, а толстосумы пользуются их смертью для получения всё новых и новых денег. Кровь героя, которая льётся из его смертельной раны когда ни будь заканчивается, а мешок банкира не лопается, сколько бы в него не положили денег. Не слушайте её. Слушайте меня. Я отдал свой долг Германии за несколько поколений вперёд. Может быть нам организовать в Вольсберге авторемонтную мастерскую, когда вы чуть подрастёте?
- Что ты, папа, тут на всю округу только тракторы и мотодрезины. Машин-то наберётся от силы штук двадцать. Да и то это такая рухлядь, что к ним и прикоснутся то будет противно.- ехидно заметил Отто: - У Витцеля только есть Adler-Triumf, но как настоящий еврей, он ездит на нём только по праздникам, так что машина сломается через сто лет. Ещё у инженера Гесселя есть Buick 60, но где взять запасные части на эту редкую американскую машину?
Фон Фогельвейде с некоторым удивлением посмотрел на своего одиннадцатилетнего сына, который так спокойно уничтожил его идею, за которую, как ему казалось, мальчики должны были уцепиться обеими руками. Манфред молчавший весь завтрак, впрочем, и как его мать Амалия, с надеждой и нетерпением поглядывал на часы, ожидая, когда их ксилофон, наконец, пробьёт девять часов.
И вот они, долгожданные мелодичные удары, и можно оставить стол, и отца, и брата, и младшую сестру с матерью, отправиться в кабинет отца, уставленный книжными полками, глобусами, астролябиями и бесконечными статуэтками лошадей и всадников. Именно там проходили каждый раз занятия по обучению его французскому языку, немецкой и европейской литературе, за исключением тех случаев, когда отцу требовалось что ни будь срочно отыскать на огромных книжных полках. Сегодня урок явно не ладился. Толи виной этому было утомление Манфреда от бессонной ночи и надоевших тем разговоров за завтраком, толи Эльза сегодня была необыкновенно хороша с тщательно уложенными волосами с маленькими завитками на концах, в новом тёмно синем шёлковом плате с небольшими плечиками и рукавами - воланами. Урок прошёл быстро и скомкано. Закончив занятие по теме: «Неопределенные артикли французского языка”, гувернантка заглянула в его глаза, мутные от бессонницы, загадочно улыбнулась и вдруг провела прохладной узкой ладонью по его щеке. Потом её рука скользнула на непомерно широкую для пятнадцатилетнего юноши грудь и, Эльза произнесла загадочно:
- Vous dispose a apprendre…
Огонь моментально разлился по его молодому, крепкому телу. Манфред и понял и не понял одновременно, что означали эти её слова о том, что он «годится для обучения» и это чудесное прикосновение перед тем как она вышла из кабинета. Он ещё долго смотрел в проём двери, где скрылось её пружинящее при каждом шаге под шёлковым платьем тело. Не помня себя, слыша только своё бешено стучащее сердце и, всё ещё видя перед собой только эти сверкающие зелёные глаза, Манфред ещё долго сидел за столом кабинета, пока конюх Густав-Адольф, огромный мужчина с седой шевелюрой закрученными вверх, как клыки вепря усами, отставной вахмистр, отдавший тридцать лет службе в кавалерии, сначала в имперской армии, потом во фрайкорпе, а потом и в рейхсвере, не позвал его через окно на занятия верховой ездой в манеж. Этот человек, Густав-Адольф, служивший отцу Мафреда верой и правдой по меньшей мере десять лет. Покрытый шрамами ветеран, родившийся спустя всего два года, после того как в зеркальном зале Версаля, назло французам, чья столица Париж находилась в осаде, короновался первый Император Германской империи Вильгельм I. После того как он стал кавалеристом, он сражался во многих войнах, которая вела Германия: он участвовал в обороне Циндао, в событиях в Руанде, участвовал в Великой войне на Русском фронте, а потом воевал против Баварской советской республики. Из-за своего неуживчивого и вспыльчивого характера, за тридцать лет своей службы смог стать только вахмистром. В конечном итоге он полностью разочаровался в военной службе, и никакие уговоры и посулы остаться в Рейхсвере на него не подействовали. Несмотря на обещанный высокий оклад и производство в офицеры, он последовал за своим командиром, полковником фон Фогельвейде в отставку.
- Господин Манфред, пора на верховые занятия. – Густав-Адольф хмуро поглядел на Манфреда, который был сейчас красным как варёный рак, затем вдохнул не сильный, но вполне различимый запах духов «Shalimar»: - Лорелея всё звонче поёт свою песню. Раньше она для занятий не душилась дорогущими французскими духами. Интересно кто их ей подарил.
Манфред пробормотал в ответ что-то несвязное, резко вскочил и, опрокинув стул, кинулся прочь из кабинета, в узкие, гулкие коридоры, на темные, пахнущие мышами винтовые лестницы, стены которых были увешаны пыльными сценами времен франко-прусской войны, ржавыми щитами и алебардами, к солнцу, наружу, туда, откуда нёсся звонкий, с легкой сумасшедшинкой, смех Эльзы.
И вот он уже осторожно ступая, шёл по мягкой, податливой земле у старой стены, заросшей диким виноградом. Манфред клял себя последними словами за дурацкую и нелепую затею забраться вчера на этот старый дуб, что простирал свои ветви над её любимой скамейкой.
Слегка прихрамывая, щупая всё ещё ноющий затылок, он подошел к густым зарослям орешника.
Вдруг сзади послышался лёгкий выдох:
- Манфред, глупышка…
Он резко обернулся:
- Я не глупышка! Я здесь… Я здесь орехи собираю.
Гувернантка улыбнулась, сделала шаг навстречу и обвила руками его шею:
- У-у, какая у тебя мощная, роскошная шея. Настоящая волчья холка.
Манфред попятился, попытался выкрутиться, освободиться. Ему казалось, что прикосновения её длинных пальцев, таких же нежных, как и шёлк её тёмно синего платья, как впрочем и её запах и насмешливые зелёные глаза в нескольких сантиметрах от его глаз, ему только снятся. Это всё сладкий сон, который никак не хочет его сейчас отпустить, сколько бы он не сопротивлялся.
В свои пятнадцать лет он был выше, мощнее, сильнее неё, но Эльза прижалась к его к своей горячей груди, повисла на его шее, словно обессилев, заставила склонить голову, и тут же поцеловала его в губы своим сочным, влажным ртом. От неё так же как и на занятиях нежно пахло розовым маслом, чистым бельем и «Shalimar».
Манфред упрямо сначала сжал губы, и сделал слабую попытку оттолкнуть девушку, но она сломила его волю, застелив взор сладким туманом, размягчив напряженные мускулы.
Как безумный он, подхватил Эльзу. В невероятной радости закрутился с ней на месте, но потерял равновесие и упал на спину.
Она в последний момент выскользнула из его рук, устояла, а потом перешагнула изящной ножкой через его тело, утопив каблук черной лакированной туфельки в мягкой земле:
- Разъяренный зверь повержен... Глупышка порвал мне чулок…
Она улыбаясь и оглядываясь, не спеша пошла в сторону восточного флигеля дома, где она обычно играла с сестрами Манфреда в кольца и мяч. Перед тем как скрыться за длинными рядами кустов самшита, подстриженного в виде крепостной стены с зубцами, Эльза высоко подняла подол платья, осторожно подтянула тонкий шелковый чулок со стрелкой сзади. Крутой изгиб её бедер, плечи, кажущиеся широкими из-за великолепно тонкой талии, и деталей платья, слегка вьющиеся кончики волос, сейчас были подсвечены лучами утреннего июльского солнца, и казались частью какой то картины или художественной фотографии.
Затем она не оглядываясь больше, сделала рукой еле заметный лукавый жест как тогда на скамейке: знаю, что ты неотрывно смотришь на меня, мой мальчик.
Манфред закусил губу и уткнулся в холодную землю бешено стучащим виском, как будто земля могла унять эту необъяснимую дрожь.
Он вдруг опомнился, и задыхаясь от волнения бросился в сторону конюшен, где его уже пол часа безуспешно ожидал Густав-Адольф. Манфред на бегу распахнул ворот широкой армейской рубахи, подаренной ему как-то фон Зейдловым, несмотря на протесты отца, безжалостно оторвал капризную пуговицу, впившуюся в горло.
Выскочив на просторный конюший двор, примыкающий вплотную к западному флигелю поместья, он наткнулся на конюха, который тащил на вилах копну свежего сена, направляясь к обширным яслям.
- Я так понял, что Ваш урок с этой вертихвосткой продолжился, и верховая езда на сегодня отменяется. Вот и решил лошадей кормить.
Густав-Адольф оглядел юношу, и выставив перед собой блестящие острия широких вил, двинулся в сторону приземистого строения, крытого красной черепицей. Чуть дальше за конюшнями виднелась заброшенная беседка у заросшего тиной пруда, огромный валун, с высеченными в его теле сидениями, юго-восточный фасад дома с балконам и прихотливым завиткам лепнины прошлого века, наполовину скрытый вьюнами, тянущихся вверх своими нежными росточками к солнцу мимо узкий окон и давно заколоченных дверей.
Манфред неожиданно разозлился на себя, на конюха, на весь мир. Он схватил Густава-Адолфа за рукав и сильно его тряхнул:
- Почему ты, называешь её вертихвосткой? К чему все эти разговоры про Лорелею и про отца? Я из-за этого всю ночь заснуть не мог!
- Это всё из своего жизненного опыта, герр фон Фогельвейде - младший. Все женщины, а в особенности саксонки, ужасные вертихвостки и в придачу ведьмы. Эта двадцатипятилетняя бабёнка совсем другая, чем вы её видите, и представляете себе, молодой господин. Я не желаю Вам зла, но даже не знаю, как Вам лучше рассказать об этом. Это вам отец и мать должны рассказывать, а не я - старый кавалерист, который в свое жизни на войне убил столько людей, что и не сосчитать. Вы бы поостереглись её.
- Не смей её называть вертихвосткой и ведьмой! Слышишь, Густав-Адольф? Никогда! – он ещё раз дёрнул конюха за рукав. Треснула ткань, а конюх бросил вилы перед собой и развернулся, чуть не опрокинув Манфреда, так, как если бы Манфред держал в кулаке не рукав человека, а гриву мощного коня. В лучах солнца, тускло сверкнул золотой знак шлема в венке, за пять полученных ранений, который был прикручен к засаленному жилету. Допрос юношей этого ветерана Рейхсвера, вызывающего у любого человека безусловное уважение, был абсолютно нелепым, и это понимание мгновенно остудило Манфреда. Ему стало неловко за свою выходку и его кулаки разжались:
- Не говори так больше при мне, Густав-Адольф, пожалуйста. Вот. Возьми. Не сердись за мою вспыльчивость. – Манфред вынул из широких бойскаутовских бриджей чёрно-зелёную бумажку в пятьдесят рейхсмарок с портретом финансиста Ганземана и протянул перед собой.
Но Густав-Адольф только замотал головой:
- Разве это вспыльчивость. Вот у Вашего отца на фронте была вспыльчивость! Нет-нет. Не надо. Ваш отец и так не обижает меня деньгами и не обходит своей заботой. У меня отличная военная пенсия и лавочка с принадлежностями для верховой езды в Кёнигсберге. У меня всё хорошо с деньгами. Я не из-за денег здесь служу, а из-за Вашего отца. А Вы лучше купите карамели для кухаркиной дочки, вечно грустящей Гретхен. Она давно сохнет по Вам. Всё лучше, чем эта... Ну, ладно - ладно. Не сатанейте больше, не буду я об этом ворчать. – Густав-Адольф поднял грабли, неторопливо подойдя к яслям, вывалил в них сено и отправился за новой копной.
Манфред сунул банкноту обратно в карман, вынул вместо неё никелевую монету и ногтем большого пальца подбросил её над головой:
- Если орёл, пойду к себе и расставлю битву у Ватерлоо. Если выпадет цифра, пойду искать Эльзу.
Сверкнув на солнце быстро вращающимися гранями, металлический кружочек рейхсмарки упал на ловко подставленную ладонь. Изображение хищного, клювастого и когтистого орла оказалось сверху.
- Жребий указал дорогу. Ну, и хорошо. - Манфред облегченно вздохнул и зашвырнул монетку в пруд.
Он вошёл в дом, поднялся по истертым ступеням на второй этаж, открыл в подряд несколько тяжелых, высоких дверей центральной анфилады комнат.
Неуютно ёжась, он быстро прошел через комнаты, мимо рядов мебели под матерчатыми чехлами, стараясь не тревожить дремлющую тут гулкую пустоту скрипом паркета. Затем он свернул в тёмный, холодный коридор, растирая всё ещё саднящее колено.
И тут ему пришлось оторопело остановился; в его комнате, в его святая святых, где на дубовом полу ждали его сотни аккуратно расставленных оловянных фигурок, там, где лежали на широком подоконнике тома военной энциклопедии, открытые на листах красочных карт судьбоносных для мира сражений, в его комнате кто-то был! Дверь приоткрыта, и видно как на обоях колеблется чья-то тень.
Внутри Манфреда заклокотало возмущение; что если старая, глухая служанка Брунгильда, вдруг решила, несмотря на строжайший запрет, навести в его комнате порядок, и сейчас моет драной половой тряпкой изъеденный древоточцем паркет, и машет веником прямо в центре английского каре, атакуемого непревзойденной конницей маршала Мюрата?
Быстро и решительно, обдумывая как бы поскорее вытеснить из спальни вредную Брунгильду, Манфред приблизился к приоткрытой двери, из-за которой слышались неясные, неявные звуки. Толи тихое поскрипывание петель окна, толи звук выдвигаемых ящиков стола. Юноша дернул за бронзовое кольцо, пропущенное через латунную львиную голову, и полностью распахнул дверь…
Среди красно-белого и сине-черного моря фигурок на коленях сидела Эльза и щелчками острого ноготка, сшибала одного за другим кирасир, драгун, гусар и гренадёров обеих армий.
Подняв на ошарашенного Манфреда невинные зеленые глаза, девушка поправила хрустальный кулон на груди:
- Мой милый мальчик, ты уже такой взрослый, а всё ещё играешь в солдатики.
- Это не солдатики, а военная миниатюра. Вы все вокруг сговорились против моего увлечения. И мой отец, и отец моего отца, и дальше вглубь времени, они все всю свою жизнь играли и в солдатиков в настоящих солдат. Никто почему-то не говорит каждый день моему отцу, что он маленький, из-за того, что весь наш дом заставлен и завешен изображением лошадей и всадников. Эльза, а почему ты пришла сюда? Это не очень хорошо. Ты специально всё делаешь так, чтобы свести меня с ума. Не знаю для чего тебе это нужно. Так нельзя. Это не правильно. Уходи, пожалуйста. – он с досадой тряхнул головой, чувствуя как его щеки покрываются ярким румянцем.
- Мне ничего ни от кого не нужно. Я вполне самостоятельный человек. Что правильно, а что не правильно, я сама знаю лучше остальных. Я, например не сжигаю Рейхстаг, не устраиваю забастовок, не держу дочерей как заложниц своих финансовых затруднений, не играю в оловянные фигурки, а просто живу. А что касается моего прихода сюда сейчас, то это случилось только потому, что твой отец сказал мне, что ты со своей сестрой Гретель, и с ним должен завтра ехать на торжество к Генриху цу Дона-Тольксдорфу, и он попросил меня срочно ещё раз повторить с тобой правила этикета. Та будет кое-какое общество. Я так понимаю, твой отец не оставляет своих попыток познакомить Гретель ещё с кем-то, что бы она хоть немного охладела к Мартину. Вот и всё. Это преступление? – гувернантка перестала, наконец, сбивать пальцем фигурки на полу, распрямила гибкую спину, улыбнулась и встала на ноги. Её шёлковое платье слегка собралось складками выше колен. Она мягко одернула эти складки.
- Ты говоришь неправду Эльза.
- В какой части неправду? Про Рейхстаг или про Генриха цу Дона-Тольксдорфа? Клянусь всеми святыми, что и то и другое верно!
- Всё. Хватит. Пойдём тогда в кабинет отца, и ты там мне преподашь урок этикета.- Манфред почувствовал досаду, хотя сам не мог понять причину её происхождения.
- Пойдем-пойдём. – неожиданно легко согласилась Эльза, и как показалось Манфреду, равнодушно вздохнула: - Я так и предполагала, что ты решишь отправиться именно туда.
Манфред скользнул взглядом по разгромленному флангу англичан, и по не менее разгромленным колоннам пруссаков, рядом с каблучками туфель Эльзы, молча повернулся и пошёл туда, где утром ему был дан незабываемый урок французского языка, и где он был признан «Vous dispose a apprendre». По ногам дуло, словно со стороны освещённого солнцем фасада стоял огромный вентилятор и нагнетал в помещения теплый воздух. Манфред шёл и размышлял о странных поворотах в его отношениях с этой женщиной, идущей сейчас следом за ним, начиная с того момента, как он первый раз увидел её шесть месяцев тому назад. Он видел, как она тогда выходила из двуколки, на которой за ней на станцию ездил Густав-Адольф. Шёл снег с дождём. У Эльзы на зонте была сломана спица и вода падала ей на колени, а верёвки на багажнике двуколки никак не хотели развязываться. Она тогда так робко и украдкой осматривалась вокруг, и так тихо и чрезвычайно вежливо здоровалась с прислугой и сёстрами Манфреда, которым её представляла Амелия, а её пальто, блуза, юбка, туфли и чулки выглядели так скромно и непритязательно, что могло тогда показаться, что эта молодая женщина всю свою жизнь провела внутри лютеранской обители, или в невероятной деревенской глуши, хотя её рекомендательные письма и предыдущая работа в педагогической центральной библиотеке при институте Комениуса, рекомендовали её как весьма расторопную и решительную. Но уже через две недели, перед тем как ехать в Кёнигсберг за покупками к пасхе, старшая сестра Манфреда сказала, что не поедет в город с родителями, если с ними не поедет гувернантка Эльза Грубер. Ещё через две недели отец Манфреда посчитал просто необходимым, чтобы Эльза присутствовала на завтраках, обедах и ужинах, и переехала из западного крыла поместья, где жил Густв-Адольф, Брунгильда и другая прислуга, в восточное, хозяйское крыло, распорядился, чтобы Густав-Адольф обучил её верховой езде и приобрёл для неё в Кёнигсберге, куда он с Эльзой по этому поводу ездил вместе, одежду для верховой езды и соответствующее снаряжение. Мартин, бывая в Вольфберге, и находясь в обществе Гретель, всегда заводил с Элзой пространные разговоры о медицине и оккультных науках, и даже подарил ей свою монографию «Стерилизация душевнобольных» с автографом. В Эльзе было что-то неуловимо волнующее, странное сочетание наивной простоты и изощрённого ума, отсутствие красоты в классическом понимании, но абсолютная соразмерность во всём, подчёркнутая умелым обращением с косметикой и одеждой. Манфред и сам замечал, что невольно стремится туда, где Эльза мило разговаривает с кем ни будь своим звенящим голосом, очаровательно улыбаясь и красиво жестикулируя своими холёными ладонями. Её история о том, как её притеснял и домогался бывший начальник её по библиотечной работе, и как она была вынуждена практически убегать из Лейпцига, нашла понимание и сочувствие практически у всех обитателей Вольфберга, за исключением разве что Густава-Адольфа, который считал, что всё что происходило с Эльзой, или будет происходить потом, является результатом её свойств и поведения…
Размышляя обо всём этом, и о том, что происходило между ним и Эльзой в последние полгода между ними, все эти взгляды, намеки-полунамеки, недомолвки и легкие прикосновения, вчерашний случай у скамейки, сегодняшний урок, Манфреда и не заметил, как оказался у двери отцовского кабинета. Эльза остановилась у него за спиной.
Кабинет оказался закрытым на ключ.
Манфред спиной почувствовал, что она улыбнулась.
Биллиардная рядом тоже оказалась закрытой.
На этой стороне оставалась теперь только комната гувернантки.
- Придется, Манфред, идти ко мне. Не заниматься же светскими манерами на конюшне, или в коридоре. Верно? Ты не против?– она потянула его за рукав рубашки.
Манфред как завороженный последовал за ней, пытаясь вспомнить, когда в последний раз на его памяти и кем запиралась биллиардная комната, которая одновременно была и курительной комнатой, и вообще местом задушевных бесед старых приятелей фон Фогельвейде по военной службе.
В конце коридора, у стрельчатого витражного окна с красными маками и синими ирисами, Эльза остановилась, щелкнула старым замком, открыла дверь, вошла внутрь и вопросительно обернулась.
Манфред вошёл в комнату гувернантки и рассеяно сел у самой двери на маленькую банкетку. Мебель в комнате была обычной для этого крыла здания, как впрочем, и небольшие окна, завешанные тяжёлыми шторами, как и гобелены на стенах с изображениями средневековых всадников травящих вепря, или с другими подобными сценами охоты. Он пробежал глазами по пейзажам, нескольким акварельным рисункам в тоненьких металлических рамах, огромной кровати под балдахином посреди комнаты. Эту кровать Манфред никогда раньше в доме не видел, хотя будучи ещё совсем маленьким, облазил в поместье каждый чердак, подвал и кладовую, каждый погреб и сарай. Чего он только не обнаружил в древнем гнезде своей семьи: и длинные плетёные корзины к снарядам, и скелет человека за деревянной обшивкой стен одного из подвалов, и подземный ход ведущий к ручью Хавитц. Но вот такой дубовой кровати на резных деревянных ножках, в изголовье которой были выполнены неизвестным искусным мастером ряды эльфов, гномов и цветов, он не видел.
Манфред недоуменно уставился на роскошное ложе под голубым персидским покрывалом из шёлка с желтыми кистями, небрежно накинутое на две объемные подушки, и торчащий из под них край расшитого китайскими цветами одеяла:
- Откуда это чудо? Я точно помню, в доме такой кровати не было!
- Эту диковину привез и поставил тут твой отец. Через месяц после моего приезда. Он еще сказал, что это подарок. Что эта кровать особая, и она спасает от одиночества. Я сначала не поняла, что он имеет ввиду. А потом… – Эльза как-то странно запнулась, некоторое время молчала, словно о чём-то размышляя, или, вспоминая, а затем подошла к Манфреду так близко, и очень близко подошла к Манфреду, что волнующий запах её губной помады и духов сделался отчётливым.
- Что это значит, спасает от одиночества? И почему ты на меня так странно смотришь? Я надеюсь, что у нас сейчас будет урок этикета, или я пойду к себе, если это не так.- он посмотрел на неё снизу вверх.
- Будет-будет. Ты красивый. Мощный. И одновременно такой молодой и беспомощный. Просто прелесть. К тому же ты так похож на своего отца в этом же возрасте. Я видела несколько его фотографий. Это были, наверное, один из самых первых фотокарточек на Земле. На серебряных пластинах. А тебе, мой Манфред, скоро исполнится шестнадцать? Правда?
- Да, в конце ноября. Но какое это имеет отношение к этикету и завтрашней поездке к цу Дона-Тольксдорфу?
- Правильный вопрос. Никакого отношения это к поездке не имеет. Это имеет значение только для тебя самого и для людей окружающих тебя. Не более того. А кровать действительно не простая. Неужели тебе не хочется испытать её воздействие? Ты ведь такой смелый и ничего не боишься. А может, боишься? – она тихо рассмеялась.
Манфред вскочил как ошпаренный. Она знала, как его задеть:
- Я ничего не боюсь! Я дрался с парнями из “Новых следопытов”. Один против четырех и победил! Я их рассеял! А ещё я дрался с коммунистами в прошлом году, и с парнями из Гитлерюгенда. Я никого не боюсь. Я переплывал Прегель в обе стороны пять раз в подряд без остановки и ночью! Я влезал без страховки на гору Тотберг… Даже если ты ведьма, я тебя не боюсь. Ну, рассказывай, как действует эта кровать!
- Для начала на неё нужно сесть. Она не действует на расстоянии. – Эльза взяла юношу за руку, и усадила на покрывало. Затем она встала перед ним, подняла ладонями его упрямую голову вверх и заглянула на самое дно его широко раскрытых глаз:
- Глупышка Манфред…
Он вздрогнул, но на этот раз промолчал.
Мягкий полуденный свет неестественно контрастно разбрасывал причудливые тени в пространстве комнаты. От хрустальных шариков люстры, фацета зеркал, от стеклянных пузырьков и коробочек на трюмо, везде трепетали и дрожали разноцветные солнечные зайчики. Через полуоткрытое окно, откуда-то издалека, должно быть со стороны фермы, стучали молотки, торопясь закончить работу перед выходным днём…
Эльза некоторое время стояла, держа в прохладных ладонях его крупную голову, потом на секунду закрыла глаза и быстро пригнувшись, поцеловала его долго и сильно.
Потом, не давая опомнится, она повалила Манфреда на мгновенно сбившееся покрывало, прошла рукой по его трепещущему телу, скользнула по просторным бойскаутовским бриджам.
Шумно выдохнув, будто выгнав из себя скованность, нерешительность и оцепенение, Манфред схватил её, прижал к себе.
Что-то слабо хрустнуло:
- Тише, волчонок, ты так раздавишь меня своими ручищами… Расстегни лучше платье, мне в нём так душно… Не рви его, ой, осторожней… Вот бешенный!
Пальцы Манфреда не слушались.
Одна за другой упали, и покатилась по ковру две перламутровые пуговки.
- Мое новое любимое платье! – Эльза попыталась ему помочь, но это только отсрочило падение ещё одной пуговицы.
- Я возьму у отца денег… Я подарю тебе десять таких платий! Прости меня за мою грубость. Не убирай оттуда руку. Трогай меня так…
Наконец платье и нижняя рубашка Эльзы упали на покрывало и скользнули на ковёр. Перед горящим взором Манфреда колыхнулась грудь, как у греческих статуй в парадном зале: упругая и округлая.
Он нежно припал к ней губами, и почти задохнулся:
- Ты чудо, Эльза! Ты самая прекрасная женщина на Земле!
- О! Ты гений, волчонок. Начинающий Джакомо Казанова… Делай так. Делай. Но учти, ты ни о чем не должен говорить своему отцу и вообще кому бы то ни было. Иначе меня выгонят из Вольфберга, и я думаю, учитывая связи твоего отца, мне не найдётся места больше во всей Пруссии. Обещаешь мне хранить нашу тайну?
- Даю тебе честное слово. Клянусь честью. Никому!
- Признайся, ты думал обо мне этой ночью?
- Угу.
- Да оторвись ты на секундочку от моей груди! Она сейчас никуда не убежит от своего мальчика.
- И не только в эту ночь я думал о тебе, Эльза. Я овладевал тобой мысленно много - много раз за последнее время. Я почти ощущал тебя в своих грёзах. Я всё придумывал и придумывал…
- И про то, что нужно вот так мне язычком делать?
- Да. И многое другое.
Она оторвала его от груди, и стала расстёгивать, а потом и стягивать с его ног бриджи:
- Смешные такие эти брючки по калено. Как у малышей.
- Это военная бельгийская колониальная форма.- Манфред нетерпеливо тряхнул ногой и его бриджи песочного цвета, переворачиваясь в воздухе, полетели через комнату. Они пронеслись над секретером, подняв с крышки ворох бумаг, зацепили бра, от чего матовый, фарфоровый плафон упал и вдребезги разбился, а на секретере неторопливо расплылось чернильное пятно.
- У-у, янычар. Что ты наделал!
- Ерунда, не вставай Эльза. Брунгильда всё уберёт… Не отнимай оттуда руку!
- Кроме руки у меня есть ещё и губы и поцелуйчики. Смотри, как это бывает великолепн. – она провела своей грудью по его втянутому как от щекотки животу с дорожкой маленьких, светлых волосков. Манфред схватил зубами край покрывала, чтобы не завыть, от удовольствия и вытянутыми руками порывисто прижал её голову к своему телу.
- Эй! Хочешь, чтоб я задохнулась и умерла?
- Не говори так, Эльза. Ерунда какая. Просто я...Подожди, подожди! У меня разорвётся грудь и голова от всего того, что сейчас происходит… Я никогда в жизни не был с женщиной так близко. Разве что разные там хи-хи-хи, да ха-ха-ха, поцелуйчики, объятия, и всё…
- Ах, ты мой чудный мальчик-девственник! Я хочу, чтобы ты был со мной счастлив. Ты сильный, страстный, ты лучше своего отца.
- Да почему ты все время его вспоминаешь? Оставь это, пожалуйста! Очень прошу тебя.
- Я наверно умру, если он что-нибудь проведает про нас. Он просто убьет меня. - Эльза подняла на Манфреда свой затуманенный взор.
- Какого черта он будет так поступать? С чего? И он в любом случае не посмеет этого сделать, потому что я защищу, я заслоню тебя… Ну, делай же так ещё, делай!
- Действительно, хватит об этом. Так редко выдаются счастливые мгновенья, чтобы омрачать их липкой гадостью окружающего мира. Я счастлива с тобой сейчас. Я тоже всё время думала о тебе, Манфред. В первый раз я тебя по настоящему заметила когда ты возился с ребятами из “Перелетных птиц”. Я увидела твои крепкие ноги, твои аппетитные медвежьи ужимки, нарочито неуклюжие и одновременно грациозные и милые, твое тело, как у греческих героев… Ну, держись, Антей мой! – она продолжила свои ласки, такие, о которых он раньше и не мечтал.
Он бесконечно долго цеплялся за шёлковое покрывало, мотал поплывшей в тумане головой, вздыхал и не мог выдохнуть. Это продолжалось бесконечно долго...
Но всё-таки счастливая вечность закончилось. После этого девушка села на него, и для Манфреда настало время ещё одного, нового бесконечного блаженства. Время перестало существовать для него, и когда медленно, от кончиков пальцев к низу живота, нарастая и ширясь, раздвигая его артерии, в нём, наконец, разлился огненный сироп, и он уже не помнил ни своего имени, ни таблицы умножения, а лишь несколько французских слов и то, что он самый счастливый человек на Земле.
Эльза изогнулась, сдавленно вскрикнула. Её руки безвольно упали вдоль его тела и девушка уткнулась пылающим лицом в его плечо. Она осыпала его влажное лицо мелкими поцелуями, слизнула из-под его светлых ресниц выдавившуюся от сладкого исступления слезинку, и легла рядом уютно, как кошечка.
Он с закрытыми глазами нащупал пальцами завитой кончик пряди её волос, и медленно накручивая его на палец, прошептал тихо:
- Ты…Ты…Я женюсь на тебе. Я растерзаю всех, кто хоть взглядом обидит тебя, я...
- Молчи, мой звереныш, молчи. Слушай голос внутри себя и знай, что ты сейчас испытываешь самое прекрасное ощущение, из тех что может испытать человек на этом свете. Деньги, слава, роскошь, победа в бою, существуют только для того, чтобы добыть это чувство, или чтобы необыкновенно усилить его. Лучше этого ощущения полного счастья может быть только оно же, но только в сочетании с бутылочкой хорошего французского вина, какого ни будь Bordeaux Chateau - Cheval Blanc. Вот и всё. А потом лишь бесконечный путь к совершенству чувств.
- Я женюсь на тебе, Эльза! Мы будем жить у моей бабушки в Кенигсберге…Она меня любит и поймёт.
- Глупышка, этого никогда не будет, пока жив твой отец и твой дядя Вили, который опекает твою бабушку. Да и другие члены вашего семейства тоже не обрадуются мне, дочери бедного сельского каппелана. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Кстати, ты не забыл, что ты мне обещал про сохранение тайны?
- Клянусь честью. Всё останется в тайне. - прошептал Манфред.
Неожиданно из замочной скважины на коврик перед дверью выпал ключ, видимо вытолкнутый снаружи. Мягкий шлепок маленького металлического предмета на мягкую ткань своим звуком сейчас затмил бы удар грома над самыми шпилями Вольфберга. Эльза смертельно побледнела и рывком задернула полог над кроватью.
Поздно. За дверью кто-то отчетливо дышал, освобождённая от ключа замочная скважина сначала светлая, потом тёмная, и чьё-то осторожное дыхание за дверью подсказывали, что кто-то в замочную скважину подсматривал, пожирал взглядом мелькнувшие тела любовников, беспорядок вокруг постели, валяющиеся на приступке кровати походные башмаки Манфреда, болтающиеся на спинке стула его армейскую рубашку.
Эльза и Манфред затаились, словно котята за дымоходом кухни, когда около двери принюхиваясь, проходит хозяйский бульдог. Казалось, что и комната затаилась, и даже мелкая пыль и призрачно белое перышко из подушки остановились в бликах солнечных лучей.
Наконец за дверью послышались осторожные шаги. Они удалялись.
- О, Боже, я погибла! Это, наверное, Брунгильда. Она самого начала шпионит за мной. Наверное, по указанию твоего отца. – Эльза в отчаянии закрыла лицо руками: - Боже, что теперь будет!
- Я дам ей сто рейсмарок, и она будет молчать!
- Это бесполезно. Если она донесет, то получит гораздо больше. Гораздо больше.
- Я дам ей тогда пятьсот рейхсмарок. Займу у Отто. Он копит. Или у Штауффенбергера!
- Она возьмет твои деньги, а потом возьмёт деньги и у него, потому, что она лживая, жадная ведьма. О Боже! Помоги мне!
- Я убью её! Задушу и выкину в старый ров! Закопаю там в листве!
- Нет- нет. Не надо. Не бери на свою душу грех убийства. Убить старуху, у которой адски раздалась печень от шнапса и пива, и распухли от водянки ноги…
- Что же нам делать, Эльза?!
- Скорее уходи отсюда. Лучше всего через окно. Беги быстро, как только можешь к своим товарищам из “Новых следопытов” и уговори их подтвердить, что ты был с ними неотлучно всю вторую половину дня, начиная с момента окончания урока французского.. И возвращайся не раньше, чем закончится ужин, и все разойдутся. Тебя с этого времени видел только Густав-Адольф. Но я, наверное, смогу его уговорить, ведь он ещё не совсем стар. И не хочет тебе зла. Беги, мой волчонок, только твои быстрые ноги теперь могут спасти нас!
Манфред вскочил как освобождённая пружина. С бешено стучащим сердцем он схватил подмышку ботинки, бельё, бриджи и рубаху, распахнул окно и, убедившись, что поблизости никого нет, вылез на карниз. Затем он бросил вещи вниз, а сам, перехватываясь руками и ногами, спустился по водосточной трубе до второго этажа, и откуда спрыгнул вниз. Его падение на землю на этот раз было куда более подготовленным и безболезненным чем вчерашний полёт с дерева. Однако он всё-таки ободрал о стену и трубу костяшки щиколоток и ладони.
***
- Господин лейтенант, заправка горючим танков Вашего взвода закончена. - сквозь пелену сновидений в сознание Манфреда Марии фон Фогельвейде проникла фраза, которая как ключ, отомкнула дверь в реальность. Он приоткрыл глаза, и сквозь ворсинки ресниц различил на фоне голубого неба с большими полосами серых облаков чёрный силуэт с поднятой к голове рукой. Видимо это был фельдфебель Штильке, командир 1-го отделения боевого обеспечения из их 3-й танковой роты, имени которого Манфред пока не ещё запомнил, как не мог ещё запомнить и другие имёна своих новых боевых товарищей, за час с небольшим, прошедший с того момента, когда усталый и безразличный ко всему майор Бернард Август Фердинанд Саувант, командир 1-го батальона 36-го танкового полка 14-й танковой дивизии даже не взглянув его документы, махнул пальцами с зажатой в них зажжённой сигаретой в сторону полутора десятков танков Pz.Kpfw. III Ausf J с орудиями-убийцами KwK 39 L/60, или с надёжными KwK 38 L/42, и двух командирских малюток Pz.Kpfw. II:
- Отправляйтесь в третью роту к оберлейтенанту Вильгельму Вольфу. Он теперь будет Вашим командиром. Замените своими людьми тех фельдфебелей, ефрейторов и танкистов, которых мы с ним посадили на танки из нашего 2-го отделение боевого обеспечения. Из-за этого у меня в роте совсем не осталось резерва танковых экипажей. У Вас люди обстрелянные и свежие. А те малоопытные и переутомлённые маршем. Завтра на рассвете, скорее всего мы будем атаковать Иванов у переправы, так что это будет рационально. Советую быстро освоится, принять машины и успеть выспаться. И ещё. Мне жаль, лейтенант, честно, что из состава вашего батальона, который весь отправился в 24-ю танковую дивизию на доукомплектование, только Ваш взвод попал к нам, в нашу дивизию. Ну, довольно слов. Действуйте, лейтенант. -последние слова майор Саувант произнёс как бы через силу. Он затянулся дымом сигареты, и добавил, уже поворачиваясь к Манфреду спиной:
- И держите ухо в остро с Вольфом.
Потом, когда из двух грузовиков Opel Blitz выгружали личные вещи и снаряжение его африканской команды у танков 3-й роты, вокруг собрались нижние чины из хозяйственного и ремонтного взвода, танкисты. Даже, повар бросил свою походную кухню, а ремонтники прекратили скрежетать ножовкой в фургоне своей походной мастерской. Отто весело распоряжался, превратив вместе с Эрвином и Айсманом, разгрузку в весёлый балаган. Вся эта сцена, когда Эрвин с Айсманом подавали через борт грузовика вещи из обмундирования Африканского корпуса, со стоящими вокруг любопытными, походило на какую то рождественскую распродажу, чем и не приминул воспользовался Отто:
- А вот, господа шорты кому? Десять оккупационных марок! Кто больше, господа? Отличный фасон, совсем новые, один раз только испачканные их обладателем во время отражения британской атаки у Зивиет-Мсус!
Он приложил бежево-песочные шорты к заду Эрвина, который в этот момент кряхтя волок к краю кузова ящик со свиной тушёнкой.
Несколько солдат засмеялись, но остальные хмуро и тупо смотрели на веселье загорелых, отъевшихся в тылу, своих новых товарищей по Восточному фронту.
- А вот подборка модного французского журнала «Marie Claire» за 1941 год. Вы только посмотрите, какие красотки, какие каблучки и шляпки!- продолжил Отто и потешно раскланялся в ответ на смешки и хлопки нескольких ладоней.
- Цена лота сто оккупационных марок, друзья. – поддакнул Айсманн который напросился занять место радиста в экипаже командирского танка Манфреда, и из-за этого не отправился со всеми остальными людьми из их батальона в 24-ю танковую дивизию. Толи ему хотелось уже оторваться от «Хека» и офицеров вроде гауптманна Герстенмайера, толи ему по душе пришёлся здоровяк Эрвин, с которым они к тому же были земляки и погодки, не известно, однако стоя рядом с Отто в кузове грузовика, посреди Русской степи, окружённой со всех сторон горизонта чёрными дымами пожаров, он казался вполне счастливым:
- И ещё. Кто купит всю подборку с Парижскими красавицами, получит особый приз в виде игральных карт с обнажёнными дамочками!
После этого заявления движение в сторону грузовиков с имущества прибывшего пополнения, усилилось. Подтянулись даже несколько пензер – гренадеров, молодых, высоких парней в кителях и брюках цвета «фельдграу», до того пропылённых и пропитанных потом, что они выглядели как плотный и жёсткий брезент. Их мягкий баварский выговор хорошо сочетался с их широкими белозубыми улыбками. Два десятка их бронетраспортёров Sd.Kfz.251 и грузовых машин, гуськом стояли за танками и грузовиками 3-й роты.
- Ну, что-то никто ничего у нас не покупает. Только глазеют на нас как на Марику Рёкк с Вилли Фричем в фильме «Женщины - лучшие дипломаты».- притворно забеспокоился Отто.
- Чур я буду Вили Фричем.- изображая школьника за партой поднял согнутую руку Айсман.
- Нет Вили Фричем буду я, а ты будешь Марикой Рёкк.
- Это почему же так?
- Потому что ты фельдфебель, а я унтер-офицер. Ясно? А вот ещё кому карманный фонарь «Pertrix». Отличная вещь при ловле фронтовых блох ночью. Десять оккупационных марок. Кто больше? – Отто тогда и не заметил, как со стороны водительской кабины к грузовику подошёл высокий офицер в серой рубашке прямо на воротник которой были вышиты изображения черепа, в чёрном галстуке, и в чёрных брюках заправленных в отполированные до ослепительного блеска высокие сапоги. Коричневая кобура пистолета была навешена прямо на брючный поясной ремень, а пилотка была сдвинута почти на его изогнутый нос, отчего он держал голову слегка запрокинутой, и наступал на траву, не глядя вниз. В одной руке у него был планшет, другую руку, сжатую в кулак, он держал упёртой в бок. На его плечах прямо на рубашке были закреплены погоны оберлейтенанта. В общем, каждый элемент его экипировки был выполнен немного не по уставу. Однако ничего соответствующего Прусскому военному духу, в большей мере, чем эта внешность, представить себе было сложно..
Заметившие этого офицера танкисты и ремонтники повернулись в его сторону и приняли положение смирно. Стоящие же поодаль начали потихоньку расходиться.
- О-о! Вильгельм Вольф. Сейчас будет... - сказал стоящий за спиной Манфреда, и тоже наблюдающий представление, лейтенант в чёрной куртке старого образца с розовым кантом на воротнике и загорело-пыльным лицом, на котором контрастно выделялись светлые круги вокруг глаз от пылезащитных очков.
- Я дам вам больше всех за ваше хламье, унтер-офицер.- останавливаясь и картинно выставляя вперёд ногу, хрипло пролаял Вольф.
Отто озадаченно оглянулся вокруг: электрики ремонтного отделения с деловым видом погрузились во внутренности танковых двигателей. Сапожник из вещевого отделения, как был с сапогом в одной руке и молотком в другой руке, тут же устроился на пищевом бидоне рядом с полевой кухней и начал по одному загонять гвоздочки изо рта в подошву. Панзер - солдаты из 1-го отделения боевого обеспечения направились к своим грузовикам Praga RV чешского производства и, к похожим на гадких утят из-за формы своих капотов Krupp L2H143, в кузовах которых громоздились бочки с бензином для заправки танков. Отто уже собрался было что-то остроумно ответить оберлейтененту в такой же панибратской манере, но вовремя когда заметил отчаянную жестикуляцию лейтенанта стоявшего за спиной Манфреда, сигнализирующую о том, что говорить нельзя было ничего, и ни в каком случае.
Оберлейтенант не дождавшись ответа, но вполне удовлетворённый тем, что все прочие его подчинённые занялись полезными и нужными сейчас делами произнёс:
- Я могу Вам в обмен за всё это барахло предложить замечательную книгу, которая называется «Устав дисциплинарных наказаний в Вермахте". Этот Устав, конечно, не такой красочный, как Ваши трофейные французские журналы с голыми женщинами, но зато он определяет то, что является дисциплинарным наказанием и какие проступки и упущения против военного порядка и дисциплины преследуются.
У меня не очень большой выбор наказаний. Не то, что у командира дивизии. Всего лишь: замечание, строгое замечание, комнатный арест, или усиленный арест.
Главное тут не в этом, а том, что после моего письменного рапорта о проступке и наложенном мною взыскании в военный суд дивизии, этот рапорт будет зарегистрирован в книге учета в дивизионной канцелярии. А книга эта после заполнения сдаётся в архив Вермахта. Так что, все-все прегрешения против дисциплины во время службы хранятся потом вечно. Эти взыскания останется темным пятном на Вашей репутации навсегда, унтер-офицер. И это, доложу я Вам, обязательно сыграет отрицательную роль в Вашем продвижении и по службе: звания, награды. И на гражданской службе, если Вы, конечно, унтер-офицер, после войны, не пойдете торговать на рынок, а постараетесь устроиться в приличную контору. Но даже и на рынке банковские кредиты для Вас будут труднодоступны. Но самое главное то, что я теперь возьму Вас на примету. Если пару, тройку раз Вы попадётесь мне как нарушитель дисциплины, или даже просто как человек опасный для дисциплины моего подразделения, я отправлю Вас в Полевой Особый Батальон. Месяца, этак, на три - четыре. Ну как мне ещё преодолеть эту вашу африканскую расхлябанность? Или ещё знаю способ. Я могу предложить устроить для вашего сильно отдохнувшего в Италии взвода массу приятных упражнений для духа и тела, вроде часа занятий упражнением "лечь-встать", или ходьба на корточках с карабином в руках, вытянутых перед собой. Можно и пару часов в день организовать упражнения на плацу. И так каждый день в течении недели. Плаца тут нет, но это не беда. Местные кочки тоже подойдут. Строевой шаг очень хорошо массирует голеностопный сустав. Нормально так будет?
Вольф сделал многозначительную паузу, после которой в народной школе последовала порка незадачливого ученика ремнём, будь оберлейтенант Вольф школьным учителем, или помещение арестанта в карцер, будь он надзирателем тюрьмы. Вольф обвёл застывших как изваяния Отто, Айсмана и Эрвина, и упёрся холодным взглядом в переносицу Манфреда:
- Вы у них командир, господин лейтенант? Вы ещё не успели мне доложить о своём прибытии в роту, а уже тут цирк-шапито устраиваете. А Вы знаете, что утром предстоит атака на деревню Пимен-Черни? Там, всего в километре от нас, окопался свежий батальон большевиков. Он сможет угрожать нашему транспортному снабжению передовых частей идущих южнее нас на Абганерово, если мы его не уничтожим. Вокруг нас в траве Иваны шныряют, как гадюки. А вы знаете, что наш батальон позавчера при прорыве с плацдарма у Цимлянской потеряли десять первоклассных экипажей, и что бензина у нас впритык, и боеприпасов у нас впритык, и продовольствия тоже. У нас тут чистая питьевая вода теперь целое сокровище. Большевики за Аксаем вот-вот опомнятся, и закроют нам южную дорогу на Сталинград. На кону стоит судьба войны. А Вы что, лейтенант, тут себе позволяете?
Это сейчас, спустя два часа, после того как улеглись волнения, связанные с таким бурным знакомством с новым командиром их роты, Манфред мог сквозь ресницы, в тени своего танка Pz.Kpfw. III Ausf, опираясь спиной на опорный каток, а шеей на отполированный как зеркало торец танковой гусеницы, вдыхая запахи горячего железа, резины, масла и электропроводки, смотреть на облака, фельдфебеля Штильке, и невольно слушать ленивый разговор оружейников, занятых чисткой танковых пулемётов. А тогда, Вольф потребовал построения прибывшего взвода, доклада по форме о прибытии, и отчёта о действиях разлагающих дисциплину и отвлекающих его солдат от подготовки к атаке на Пимен-Черни. Тогда Манфред изящно разрешил ситуацию, предложив Вольфу попросту конфисковать подборку журнала «Marie Claire», а так же игральные карты с обнажёнными дамочками. Журналы, услужливо поднесённые Айсманом, были хороши, к тому же запыхавшийся денщик Вольфа прибежал весьма кстати с вестью о том, что командир батальона майор Саувант вызывает на совещание всех командиров рот к своему автомобилю. Пообещав уничтожить журналы, а так же заняться воспитанием людей Манфреда как только представиться передышка между боями, Вольф отдал журналы денщику, а сам отправился к майору Сауванту на совещание.
Фельдфебель Штильке, наконец, перестал загораживать Манфреду небо и облака, но зато за воротник кителя запрыгнул кузнечик, а у левого уха завис шмель, густо жужжа совсем как семь месяцев тому назад в оазисе у Зивиет-Мсус в Ливии. Вот только воздух был сейчас не такой сухой как в пустыне. Солнце уже не жгло, как днём, высокая трава начала источать свои запахи. Она теперь пахла так сильно и пряно, что этот запах, казалось, можно было нарезать на кусочки ножом. После случившегося вчера взрыва топлива и боеприпасов на станции разгрузки из-за самоубийственной атаки неизвестного русского пилота - штурмовика, в голове по прежнему гудело, а в ушах слышался не проходящий звон, так что мерное и настойчивое жужжание шмеля рядом с виском, воздействовало на Манфреда весьма благостно.
ГЛАВА 12
МОСКВА. КРЕМЛЬ
Докладная записка Б.Л. Ванников - И.В. Сталину
по вопросу о баллистных порохах
01.08.1942
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
товарищу СТАЛИНУ
По Вашему поручению докладываю:
1. Поставка английским Королевским пороховым заводом в г.Бишоптоне ракетных пороховых шашек из нитроглицеринового баллистного пороха Russian Solventless для снаряжения ракетных двигателей реактивных снарядов РС-М-8 и М-13 для гвардейских реактивных миномётов и нужд штурмовой авиации, выполняется всего на 12% от обещанного объёма поставок.
2. Заводы по производству баллистных порохов № 59 из Донбасса эвакуирован за Урал и к производству ещё не приступил.
3. Имеется серьёзный недостаток центролита - стабилизатора химической стойкости нитроглицериновых порохов из-за эвакуации Дорогомиловского завода по производству центролита, и из-за того, что транспорт с центролитом из США потопили немцы. Таким образом под угрозой остановки находится работа завода № 562 при НИИ-6 в Москве, последнего крупного завода по производству баллистного пороха для нужд реактивной артиллерии и ВВС РККА.
Предлагаю:
1. Использовать мощности завода №512 НКБ для изготовления ракетных зарядов из некондиционного нитроглицеринового артиллерийского пороха со складов Главного Артиллерийского Управления.
2. Применить разработанную Особым Тех.бюро № 98 4-го спецотдела НКВД СССР под руководством Бакаева, революционную технологию производства баллистных порохов непрерывным способом варки и формирования пороховых шашек на специальных шнековых прессах с исключением процесса вальцевания пороховой массы и прессования шашек на гидравлических прессах, с увеличением производительности труда на 40%. Производство по этой технологии проводить на заводе №98 НКБ и на заводе № 512.
3. Вместо центролита - стабилизатора химической стойкости, применить жжёную магнезию, а в случае её полного израсходования, обычный оксид магния производимый на заводе «Магнезит». Производство этого пороха-заменителя НМ (нитроглицерино-магниевый) развернуть на заводе № 40 и № 850.
4. Начать производство баллистного пороха – заменителя по рецептуре ПС (пироксилиново - селитренный) и пороха ПК (пироксилино-канифольный) по технологии И.В.Казанцева. Для сохранения дальности стрельбы реактивными снарядами при применении этих порохов-заменителей, предлагается увеличить массу порохового заряда и длину корпуса ракет на 10%.
5. Срок ввода в строй мощностей завода № 577 сократить на шесть месяцев, доукомплектовать его оборудованием завода № 59 и начать производство баллистного пороха не позднее 1 сентября 1942 г.
Данные мероприятия позволят до середины 1943 года, т.е. до полного ввода мощностей по производству нитроглицериновых порохов в соответствии с решениями Государственного Комитета Обороны, удовлетворить потребности Красной Армии в зарядах для реактивных снарядов бесствольной артиллерии М-8 и М-13 и штурмовой авиации.
Народный комиссар боеприпасов СССР.
Б.Л. Ванников
Заместитель Народного Комиссара Боеприпасов
К.Б.Сомов
Прочтя этот текст, напечатанный, видимо, на сильно изношенной пишущей машинке, из-за чего часть букв были заметно сдвинуты относительно оси строк, а нижняя часть букв была менее чёткой, пожилой человек в серо-зелёном кителе полувоенного образца, и в таких же брюках заправленных в мягкие, без каблука, низкие сапожки, на которых у подошвы имелись потёртости, а на голенищах у щиколоток с внутренней стороны даже дыры, положил карандаш фабрики «Сакко и Ванцетти» на пыльное зелёное сукно стола, и ногтём указательного пальца правой руки, жёлтым от никотина, нажал на кнопку электрического звонка, свободно лежащую на столе, и похожую из-за хвостика провода, на маленькую мышь. После этого он повернул свою массивную голову с высоким лбом и седеющей шевелюрой тёмно коричневых волос, зачёсанных назад, в сторону напольных часов в углу большого кабинета, скользнул взглядом по гардинам, за которыми вместо вечернего августовского солнца чернели закрытые наглухо стальные противоосколочные ставни и, потрогав пальцем свои объёмные жёсткие усы, с усилием поднялся с полу-кресла.
Почти беззвучно отворилась высокая дубовая дверь из приёмной, и в кабинет вошёл сутулый человек небольшого роста, с большой круглой, почти лысой головой, с лицом, похожим одновременно на лицо большого ребёнка и одновременно мартышки. Он мгновенно зафиксировал огромными умными глазами обстановку вокруг себя: карты Юго-Западного и Центрального направления на длинном столе совещаний, пухлые папки на рабочем столе с бесконечными военными, дипломатическими, политическими, хозяйственными документами из Государственного Комитета Обороны СССР, Ставки Верховного Главнокомандования, из наркоматов, от членов ЦК партии ВКП(б) и Политбюро, работников Штаба партизанского движения, руководителей разведки и контрразведки, от конструкторов вооружений, учёных и деятелей культуры и рядовых граждан Союза ССР. Вошедший сделал ещё несколько шагов вглубь кабинета по красно-зелёной ковровой дорожке. Он на ходу перевернул лист блокнота и приставил к чистой странице остро отточенный графитовый карандаш:
- Вызывали, товарищ Сталин?
Сталин, едва заметно поморщившись от полиартритных болей в ногах, вышел из-за рабочего стола и, сделав несколько осторожных коротких шагов, подошёл к большому портрету Кутузова, выполненного маслом:
- Товарищ Поскрёбышев…- сказал он, чуть поднимая руку в направлении рабочего стола.
Поскрёбышев приблизился к столу: папка, куда Сталин откладывал во время работы самые интересные для него бумаги была закрыта, тетрадь в чёрном дерматиновом переплёте с никому не известным содержанием была тоже сейчас закрыта, на столике рядом с рабочим столом, на котором стояли телефонные аппараты Кремлёвских АТС и аппараты ЧС, все трубки лежали на своих местах. Поднос с уже давно остывшим обедом в сервизе кузнецовского завода стоял в начале стола совещаний. Щи с капустой, отварное мясо с гречневой кашей и сулугуни, были не тронуты. И тут же Поскрёбышев увидел, что под карандашом, заточенным с двух сторон, одна часть которого была синей, а другая часть красной, лежал документ без сопроводительного листочка в углу. Он издал какой-то не членораздельный горловой звук и быстро пробежав по корешкам бумаг тонкими пальцами, так как это сделал бы картёжный шулер, извлёк и приколол скрепкой к донесению наркома боеприпасов Ванникова, маленький квадратный листочек со своей же надписью: «Всё, кроме завода № 850». Потом он, зажав блокнот подмышкой, подхватил поднос с не использованным обедом, и тихими шагами отправился к выходу.
- А что, Борис Михайлович всё ещё в приёмной? Ему лучше не стало?- Сталин перестал рассматривать портрет Кутузова, обернулся, продолжая переминаясь с ноги на ногу, пытаясь нормализовать кровообращение в ноющих ступнях.
- Товарищ Шапошников всё ещё в приёмной, товарищ Сталин. Ему всё ещё плохо. Он сидит с кислородной подушкой как всегда. Он просит разрешения ещё подождать с докладом. - Поскрёбышев почти у самой двери развернулся с подносом в руках и застыл выжидательно.
Зазвонил телефон ВЧ. Сталин, не торопясь, вернулся к рабочему столу и прежде чем поднять трубку, сказал, обращаясь к высоким дубовым панелям стен:
- Подойдёт товарищ Ворошилов, Вы его в журнал не записывайте, а ведите сразу сюда. А то я товарищу Берия сказал, что утром с работы уеду на дачу в Кунцево, и там с ним поговорю по его вопросу. А сам тут всё ещё работаю, а не сплю, и Шапошникова вызвал и Ворошилова. Товарищ Берия может подумать, что я его игнорирую. Будет нервничать просто так. Пусть думает, что я тут просто сплю.
- Понял Вас, товарищ Сталин.
Бросив короткий взгляд жёлтых глаз на выходящего в приёмную секретаря, Сталин наконец поднял трубку, прервав трели звонка, и не прижимая трубку к уху, так что усиленный динамик оглашал весь кабинет потрескиванием и шипением, сказал:
- Слушаю Вас.
- Это начальник штаба Сталинградского фронта, генерал майор Никишин.
- Как дела, товарищ Никишин?
- Вчера танковые части немцев прорвались через Котельниково на Сталинград в разрыв между 51-й и 46-й армией. 82-я дивизия с Дальнего Востока попала под удар авиации во время движения в эшелонах и под танковый удар в момент разгрузки, и почти уничтожена. Там теперь почти нет наших войск. Мы послали генерала Чуйкова любыми путями организовать оборону. Всё что он сможет собрать. Командование фронтом находится теперь слишком близко к противнику, который может с ходу ворваться на улицы Сталинграда, и под возможным поражением авиацией, и просит разрешения вывести штаб на восточный берег Волги, а КП фронта организовать в Ахтубе!
Сталин дослушал взволнованный доклад начальника штаба Сталинградского фронта, и покосился на карту отображающую положение войск в районе Сталинграда, лежащую поверх других карт более крупного масштаба. После этого он молчал довольно долго. Сквозь закрытые стальные ставни проник, отзвучал и закончился отдалённый бой кремлёвских курантов, пробивших семь часов.
Наконец он спокойно произнёс:
- Товарищ Никишин, спросите товарищей Хрущёва и Гордова, лопаты у них есть?
- Сейчас, товарищ Сталин… - в трубке некоторое время шипело и трещало, после чего последовал вопрос: - А какие лопаты, товарищ Сталин?
- Любые. – Сталин, не выпуская из руки трубку телефона, обошёл свой рабочий стол, сел за него. Он пробежал глазами пометку Поскрёбышева на записке Ванникова, вычеркнул в тексте записки упоминание о заводе № 850, и написал внизу размашисто синим карандашом: «Согласен. И.Ст.». После этого он положил рассмотренную записку справа от себя и, открыв красную папку лежащую слева, взял следующий документ:
П.К. Пономаренко – Сталину И.В.
1 августа 1942 года
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
товарищу СТАЛИНУ
Объединенные партизанские отряды Емлютина, Бондаренко в лесах южнее Брянска ведут упорные бои с регулярными немецкими частями. Противник, 134-я пехотная дивизия немцев и восемь карательных батальонов общей численностью около одиннадцати тысяч человек с артиллерией и танками, занял Локоть, Негино, Суземка. Бои развернулись в лесу.
Сегодня получена радиограмма от партизанских отрядов с просьбой бомбить следующие пункты скопления противника: Локоть, семьдесят шесть километров юго-восточнее Брянска, — до пяти тысяч человек. Негино, Суземка, сто шесть километров южнее Брянска, — до пяти тысяч человек. Навля, сорок семь километров юго-восточнее Брянска — скопление пехоты, Синезерки, тридцать километров юго-восточнее Брянска, Выгоничи, двадцать километров юго-западнее Брянска.
Имея в виду огромное значение бомбежки для поднятия боевого духа партизан, прошу удовлетворить просьбу партизан и дать Ваше распоряжение разбомбить силами Авиации Дальнего Действия СССР, находящегося в распоряжении Ставки, скопление немцев в тысячу восемьсот человек с техникой в населенных пунктах: Локоть, Негино, Суземка, Навля, Синезерки, Выгоничи. После этого партизаны смогут уничтожить остатки вражеской группировки.
Начальник Центрального штаба партизанского движения П. К. Пономаренко.
- Лопаты есть, товарищ Сталин, много!- ответила, наконец, чёрная эбонитовая трубка.
- Передайте товарищам Гордову и Хрущёву, пусть они возьмут лопаты и копают себе могилы. Штаб фронта останется в Сталинграде. До свидания.
Сталин медленно положил трубку на рычаг телефонного аппарата. Треск и шелест смолк.
Он глянул на листок с пометками Поскрёбышева на сообщении Понаморенко, подчеркнул слово «удовлетворить» и написал внизу синим карандашом: « т.Голованову. 100 вылетов до 4.08.42.». После этого Сталин взял следующую бумагу:
Л.П. Берия – Сталину И.В.
2 августа 1942 года
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
товарищу СТАЛИНУ
Предполагается создание сверхсекретной лаборатории Лагерь «Y» в Лос-Аламосе, расположенной в безлюдной местности в штате Нью-Мексико (до ближайшего города Саната-Фе – 70 км.) для проживания и работы 2-х тысяч учёных, технического и военного персонала. Цель – осуществление проекта «Манхеттен» - создание в течении трёх-пяти лет атомной бомбы под руководством профессора физики Калифорнийского университета в Беркли, Роберта Оппенгеймера.
Поскольку Айзеку Фолкоффу («Дядя» агенту 1-го управления НКГБ СССР), удалось установить доверительный контакт с Робертом Оппенгеймером, имеются основания полагать, к работе над проектом «Манхеттен» могут быть привлечены британский физик Клаус Фукс («Рест» агент ГРУ Наркомата обороны СССР), и Юлиус Розенберг («Либерал», или «Антенна» агент ГРУ Наркомата обороны СССР). В качестве связного с группой «Либерала» должен быть использован химик Гарри Голд («Раймонд» агент 1-го управление НКГБ СССР), работающий по проблеме получения технологии изготовления и проявки цветной фотоплёнки, а также технология производства нейлона.
Для улучшения управления операцией, прошу Вашего согласия на передачу агентов ГРУ Наркомата обороны в 1-го управление НКГБ.
Народный комиссар государственной безопасности СССР.
Л.П. Берия
Заместитель народного комиссара государственной безопасности СССР
П.М. Фитин
Начальник ГРУ Генштаба РККА
А.П. Панфилов
Через несколько секунд одновременно зазвонил аппарат ВЧ и открылась входная дверь. Поскрёбышев отходя в сторону пропустил в кабинет невысокого седого человека с небольшими аккуратными усиками, в коричневом костюме, в синей рубашке с чёрным галстуком:
- Проходите, товарищ Ворошилов.
Ворошилов, задев секретаря локтем, решительным шагом прошёл вглубь кабинета. Он, не глядя на Сталина сел за стол для совещаний лицом к окнам, сложил большие ладони поверх карт боевых действий в двухсоттысячном и пятисоттысячном масштабе для фронтов и в стотысячном масштабе для оценки действий отдельных армий и, прищурившись, уставился на свои рукава.
Сталин посмотрел на часы в углу, размашисто написал поперёк записки Берии «Согласен. И.Ст. Уничтожьте документ» и, разглядывая Ворошилова, поднял телефонную трубку:
- Слушаю Вас.
- Здравствуйте, товарищ Сталин! Говорит замнаркома нефтяной промышленности Байбаков. Докладываю, что Ваше указание по прокладке по дну Ладожского озера бензинопровода для нужд осаждённого Ленинграда выполнено. Протяженность магистрали 30 километров, по дну Ладоги 21,5 км, на глубинах до 13 метров. Бензин пошёл!
Сталин некоторое время молчал, всё так же рассматривая Ворошилова, отмечая при этом про себя, как Ворошилов изо всех сил старается не обращать внимания на красные и синие овалы, кружки, цифры, буквы и стрелки, нанесённые на карты боевых действий Юго-Западного направления.
- Товарищ Байбаков, Вы помните свою главную задачу вместе с товарищем Будённым? Нужно понимать, что Гитлер рвётся на Кавказ. Он объявил, что если он не захватит нефть Кавказа, то проиграет всю войну. Вы должны сделать всё, чтобы ни одна капля нефти ему не досталась. Если Вы оставите немцам хоть одну тонну нефти, мы Вас расстреляем. Если Вы уничтожите нефтепромыслы преждевременно, а немец их так и не захватит, и мы останемся без горючего, мы Вас тоже расстреляем. Вы должны малодебитные скважины немедленно выводить из строя, а особо богатые — продолжать использовать, и уничтожать только при самых крайних обстоятельствах.
- Вы мне не оставляете мне никакого выбора, товарищ Сталин. - после некоторого замешательства ответил замнаркома.
- Ваш выбор в Вашей голове, товарищ Байбаков. И с Будённым там думайте, решайте вопрос на месте.
- Но я ведь, всего лишь простой инженер - нефтяник, товарищ Сталин!
- А я простой Бакинский агитатор, товарищ Байбаков. И не говорите больше ни при ком такие слова. Вы коммунист, а не институтка. И не забывайте, что за Вами с Сединым ещё новые месторождения в Татарии, в Башкирии. Вы нам обещали. Мы не можем зависеть только от Баку. Либо немцы, либо англичане, рано или поздно Баку разрушат, или захватят. Что будет делать тогда Красная армия и советская промышленность без горючего? У Вас там есть ещё шесть месяцев на разведку и на подготовку производства.
- Я Вам докладывал, товарищ Сталин, ещё на прошлой неделе вместе с наркомом товарищем Сединым, что это не возможно.
Сталин тем временем подписал и отложил в папку рассмотренных документов проект директивы Ставки ВГК командующему и члену Военного совета Сталинградского фронта Гордову и Хрущёву о создании заградительных отрядов, подготовленный начальником Генерального штаба:
«Ставка Верховного Главнокомандования приказывает:
1. Немедленно донести Ставке, какие меры в соответствии с приказом НКО за № 227 предприняты Военным советом фронта и Военными советами армий по отношению к виновникам отхода, к паникёрам и трусам, как в указанных дивизиях, так и в частях 21-й армии, оставивших без приказа Клетскую.
2. В двухдневный срок сформировать за счёт лучшего состава прибывших на фронт дальневосточных дивизий заградительные отряды до 200 человек в каждом, которые поставить в непосредственном тылу и, прежде всего за дивизиями 62-й и 64-й армий. Заградительные отряды подчинить Военным советам армий через особые отделы. Во главе заградительных отрядов поставить наиболее опытных в боевом отношении особистов.
Об исполнении донести не позднее утра 3 августа 42 года.
И.В.Сталин
А.М. Василевский
Затем он, наконец, ответил Байбакову, едва заметно морщась то ли от боли, толи от необходимости это говорить:
- Будет нефть - будет Байбаков, не будет нефти - не будет Байбакова! Вы меня хорошо слышите?
- Хорошо слышу Вас, товарищ Сталин. Но я вынужден в этом случае сказать, что Нарком чёрной металлургии товарищ Тевосян, до сих пор не отгружает нам утяжелённые трубы для скоростного бурения. Поэтому и работы на «Втором Баку» задерживаются. Товарищ Тевосян говорит, что трубы из орудийной стали наших нагрузок не выдерживают, а триста тонн молибдена для необходимого легирования специальной стали Госплан ему не даёт. Там говорят, что этот молибден - неприкосновенный государственный запас, и точка.
- С Госпланом мы договоримся. Действуйте, товарищ Байбаков. И смотрите, не снижайте усилий по перебазированию нефтяников и техники из кавказских районов на Восток. До свидания.
Сталин повесил трубку телефона, взял свою курительную трубку и зелёно-чёрную пачку сигарет «Герцеговина-Флор», захватил небольшой листок из папки, где обычно лежали особо нужные ему бумаги, после чего поднялся из-за стола и сделал несколько медленных шагов в сторону Ворошилова и, положив бумагу перед ним, произнес:
- Здравствуй, Клим. Читай.
- Здравствуй, Коба.- ответил Ворошилов глухим голосом, не изменяя своего положения, а только приподнимая веки, чтобы разглядеть текст: - Что это, донос Берии? Без очков что-то не вижу уже.
- Ты читай, Клим.
Ворошилов наконец взял бумагу и приблизив её к глазам, прочёл вслух:
Получено 1 августа 1942 года.
У.Черчилль - И.В.Сталину.
Я, конечно, прибуду в Москву и сообщу о дне моего прибытия из Каира.
- Мы вчера послали Черчиллю и начальнику имперского генерального штаба Бруку приглашение приехать. Мы думаем, Черчилль будет у нас в Москве 10 августа или 12 августа. Мы думаем разговоры будут тяжёлые. У нас у всех создается впечатление, что Черчилль держит курс на поражение СССР, чтобы потом сговориться с Германией Гитлера, или, может Брюнинга за счёт нашей страны. Без такого предположения трудно объяснить поведение Черчилля по вопросу о втором фронте в Европе, и по вопросу о поставках вооружения для нас, которые прогрессивно сокращаются. Молотов месяц назад летал в Вашингтон и Лондон на бомбардировщике через линию фронта в кислородной маске и унтах, и привёз от Рузвельта и Черчилля только лишь соглашение о коалиции против Гитлера, которое и так де-факто уже действует. Мы считаем вполне возможным и крайне нужным в этом году высадку шести-восьми дивизий союзников по плану операции «Следжхэммер» на Шербургском полуострове во Франции. А Черчилль всех тянет на периферию Европы, в Северную Африку. Рузвельт жмёт на Черчилля, и мы боимся, что англичане проведут какую ни будь заранее провальную операцию в Европе, чтобы потом всем сказать: смотрите «атака» о которой вы все говорили не возможна. Посмотрите на эти сотни трупов наших канадских солдат и английских солдат, плавающие в прибрежной воде. Мы ничем не можем помочь вам. Видите – у нас десанты захлебываются в крови. Наиболее подготовленные британские спецвойска идут на верную погибель, но ничего не достигают. Мы думаем, что Черчилль заранее провалит небольшую операцию на Ла-Манше, чтобы иметь перед нами алиби. Тоже самое будет и с поставками нам военных материалов. По сведению разведки конвой PQ-17, который уже три дня двигается к Архангельску с весьма нужным нам грузом, будет атакован немцами с помощью тяжёлых надводных кораблей, авиации и подводных лодок. По мнению нашей разведки, немцы знают о конвое подозрительно много, а английское адмиралтейство ведёт себя очень странно. Не исключено, что англичане хотят принести конвой PQ-17 в жертву, чтобы груз не попал к нам, и чтобы отказаться от конвоев через Атлантику вообще. В решающий момент боев под Сталинградом оставить СССР без помощи. А на этих кораблях 300 самолётов, 600 танков, 4000 грузовиков, авиационный бензин, продовольствие, боеприпасы на сумму 700 миллионов долларов. Можно целую армию обеспечить. Правда, другие 30 наших армий мы укомплектовываем сами, но это всё равно очень важная помощь.
Сталин медленно пошёл в сторону входной двери, как бы рассуждая сам с собой:
- Допустим, что в Европе существовал бы сейчас второй фронт, также как он существовал в Первую мировую войну, и этот второй фронт отвлекал бы на себя, скажем, 60 немецких дивизий и ещё 20 дивизий союзников Германии. Каково было бы положение немецких войск сейчас, в 1942 году на нашем фронте? Нетрудно догадаться, что их положение было бы весьма плачевным. Более того, это было бы начало конца немецко-фашистских войск, ибо Красная армия стояла бы сейчас не там, где она стоит теперь у Ржева и у Сталинграда, а она стояла бы где-нибудь возле Пскова, Минска, Житомира и Одессы. Это значит, что уже летом этого, 1942 года немецко-фашистская армия стояла бы перед своей катастрофой. Так почему этого не происходит? Почему две мощнейшие страны, Англия и США не посылают свои сто дивизий под прикрытием своего флота, который в десять раз сильнее немецкого, и под прикрытием трёх тысяч своих тяжёлых бомбардировщиков? Почему они используют только десять своих дивизий из двухсот где-то в Африке? Если краха немецко-фашистской армии не случилось теперь, то это только потому, что немцев спасает отсутствие второго фронта в Европе. Это очень похоже на то, когда Англия, вместо того чтобы открыть боевые действия против Германии в 1939 году в соответствии со своим договором с Польшей, войну то Германии объявила, но боевых действий не вела, давая возможность немцам растерзать Польшу за несколько недель, и получить с нами общую границу как плацдарм для нападения на СССР. Мы ещё в 1926 году читали книгу Гитлера «Mein Kampf», и дальнейший традиционный немецкий “Drang nach Osten” очень неплохо себе уже тогда представляли.
Сталин дошел до двери, повернулся, и пошёл в обратном направлении, глядя перед собой, и покачивая рукой на уровне живота, в которой была зажата курительная трубка. Он продолжил:
- Явная суть британской политики состоит в том, чтобы одновременно играть на обеих шахматных досках: обещать нам помощь, а Гитлеру – мир, в случае его успеха в России. Они хотят, чтобы немцы и мы как можно больше обескровили друг друга. Как можно дольше и тяжелее воевали. Мы думаем, что Черчилль приедет сказать, что второго фронта в 1942 году не будет, несмотря на все его заверения. И это значит, что 80 лишних немецких дивизий будут сражаться против нас. Я думаю, что в ответ мы вручим Черчиллю и Гарриману, представителю Рузвельта
меморандум, где укажем на невыполнение ими как союзниками своих обязательств об открытии второго фронта в Европе в 1942 году. Однако США уже всё равно помогли нам. Японцы проиграли американцам сражение у атолла Мидуэй, потеряли четыре авианосца и перешли к обороне. Это значит, что мы можем использовать наши дальневосточные дивизии в борьбе против немцев. Мы уже два месяца перебрасываем эти дивизии на запад. Плохо то, что американцы теперь будут наступить на Тихом океане, и их ресурсы уйдут туда, а не для высадки в Европе. Но мы не должны перегнуть палку и поссориться с СЩА и Англией, но и не должны мы просто так сидеть и молчать, наблюдая как нас дурачат. Черчилль конечно принадлежит к числу тех деятелей, которые легко дают обещания, чтобы так же легко забыть о них или даже грубо нарушить их. Нам всё равно надо стараться договориться с британским премьером.
Зайдя за ряд стульев, на которых у стены сидел Ворошилов, Сталин остановился за его спиной и добавил, коснувшись при этом трубкой плеча маршала:
- Ты мне понадобишься, Клим, на этой встрече с Черчиллем и американцами. Я первый раз Черчилля увижу. Много нужно обсудить и понять. А ты возьмёшь на себя их военных. И на переговорах и после. Возьмешь Гарримана, Бивербрука, отведёшь на балет «Лебединое озеро» в филиал ГАБТа. Покажешь как Галина Уланова и Константин Сергеев чудесно танцуют. Лошадей покажешь. Своей водкой с перцем напоишь, чтоб до слёз.
- Очень странно, что я тебе могу ещё понадобиться, Коба.
- Ничего странного. Мы с тобой познакомились в 1906 на IV съезде РСДРП в Стокгольме. Жили там в одной комнате. Это было 36 лет тому назад. Когда в 1918 году Ленин послал меня как члена ЦК партии в Царицын, который теперь называется Сталинград, чтобы я организовал доставку 2000 железнодорожных вагонов с зерном в месяц для голодающей Москвы и Петрограда, белоказаки начали штурм города. Если бы они взяли тогда Царицын, Москва и Питер умерли бы от голода, а Денники соединился бы с Врангелем, и революция бы погибла. В Царицине военные специалисты из царских офицеров, которых назначил Троцкий, полностью дезорганизовали оборону, и даже артиллерийские снаряды на складах разобрали. Помнишь этого саботажника Снесарёва бывшего генерал-лейтенанта царской армии? Командиры красной армии с отрядами уходили с позиций, если им не платили денег. Если бы ты с Куликом тогда из Донбасса не прорвался бы по белым тылам к Царицину со своей 5-й Украинской армией, мы бы не удержали Царицын. Был ешё с нами тогда Минин. Хороший партиец. Жалко болеет теперь.– Сталин снова дотронулся до плеча Ворошилова трубкой, и не спеша пошёл к своему рабочему столу:
- Когда даже Ленин в 1920 году отказался от того, за что боролся всю жизнь в эмиграции и в революцию, и Гражданскую войну, и вернул в Россию частную собственность на заводы и землю, ты остался со мной, потому, что так же как и я, будучи с 15 лет в революционном движении, боролся против помещиков и капиталистов, и так же как я и другие настоящие большевики, а не перерожденцы и оппортунисты, ты не мог согласиться, что дело всей жизни, все ссылки, каторги, тюрьмы, гибель товарищей, тридцать лет борьбы за освобождение рабочих, были зря и напрасно. Троцкий, Зиновьев, Бухарин, Рыков, Томский и другие, все были довольны таким решением Ленина. Они все до революции сидели за границей. Они после гражданской войны получили власть и все блага. Им больше ничего не нужно было. И вот 1,5 миллиона победившего пролетариата умирает от голода, а девяносто пять миллионов мелких землевладельцев, крестьян-кулаков и середняков получивших из рук пролетариата землю помещиков и свободу от царских чиновников, не хотят хлеб ни продавать, ни отдавать в качестве налога. И Ленин говорит, пускай будет так! Я помню, Клим, что ты тогда, как и я, был против этого, и за то, чтобы не поворачивать революцию обратно, не идти на поводу у всех этих бесконечных восстаний мелких собственников и их сынков в армии и на флоте.
- Было дело. – Ворошилов заметно расслабился и, подняв от стола рукав, стал рассматривать расположение войск на карте перед собой.
Сталин раскрыл коробку папирос «Герцеговина-Флор», вынул оттуда одну за другой две папиросы, высыпал из них табак в свою трубку, уплотнил табак ногтём. Смятые папиросные гильзы положил в пепельницу стоящую на рабочем столу у лампы. Затем он снова принялся ходить по кабинету:
- Ты и Кулик были единственными высокопоставленными военными, которые не хотели стать русскими Нополеонами Бонапартами, и устроить переворот, используя силу оружия вверенных войск, вроде этих Тухачевского, Якира, Уборевича, Корка, Путны, Фельдмана. Ты был в числе тех не многих старых большевиков, которые выступили в мою поддержку, за прекращение раскола в рядах партии, который Троцкий, Зиновьев, Бухарин, Томский, Рыков, не хотели прекращать, мешая строить современное сельское хозяйство и промышленность. Кроме того, сами не годные к настоящей организационной работе, они начали вередить делу, чтобы доказать ошибочность решений ЦК и таким образом усидеть на своих местах, сохранит свои машины, дворцы, рестораны, любовниц и заграничные курорты. В конечном итоге ты, Клим, построил современную Красную Армию, которая в одиночку, несмотря на катастрофические потери из-за неожиданного и подлого нападения, и из-за предательства командования Юго-западного фронта, смогла спустя всего шесть месяцев после этого нападения, разгромить и отбросить на 200 километров сильнейшую армию мира.
- Это ты мне для чего рассказываешь, Коба? Я тебе всегда говорил, что все эти бывшие офицеры царской армии, всегда будут нам врагами, которые будут ждать подходящего момента. Именно поэтому в первые дни войны, произошёл разгром Красной армии в Белоруссии, где командовал этот подонок генерал Павлов. Этот твой Павлов сумел совершить измену, повлекшую страшнейшие последствия – разгром наших войск в Белоруссии и последующую трагедию начальных. Он вопреки приказу и телеграмме Генштаба РККА от 18 июня 1941 года не привел войска округа в боевую готовность. Даже вопреки плану учебы не вывел их в летние лагеря, оставив на зимних квартирах и подставил их этим под внезапный артиллерийский и авиационный удар немцев. Это же был точно сценарий, который твой любимчик Тухачевский изложил в «Плане поражения» который сам и написал уже под арестом. Он и его подонки - подельники вся эта инородная камарилья Геккер, Гарькавый, Гайлит, Вайнер, Аппога, Алафузо, Вацетис, Аронштам, Берзин, Иппо, Ланда, Мезис, Шифрес, собирались подставить армию под разгром в случае войны с Германией, а потом произвести захват власти и вернуть НЭП. Договоренности у Тухачевского были и с германским Генштабом. И когда война пошла, вот всё и поехало по сценарию Тухачевского. Это ты, Коба, нас тогда в январе 1938 года на Пленуме партии остановил. И Ежова ты остановил. Ежов, конечно дурак - заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибает. Но старался как позволяла его канцелярская крысиная душёнка. А ты потом стал всех выпускать со своим Берией. Рокоссовского, Мерецкова, Горбатого, Холостякова, Ванникова. А Ежов правильно тогда всё делал, добротно, только вот не умело. Я говорил тебе, что нужно было ещё тогда всех этих Павловых и Власовых, выявить и к стенке поставить, а не ждать пока они немцам фронт откроют!- Ворошилов, начав говорить спокойно, и при перечислении фамилии флегматично загибал пальцы на руках, однако при упоминании о Павлове и Власове его щёки и уши покраснели, а в его глазах появились огоньки лютой ненависти:
- Ты вот скажи, вот Мерецков этот: РККА без средств связи оставил, танковые корпуса без артиллерии и автомашин оставил. Противотанковую пушку ЗИС-2 и полевые гаубицы из производства снял. И из-за него мы все были в полном неведении по этому вопросу и полагали, что в РККА всё в порядке. Будучи начальником Генштаба он так армию к войне подготовил? На него же сорок человек показания дали. А ты его из тюрьмы вытащил и армией командовать назначил. Он же всё наступление Волховского фронта дезорганизовал. Бросил фронт в наступление на Любань без припасов и не сосредоточенный полностью. Дружёк его Клыков, в самый критический момент заболел, и улетел лечиться, бросив 2-ю Ударную в окружении. А потом Мерецков этого карьериста и врага народа Власова на это ответственное место посадил. А Власову только этого и надо. Взял, да и сдался фашистам в услужение. Я же тебе тогда в марте докладывал, что 2-ю Ударную армию нужно спасать. При мне этот гадёныш Мерецков по аппарату Бодо получает от Военного совета 2-й ударной армии доклад, что у них в окружении люди пухнут от голода, вся одежда полностью покрыта вшами и гнидами, все лошади давно съедены вместе с костями и кожей. Солдаты едят буквально всё, в том числе траву и червей. Офицеры не выдерживают - стреляются. А он тебе берёт и докладывает, что армия сохраняет боеспособность и готова продолжать наступать на Ленинград. Стыдно! Коммунисты! – Ворошилов кивнул на висящие на стене портреты Суворова и Кутузова, – Вот дворяне, помещики Кутузов и Суворов проявляли больше заботы о своих солдатах, больше знали своего солдата, больше любили его, чем они, советские командиры-коммунисты. Не-е-ет... Ежов тогда прав был. Ты что, Коба, размяк тогда, что ли? Пожалел этих бывших золопогонников, холёную белую кость?
Сталин при этой пространной речи маршала продолжал медленно и задумчиво ходить по кабинету. Только тут Ворошилов заметил, что Коба выглядит очень уставшим. Его лицо в рябинках от перенесённой в детстве оспы, было припухшим, как это случалось обычно всегда, когда Сталин болел простудами и ангинами, а глаза сейчас его были покрасневшими от бессонницы. Он остановился под портретом Суворова и, не глядя на Ворошилова, не громко сказал, как всегда со своим сильным закавказским акцентом:
- Смотрю ты отдохнул на своей даче. Прямо агитационная речь за Красную Армию. Между прочим, Рокоссовский - это умница. Он был не виноват тогда. Ежов тогда потерял контроль над своими заместителями и над самим собой. Ежов перепутал тогда шахту Стаханова с расстрельными подвалами. Я попросил у Рокоссовского прощения от имени партии за нашу ошибку. А Мерецков так сильно боялся нам сказать правду и нарушить нашу директиву по прорыву блокады Ленинграда во что бы то ни стало, что говорил не то что есть, а то что было бы хорошо для дела прорыва блокады, чтобы не попасть снова под арест. Мы допустили большую ошибку, Клим, сначала назначив на Волховский фронт Мерецкова. Потом вторую ошибку, объединив Волховский и Ленинградские фронты под руководством товарища Хозина, который, хотя и сидел на Волховском направлении, но дело вёл исключительно плохо. Товарищ Хозин не выполнил директивы Ставки об отводе из прорыва 2-й Ударной армии. Время было мало, но было. Нужно было сразу туда Василевского послать, да вот Шапошников заболел тяжело, и Генеральный штаб оголился. Просто понимаешь, Клим, каждый зимний месяц в Ленинграде умирало тогда от голода по 100 000 человек. Город мог пасть. Падение Ленинграда стало бы роковым для нас: был бы утерян весь Балтийский флот, потом порты Мурманcк и Архангельск, через которые идёт помощь от союзников, все важные промышленные объекты. Конец "колыбели революции" означала бы катастрофу в морально-политическом аспекте. С военной точки зрения немцы получили бы возможность нанести дополнительный удар с севера по Москве своей 500 тысячной группировкой, и Москва могла не устоять. Продолжая борьбу за Ленинград, войска Ленинградского и Волховского фронта, и население принесли себя в жертву для спасения Москвы и России. А то, что Волховский фронт в самом начале 1942 был не готов, ты и сам тогда видел, Клим, но промолчал, думал, наверное, как и я: раз немцы под Москвой бегут, то и от Ленинграда так же побегут на 200 километров, едва на них надави.
- Так я тогда опять ничего не понимаю, чем тебе могу теперь пригодиться. Тем более с англичанами и американцами. И то у меня выходит не так, и это выходит не этак. Ты целое постановление ЦК по мне опубликовал. – пропустив мимо ушей слова Сталина о Рокоссовском и Мерецкове, продолжил Ворошилов. Он несколько успокоился, но в его голосе слышались отчётливые нотки укоризны и обиды. Ворошилов полез во внутренний карман пиджака, и вынул вчетверо сложенный листок. Развернул, сощурился и начал читать:
- Вот я какой получаюсь… О работе товарища Ворошилова. Так значит… Постановление ЦК ВКП(б) №356. Та-а-к… Война с Финляндией в 1939-1940 годах вскрыла большое неблагополучие и отсталость в руководстве народным комиссариатом обороны. Так… Вскрылась большая запущенность… Все это отразилось на затяжке войны и привело к излишним жертвам. Вот… Учтя положение дел в народном комиссариате обороны и видя, что товарищу Ворошилову трудно охватить такие большие вопросы, как народный комиссариат обороны, ЦК ВКП(б) счел необходимым освободить товарища Ворошилова от поста наркома обороны. В начале войны с Германией товарищ Ворошилов был назначен главнокомандующим Северо-Западного направления, имеющего своею главною задачею защиту Ленинграда. Как выяснилось потом, товарищ Ворошилов не справился с порученным делом и не сумел организовать оборону Ленинграда. Ввиду всего этого Государственный Комитет Обороны отозвал товарища Ворошилова из Ленинграда и дал ему работу по новым воинским формированиям в тылу. Так… Желая еще раз дать возможность товарищу Ворошилову использовать свой опыт на фронтовой работе, ЦК ВКП(б)предложил товарищу Ворошилову взять на себя непосредственное командование Волховским фронтом. Но товарищ Ворошилов отнесся к этому предложению отрицательно и не захотел взять на себя ответственность за Волховский фронт, несмотря на то, что этот фронт имеет сейчас решающее значение для обороны Ленинграда, сославшись на то, что Волховский фронт является трудным фронтом и он не хочет провалиться на этом деле. ЦК признал, что товарищ Ворошилов не оправдал себя на порученной ему работе на фронте, и направил его на тыловую военную работу.
Закончив читать, Ворошилов повернул лист текстом в сторону Сталина и вопросительно на него уставился: - Прямо разгром, а не постановление.
- А что здесь не так, Клим? Может быть, во время войны с Финляндией отсутствие минометов и автоматов, зимней одежды для войск, и продовольственных концентратов, а также плохая работа Главного артиллерийского управления, управления военно-воздушных сил и боевой подготовки под твоим руководством, не отразилось на затяжке войны и не привело к излишним жертвам? А то, как ты отказался принять Волховский фронт и не попытался нормализовать ситуацию с окружённой 2-й Ударной армией, а дал Хозину всё запутать с объединением двух фронтов под его руководством? Это позиция члена ЦК и Политбюро? А что касается проработки на ЦК, то я скажу тебе, Клим, что на войне, всякое может быть. Видишь, бывало, что человек хочет что-то сделать, но не может, не получается у него. На то и война, думаешь об одном, а получается и другое. Как правильно сказал Клаузевитц: «Военное дело просто и вполне доступно здравому уму человека. Но воевать сложно». Так и у тебя. Я знаю, что ты под Ленинградом использовал все имевшиеся у тебя возможности, очень старался, но когда приехал Жуков и придумал сформировать пулеметные роты, чтоб любой отходящий с фронта без письменного приказа немедленно расстреливался, только тогда всё сразу получилось, что не получалось у тебя со всеми твоими хитрыми манёврами и фланговыми ударами. В первый день у Жукова поплатился один батальон, во второй день – одна рота, а на третий день с фронта отходили только одиночки. А ты? Помнишь в июле остановил идущие на фронт к Ленинграду эшелоны и приказал выгрузить главные силы 1-й танковой дивизии, чтобы потом с двумя мотострелковыми полками НКВД контратаковать финнов в направлении Петрозаводска в карельских озерных лесах. Ты умудрился лично возглавить атаку морских пехотинцев у Копорья, да ещё в маршальской форме. И ещё ранение получил. Хорошо что не тяжёлое. Чудовищно глупо - на весах войны Ленинград, а ты на какой-то Петрозаводск разменялся. А если бы тебя убили там? А если бы взяли в плен, и от твоего лица соврали, что перешёл к Гитлеру, и призываешь Красную Армию повернуть оружие против нас? Ты что, Клим? А твой друг маршал Кулик? Не знал никогда где войска его армии находились. Он больше чем на генерал-майорские должности не годится. Чего ему теперь обижаться. Вот все эти «герои гражданской войны» и «заслуженные революционеры», бывшие курсистки, студентки, литераторы, люди свободных профессий, чиновники и мелкие буржуи, вроде Геккера, Корка, Мезиса, Блюхера, Шифреса, Уборевича, Аронштама, Иппо и других, думали если они в революцию и гражданскую войну своими разжигающими революционными фразами и расстрелами достигли своих постов, то им теперь потом уже не надо больше работать, учиться, созидать страну и армию? А можно иметь по три жены, особняки, машины и заграничные поездки за госсредства, пьянствовать, раздавать должности бездельникам-прихлебателям и плевать на нужды рабочих, ради которых революция и делалась? А тронь кого, сразу крик поднимать про «заслуги перед революцией», сразу озлобляются и группируются вокруг своих вождей – болтунов, которые пришли в революцию только для того, чтобы пользоваться всевозможными благами, а не работать для процветания страны. А если не по их, то тогда долой Сталина, Молотова, Ворошилова. Вплоть до личного террора и вооружённого мятежа. А если не долой, и «дворцовый переворот» срывается, то давайте сделаем так, чтоб все их начинания, хоть по селу, хоть по индустрии, хоть по армии, провалились, и будем их подтачивать потихоньку до тех пор, пока не созреет обстановка. Например, новая мировая война. Ну, ты в курсе, Клим. Они что думали, пролетариат и партия молчать, будут и такое терпеть? Надеюсь и ты Клим, и твой друг Кулик, получат и будут делать ту работу, на которой сейчас смогут максимально принесут пользу стране, а не будут затаиваться и обижаться, щеголяя при этом заслугами двадцатилетней давности в обмен на сегодняшнее уважение и чины. Вот товарищ Кулик, вместе с нами оборонял в 1919 году Царицын – ключ всего Южного фронта. Придумал тогда массировать силы артиллерии против белоказаков на узком участке их наступления. Отлично. Но вот двадцать лет спустя, теперь бывший маршал Кулик в нарушение приказа Ставки и своего воинского долга санкционировал сдачу Керчи противнику и своим паникерским поведением в Керчи усилил пораженческие настроения и деморализацию среди командования Крымских войск, вместо честного и безусловного выполнения этих приказов Ставки о необходимости сражаться за Керчь во что бы то ни стало. То же самое со сдачей Ростова-на-Дону. Теперь, будучи разжалованным до генерал-майора, занимается подсчётом трофейной техники, и разбирается с бесхозными эшелонами оборудования, болтающимися на станциях в Казахстане и на Урале. А будет продолжать пьянствовать и развратничать, а ещё хуже, вредить стране даже на такой работе, мы не посмотрим, что он наш товарищ по Царицину, поставим к стенке. А как по другому поступать? Сохранить ему маршальское звание и героя СССР, и пусть он в тылу отсиживается и пьянствует, или дать ему ещё одну армию угробить? И ты тоже, Клим… Чего Федул, губу надул? - Кафтан прожёг.- А велика ли дыра?- Один воротник остался. Вон в гражданском костюме пришёл ко мне. Это вроде как намёк, что обижен? - Сталин искоса посмотрел на Ворошилова и, подойдя к столу, нажал на кнопку вызова секретаря: - Чай будешь пить?
- Нет. Обойдусь без чая. Умеешь ты, Коба, убеждать. Правильно всё говоришь. Так бы и Ленин сказал, пока здоров был. – мотнул тот головой, свернул и сунул свою бумагу обратно в карман пиджака, а когда дверь в кабинет приоткрылась и появился Поскрёбышев, мигая огромными умными глазами, сказал с нарочитой сердитостью, но внутренне уже совершенно спокойно:
- Ну, и страшный же у тебя секретарь, Коба. И на вид страшный, и когда матерится по телефону. Правильно, что ты его к себе взял: его все наркомы боятся. А значит и тебя боятся. Не то, что этот предатель - подонок Бажанов. Как ты вообще столько лет мог этого предателя у себя в секретарях держать, который за границу после многих лет работы в секретариате ЦК сбежал через Иран и всякие похабные книжки под диктовку английской разведки написал про советскую власть?
- Товарищ Поскребышев, сделайте нам два чая с лимоном. Найдите мне Вознесенского и отпустите, наверное, товарища Шапошникова. Пускай приходит, когда поправится. И обязательно дайте ему с собой пару лимонов. Ещё позвоните в редакцию газеты «Красная звезда» и передайте Довженко мою благодарность за рассказ «Ночь перед боем». Он сказал советскому народу, армии то, что теперь крайне необходимо было сказать. Ещё найдите мне быстро Жукова. - Сталин поморщился от боли в ногах, сунул наполненную трубку в рот, зажёг спичку и принялся поджигать табак.
- Я говорил Шапошникову, чтоб он курил раз в семь меньше.- сообщил Ворошилов, наблюдая как Сталин раскуривает трубку.- И даже приказом Наркома обороны запрещал ему работать по шестнадцать часов в день. А он все:«Не беспокойтесь, голубчик, не беспокойтесь…». Вот и доработался в своём Генштабе до кислородного голодания и полу инсультного состояния. Лучше уж водки выпить, чем курить эту отраву. Ты, Коба, тоже много куришь. Тебе бросить это дело надо.
Меньше чем через минуту, после того как Поскрёбышев скрылся за дверью, зазвонил телефон ВЧ, а когда Сталин раскурив трубку и выпустив перед собой несколько облачков сизого табачного дыма поднял трубку, взволнованный голос оттуда произнёс:
- Это Вознесенский, товарищ Сталин, здравствуйте.
- Здравствуйте, товарищ Вознесенский. У товарища Тевосяна ничего не получается с трубами для бурения скважин, а получается только как у того старика, который женился на молоденькой женщине, мучил её и сам мучился. – Сталин хитро подмигнул Ворошилову, на что тот вдруг улыбнулся такой беззаботной улыбкой, что морщины на его лбу, вокруг глаз и рта разгладились, и могло показаться на мгновение, что от его шестидесяти лет осталось только половина.
- Не очень понимаю Вас, товарищ Сталин.- после некоторой паузы ответил председатель Госплана СССР.
– Товарищ Вознесенский, для чего создается НЗ? – продолжил Сталин и сам же ответил: – Для того чтобы кушать, когда есть нечего. Вот сейчас Иван Тевосян не может сделать без молибдена трубы для бурения, а товарищ Байбаков без этих труб не может добыть нефть в Татарии и Тюмени. А немцы вот-вот оставят нас без Бакинской нефти. Зачем нам тогда нужен будет НЗ? Давайте ГКО попросит Вас как первого заместителя председателя Совета Народных Комиссаров выделить триста тонн молибдена Наркомату черной металлургии, а Вас как председателя Госплана СССР попросим побыстрее восстановить это количество обратно в НЗ.
- Вы согласны с нашими доводами, товарищ Вознесенский?
- Согласен, товарищ Сталин. - И ещё, товарищ Вознесенский, сообщите своё мнение о другом предложении товарища Тевосяна варить броневую сталь в большегрузных мартенах, вместо малых кислых печей, и какие ему понадобятся добавки, и есть ли они у нас. Это всё. До свидания.
- Я Вас понял товарищ Сталин. Триста тонн молибден передаю и справку по варке брони в мартенах подготовлю. До свидания.
Сталин положил телефонную трубку и, пуская вокруг себя клубы табачного дыма, снова стал прохаживаться по ковровой дорожке.
- А вот анекдот как раз на металлургическую тему.- всё так же улыбаясь сказал Ворошилов:- Это мне ещё зимой на Волховском фронте один замполит рассказал, который этот анекдот от бойцов слышал, которые из окружения вырвались у Мясного Бора. Значит так. Приезжает Черчилль на наш фронт, посмотреть что происходит, узнать как настроения советских бойцов, чем можно нагадить СССР. Подзывает одного бойца и спрашивает:
- Скажи, что ты сделаешь с Гитлером, если его поймаешь?
Боец отвечает:
- Я возьму большую железную кочергу, раскалю её до красна, и холодным концом Гитлеру в зад засуну, чтоб подольше мучился.
Черчилль удивляется:
- А почему не горячим концом в задницу? Так бы больнее было?
А боец отвечает:
- А это, чтоб Вы господин премьер-министр, не смогли быстро эту кочергу из задницы Гитлера вынуть!
Сталин ухмыльнулся и кивнул Поскрёбышеву, который на подносе принёс два стакана чая в подстаканниках, с разрезанным на четыре части лимоном на блюдце, и поставив поднос на стол для совещаний напротив Ворошилова. После этого Поскрёбышев передал Сталину какую-то записку, которую тот принялся читать.
- Как у тебя дела, Поскрёбышев, с твоей беременностью? Катя твоя не родила ещё? сказал Ворошилов, заставляя Поскрёбышева остановиться перед полуоткрытой дверью в приёмную.
- Оставь его Клим. Он всё ещё от своей Металликовой никак не отойдёт. Идите, товарищ Поскрёбышев. Работайте.- отозвался Сталин.- А вот тут Власик сообщает, что моя Светланка чудить начала.
- Да? – неподдельно удивился Ворошилов, поднимая с подноса стакан, и ставя его перед собой, предварительно завернув край оперативных карт в сторону, чтобы случайно не залить их чаем.- Светка же у тебя такая умная, много читает, учится в школе очень хорошо. Английский язык хорошо учит. Она вроде в эвакуации в Куйбышеве у тебя?
- Нет. Вернулась. – Сталин сунул записку Власика в боковой своего карман полувоенного кителя и, не спеша, направился к двери в свою комнату отдыха.
Ворошилов тем временем бросил в раскалённый чай кусочек сахара и начал гонять его по дну чайной ложкой. Было слышно, как куранты пробили восемь часов, а за дверью в приёмную Поскрёбышев на кого-то сердито кричит, делая между фразами, длинные паузы, видимо по телефону, поскольку ему никто явно не отвечает. Наконец Сталин появился с початой бутылкой грузинского коньяка «Энисели». Он медленно, словно на какой-то церковной церемонии, подошёл к столу для совещаний, посмотрев внимательно на чёрно-золотую этикетку на бутылке, налил твёрдой рукой в чайную ложку коньяка, и опрокинул её содержимое в стакан Ворошилова. Из его трубки, которую он при этом держал во рту, постоянно сочился табачный дым. Потом он таким же образом добавил коньяк в свой стакан и, защёлкнув пробку в горлышко бутылки, так же торжественно пошёл с бутылкой обратно в комнату отдыха.
Зазвонил телефон кремлёвской АТС. Смолк. Потом зазвонил телефон ЧС. Тоже смолк. Некоторое время оба телефона звонили вместе. После этого дверь в приёмную открылась, и появившаяся голова Поскрёбышева, произнесла в пространство кабинета:
- Товарищ Сталин, Жуков на проводе.- и повернув огромные глаза в сторону Ворошилова, угощающегося чаем, добавила: - Приятного аппетита, товарищ маршал.
- Ага, как только Хозяин меня чаем поит, сразу приятного аппетита, товарищ маршал, а как в воскресенье в Кремль вызывает, так знать ничего не знаю, ведать ничего не ведаю по какому вопросу. – передразнивая тон секретаря ответил Ворошилов.
Поскрёбышев толи смущённо, толи заискивающе улыбнулся и скрылся за дверью.
Наконец под трели телефонов Сталин вышел из своей комнаты отдыха, плотно закрыл за собой дверь и, подойдя к рабочему столу, лёгким постукиванием выбил свою курительную трубку в круглую хрустальную пепельницу:
- Я, ты знаешь, Клим, последнее время всё время в Кунцево ночую. Светланка одна с гувернанткой в кремлёвской квартире остаётся. И каждый вечер с этим Алексеем Каплером подолгу разговаривает, естественно все разговоры фиксируются «оперативной техникой». Во-первых Светка ещё школу не закончила. Во-первых этот Каплер женат. В третьих он живёт от жены отдельно и негде ни будь, а в гостинице «Савой». В четвёртых постоянно водит там к себе поклонниц и любовниц, главным образом артисток. Да ещё водит дружбу с иностранными корреспондентами. А ещё сценарист таких фильмов как «Ленин в Октябре» и «Ленин в 1918 году». Пишет-то как курица лапой. Самому пришлось многое поправлять за него для фильмов. Не нравится он мне. Типичная жизнь деятеля кино, поэтому контрразведка, считает близкую дружбу Светланы с эти Каплером нежелательной. А у них-то уже начались свидания. В Кремль зайти не может, ждёт её у школы и тащит после уроков по кино, по театрам. Контрразведка предлагают предупредить его, чтоб он отстал от Светланы. А Власик просто предлагает со своими офицерами намять ему бока, чтоб к малолетке не клеился. Это всё Васька, хулиган, умудрился их познакомить у себя на квартире по поводу будущего фильма о лётчиках. Обалдел он от того, что в 21 год полковником стал, а Каплер к нему всё артисток водил.
- Надо взять этого Кеплера за необоснованные связи с иностранцами во время войны, а поскольку опасность налицо, а доказательств нет, передать дело в Особом Совещание НКВД и впаять этому старому еврейчику, который хочет через Светку твою к власти и почестям примазаться, и молодой девчонке мозги пудрит, лет пять ссылки в Воркуту. Она что, не понимает у тебя, что вокруг него артистки холёные, сколько хочешь, а он вокруг девушки с обычной внешностью увивается? Просто карьерист он и сволочь. А может и шпион.– разгорячился Ворошилов и отставив не допитый стакан с чаем, сел как тогда, когда председательствовал на совещаниях в Наркомате Обороны.
- А если это любовь? Я на Надюше тоже женился – ей семнадцать было, а мне в 1919 году уже сорок лет. – Сталин, не обращая внимания на телефонные звонки, поднял одной рукой четвертинку лимона, а другой рукой стакан чая в подстаканнике.
- Сравнил, Коба. Ты Надькиного отца до своей свадьбы двадцать пять лет знал, ещё по подполью в Закавказье. И саму Надю с пелёнок знал. У вас с ней симпатия всегда была. Вы друг для друга созданы были. А тут-то, совсем другое. – Ворошилов поморщился, видя как его товарищ целиком кладёт лимон в рот, жуёт, и запивает горячим чаем, пахнущим коньяком:
- Не любишь ты евреев, Клим, я смотрю, ещё с гражданской войны. У тебя от Троцкого, помню, всё время глаз начинал дёргаться. И этот Светкин ухажёр, совсем не Кеплер, а Каплер. А Кеплер был в семнадцатом веке немецкий математик и астроном первооткрыватель законов движения планет Солнечной системы. Почитал бы ты книжки хоть какие, Клим. Шестой десяток разменял, а простых вещей не знаешь. Дать тебе почитать Тарле - «Нашествие Наполеона на Россию»? Может Мольтке - «Военные поучения»? Сталин слегка кивнул на несколько книг лежащих стопкой на рабочем столе под лампой. При этих словах он лукаво ухмыльнулся, поставил стакан на стол и, сделав несколько шагов, поднял трубку «кремлёвки»:
- Товарищ Сталин, это начальник Вашей охраны Власик. Вам Поскрёбышев передал мою записку о Светлане?- пробасила трубка.
- Я прочитал.
- Мы предлагаем…
- Товарищ Власик, вам поручена охрана Светланы и наблюдение. Охраняйте и наблюдайте.
- Слушаюсь, товарищ Сталин.
Ещё не опустив трубку «кремлёвки» одной рукой, Сталин уже поднимал трубку аппарата ВЧ:
- Слушаю Вас.
- Это Жуков, товарищ Сталин.
- Почему Вы не докладываете, как развивается наступление 30-й и 29-й армий фронта Конева на Ржев с севера?
- Товарищ Сталин, 30-я армия Калининского фронта ведёт напряжённые бои около Полунино. Продвижения почти нет, а 29-я армия этого фронта прорвать оборону противника не может. Я свою 31-ю армию Поленова и 20-ю армию Рейтера, перегруппировываю для нанесения удара на Ржев с юга через Сычёвку. Однако из-за сильных дождей и распутицы наступление предлагаю перенести на 4-е августа.
- А Вы с Шапошниковым и Василевским посоветовались? – не скрывая своего раздражением спросил Сталин. – Такая задержка даст немцам возможность сначала отразить удар у Ржева, а потом этими же силами отразить ваш удар на Сычёвку.
- Понятно, товарищ Сталин. У Генштаба такое же мнение. Наступление нужно отложить на 4-е число всё равно. Участок местности перед Западным фронтом изобилует лесами, болотами, реками и речушками. Уровень воды в реке Держа поднялся на метр и броды стали не проходимыми. Вне дорог движение артиллерии, колесных машин и транспорта совершенно исключаются, так что наступление севернее и южнее Погорелого Городища, нужно перенести. Однако мы хорошо подготовились. Мы начнём полуторачасовой артиллерийской подготовкой. Исходя из плотности нашей артиллерии в первой линии обороны немцев мы сразу сможем выбить 80% их огневых средств. Наступление пехоты и танков поддержим всей массой артиллерии армий и штурмовой и истребительной авиацией 1-й воздушной армии. Для предупреждения отставания отдельных подразделений и для борьбы с трусами и паникерами за каждым атакующим батальоном первого эшелона на танке будет следовать особо назначенные Военными советами армий командиры и расстреливать трусов на месте. Я уверен, товарищ Сталин, что благодаря такой подготовке, войска 31-й и 20-й армий успешно прорвут оборону противника. Немцам придётся резервы вводить в бой сразу же, а после их израсходования фронт рухнет. Перед нами он держит в резерве в главной полосе обороны две пехотные дивизии у Сычёвки, и у Вязьмы две танковые дивизии.
- А как ведут себя немцы на Ржевском выступе вообще после этой беды с нашей 39-й армией и 11-м кавкорпусом? – глухо спросил Сталин.
- Немецкие войска, освободившиеся после этой операции против 39-й армии Масленникова, в количестве трёх танковых и одной пехотной дивизии, перегруппировываются в район юго-восточнее Вязьмы в состав 4-й армии, а 2-я танковая армия, кроме двух дивизий, направленных в её состав из района Белого, усиливается двумя танковыми дивизиями, перебрасывавшимися из-под Воронежа. По мнению Генштаба и, по моему мнению, немцы силами 16-й немецкой армии с демьянского плацдарма и оперативных резервов планируют двусторонний удар из района Вязьмы на юго-восток и из района Волхова на север вдоль Оки с целью разгромить армии левого крыла Западного фронта и высвободить войска своей орловской группировки.
По нашему замыслу 7 августа начнём наступление силами 5-я армия, а 13 августа силами 33-й армии Западного фронта. Таким образом, совместная операция фронтов будет включать пять отдельных ударов на разных участках, и ни одной дивизии, ни одного танка немцы не смогут снять для переброски на Сталинград и Кавказ. Все их резервы из Европы тоже будут поглощаться Ржевом, а это значит что фланги немецкой ударной группировки под Сталинградом будут прикрываться не вермахтом, а венграми и румынами.
- Ваши действия должны удержать большую половину немецкой армии в центре и на севере советско-германского фронта. Ни одного танка, но одного солдата немцы не должны снять с московского направления на Сталинград и Кавказ. Сейчас нехватка резервов заставила Гитлера усилить Сталинградскую группировку 4-й танковой армией, отобрав её у Кавказского направления. Натиск на Кавказ ослаб - группа армий «А» на Кавказе уменьшилась с 60 до 29 дивизий, но положение Сталинграда стало угрожающим - число дивизий, наступающих теперь на город возросло с 38 до 69 дивизий. Под Сталинград Гитлер перебросил 8-ю итальянскую, и 3-ю румынскую армии которые должны были действовать на Кавказском направлении. Гитлер хочет взять Сталинградские армии в клещи – с запада от Паулюса и с юга от Гота, и войти в пустой город. Там дело плохо. Ставка считает что Приказ № 227 от 28 июля 1942 года, командующим Сталинградским фронтом Гордовым и членом Военного совета Хрущёвым до войск фронта не доведен и не выполняется. 192-я и 184-я дивизии самостоятельно оставили позиции у Майоровской и бегут в Верхне-Голубую. Один Чуйков что-то там пытается организовать. Они там не понимают, что если сдадим Сталинград, то юг страны будет отрезан от центра, и мы едва ли сможем его защитить. Потерять главную водную дорогу, а вскоре и нефть, это будет катастрофа не только Сталинграда. У нас есть хранилища нефти на Урале, но их надолго не хватит. Мы считаем, что Вам нужно готовиться поехать на Сталинградский фронт к Гордову и Хрущёву вместе с Василевским. Нужно попробовать организовать контрудар с севера, от Камышина по группировке врага наступающего на Сталинград, отвлечь его силы, и облегчить положение 62-й и 64-й армии и сохранить Сталинград.
- Я считаю так товарищ Сталин.- без задержки ответил Жуков.- Удар несколькими дивизиями во фланг армии Паулюса и румынам с итальянцам ничего серьёзного не даст. Нужен удар силой фронта, или силой двух фронтов. Если хорошо подготовится, то далеко вырвавшуюся группировку Паулюса, которая растянула фронт на 1000 километров, можно попробовать отрезать от тылов и от соседей, наступающих на Кавказ.
- Хорошо. Как только закончите наступление своего фронта на Ржев, но не позднее чем через две недели, отправляйтесь в Сталинград и готовьте контрудар. Ставка из своих резервов сосредоточит севернее Сталинграда 1-ю гвардейская, 24-ю и 66-ю армии, подвезёт им боеприпасы и горючее, и закончим временную железную дорогу по левому берегу Волги. Посоветуйтесь по этому контрудару с Шапошниковым.
- Вас понял, товарищ Сталин. Только вот Борис Николаевич сильно болен. Но, думаю, мы с Василевским справимся.
- Завтра доложите о готовности Вашего фронта к наступлению на Сычёвку – Ржев.
- Слушаюсь, товарищ Сталин. – Жуков поспешно отключился.
Сталин посмотрел на Ворошилова, который сидел при этом разговоре, едва заметно втянув голову в плечи, словно опасался какого ни будь неожиданного назначения в действующую армию, не желательного не столько из-за сложности вопросов, сколько от возможности оказаться под унизительным для маршала командованием, пусть даже только в качестве представителя ставки, со стороны Жукова.
Словно читая его мысли Сталин повесил трубку и указал мундштуком трубки на портреты Суворова и Кутузова:
- Если бы я мог, Клим, распоряжается личными качествами людей, я бы взял твои качества, качества Жукова и качества Василевского, сложил бы их, и поделил бы на три. То, чего не хватает у Жукова, есть у тебя, то, что не хватает у тебя, есть у Василевского, и так далее. Хорошо, Клим, теперь о деле…- Сталин достал из кармана старинные серебряные часы «Павел Буре» с двумя крышками, на которых болтался маленький ключик, висевший на цепочке, потом посмотрел на циферблат больших часов, установленных в углу, и продолжил:
- Два месяца назад при Ставке создан Центральный штаб партизанского движения. Им сейчас руководит Пономаренко. Первый секретарь ЦК Белоруссии. Он медленно входит в курс дела. В партизанских делах царит неразбериха. Нам туда нужен человек опытный, военный, с масштабным мышлением. Мы считаем, что ты, Клим, должен стать главнокомандующим партизанского движения. Вопросов там много. Молодежь, девушки, старики тысячами со слезами на глазах просят, чтобы их приняли в партизаны, но что мы можем этого не можем сделать. Не хватает оружия. А держать в лесу безоружных людей - это ерунда. Пономаренко считает, что партизанские отряды должны добыть себе оружие в бою. Помощь центра должна быть только в снабжении рациями и подрывными минами. На практике же за счет местных ресурсов партизаны могут обеспечить себя только продовольствием и фуражом, но никак не вооружением и боеприпасами. Сейчас основная масса оружия и боеприпасов черпается партизанами из оставленного частями Красной Армии при отступлении, и запрятанного населением. Это никуда не годится. Попытка громить вражеские гарнизоны для добычи оружия на практике привела к большим потерям в живой силе и большому расход боеприпасов. Вместо ударов по врагу, партизаны занимаются разминированием минных полей, разряжением снарядов, чтобы выплавить тол, а в отдельных отрадах и бригадах даже изготавливается самодельное огнестрельное оружие. Партизан одного из белорусских отрядов изобрёл автомат, годный для сборки кустарным способом и почти не уступавший по своим качествам ППШ. Это не дело. Нужно оружие, или разрешение им переправиться за линию фронта, чтоб вступить в Красную Армию. Вот в Ивьевском районе половина района имеется на учете, и сегодня можно использовать 1300 человека. Вот каково сейчас народное настроение. А оружия нет. Недавно немцы в результате удачного наступления закрыли «Витебские ворота» — коридор в районе Усвяты, через который из-за линии фронта белорусские партизаны получали от нас материальное снабжение и подкрепления.
Сталин взял с блюдца четвертинку лимона и медленно выдавил из него сок себе в стакан, от чего цвет чая тут же посветлел, после чего глянул на Ворошилова, который сидел, приподняв немного седые брови, как бы показывая своим видом, что удивлён таким поворотом разговора.
- А почему не Берия? Он у нас заслуженный мастер агентурной работы, разведки и диверсий.- спросил Ворошилов.- Тем более он твой любимец.
- Любимец? – на этот раз уже Сталин поднял бровь от удивления.- Лаврентий – это змея в очках. Ты как ни будь попроси его снять пенсне, которое у него ничего не увеличивает, и посмотри на его глаза. Это же глаза змеи. Ещё тот подлец и сволочь. Это у Молотова близорукость. А этот очки для маскировки носит. Сказал тоже… Дальше… Лаврентий имеет свои задачи. Теракты против отдельных предателей, против отдельных объектов транспорта и промышленности, формирование истребительных батальонов, агентурная и разведывательная работа. Я говорю с тобой не о действиях отдельных отрядов диверсантов 4-х отделов НКВД СССР, или армейской разведки. Я говорю о втором партизанском фронте. О всеобщей борьбе по всей оккупированной немцами территории. Клим, в том и разница. Смотри, те люди, которые в прошлом году встречали немцев хлебом-солью, столкнулись с тем, что немцы забирают всё продовольствие, посевное зерно, машины, скот, инвентарь, назначают трудовую повинность похлеще нашего ГУЛАГа. На оккупированных территориях начался голод. Нормально едят только немцы и предатели. Поэтому население массово встаёт на борьбу. Массово готово помогать партизанам. Но вот что получается: из-за отсутствия оружия - пулемётов, автоматов, миномётов, патронов, партизанские отряды, как правило, предпочитают нападать на полицейских, или бойцов коллаборационистских формирований, на бургомистров, старост и другую нечисть, прекрасно понимая, что это гораздо более легкая добыча, чем немецкие гарнизоны, и тем паче — части регулярной немецкой армии. А немцами только этого и нужно – чтобы русские убивали русских. А какое, прости меня, оружие у полицейских? Трофейные советские винтовки и по десять патронов на ствол. Мы же заинтересованы, чтобы партизаны в первую очередь боролись против немцев, вынуждая их снимать с фронта дополнительные соединения для проведения карательных операций. Изучая некоторые полицейские отряды, чувствуешь, что у них сейчас состояние неуверенности в победе германского оружия, но, боясь того, что партизаны их расстреляют, они боятся переходить на нашу сторону. Мы можем и должны повести по отношению к полицейским работу на разложение их. Имеют место несколько фактов, когда из отдельных полицейских отрядов добровольно несколько полицейских перешло на сторону партизан, то с других отрядов подсылают детей, старух узнать, что партизаны с ними сделали. Приняли их партизаны, или расстреляли. Без поставок оружия и боеприпасов из центра всерьёз активизировать партизанские операции вряд ли удастся. У нас нет Второго фронта открытого военными силами США и Англии в Европе. Нам тогда нужен Второй фронт открытый силами населения оккупированной территории СССР. Нужно организовать партизанское движение, вооружить его, обучить, скоординировать его операции с действиями Красной Армии. Основная задача такая: не дать немцам использовать наши захваченные территории в качестве промышленной базы, базы для получения продуктов питания, рабочей силы, и вспомогательной военной силы, оттянуть с фронта хотя бы десять дивизий немцев и их союзников для охраны тыла, посеять недоверие немцев к возможности создания фронтовых частей из русских, украинцев и белорусов. Мы должны сделать так, чтобы потерянные нами ли 70 миллионов населения, более 80 миллионов пудов хлеба в год и более 10 миллионов тонн металла в год не усилили Германию, а наоборот, ослабили её. Понимаешь, Клим, что нам нужно от тебя? – Сталин, всё так же стоя, отхлебнул из стакана раскалённый чай,
Ворошилов откинулся на спинку стула, провёл ладонью по наморщенному лбу:
- Бывший начальник Генерального штаба Шапошников, этот "голубчик, проходите, голубчик, не волнуйтесь, голубчик" под нательной рубахой носит крест и ладанку. И ещё молится каждый день. А у Лаврентия есть лаборатория с ядами, где один еврей, бывший «Бындовец» ставит опыты над приговорёнными к смерти в Варсонофьевском переулке. Он нас всех перетравит.
- Ты, Клим, всех бы расстрелял, а с кем бы работать стал бы? – Сталин внимательно посмотрел тёмно – жёлтыми глазами на своего старого товарища. – Умница Шапошников за победу над врагом своей Родины молится. Прослушка у нас есть. Если он верующий, пусть молится. Василевский, сменивший его на посту Начальника генштаба РККА, тоже верующий. У него и отец священник. И ты знаешь, Василевский боится с отцом встречаться и переписываться. Знаешь ведь, как у нас некоторые коммунисты к вере относятся. Я сам отцу Василевского денежные переводы из своей зарплаты депутата Верховного Совета посылаю. Вон, у Паскрёбышева квитанции в сейфе лежат. А Лаврентий, это боец. Я ему верю.
- Ты лучше у него спроси, он Кремль разминировал, или только наполовину. И здание Госплана, и гостиницу Москва и другие. Я тебя, Коба, последнее время не понимаю. Но ладно, тебе виднее. Ты всегда головастее других был. – Ворошилов снова сел опершись локтями на стол, и принялся крутить в пальцах подстаканник со стаканом чая.
- Хорошо. Кроме вопросов собственно боевого применения и снабжения, за линией фронта, особенно на Западной Украине и в Белоруссии, есть вопросы, связанные с отрядами националистов. С ними нужно работать и маневрировать. На Украине действуют отряды ОУН и УПА. Организация националистов и повстанческая армия. Они теперь рассорились с немцами, увидев как те гробят население, и ведут себя теперь нейтрально по отношению к красным партизанам Украины, но не Белоруссии, считая ряд областей Белоруссии землями Украины. Белорусы ведут борьбу как с немцами, так и ОУН и УПА, а так же с поляками из коммунистической Армии Людовой и лондонской Армией Крайовой, которые считают западные области Белоруссии польскими землями. В Молдавии тоже всё не просто. Кроме них есть ещё дикие отряды из бывших окруженцев и беглых военнопленных. Эти сами за себя. Берия со своими агентами и спецотрядами не может охватить сейчас всю эту тему. Наша задача организовать все эти силы во Второй фронт в тылу немцев. Так что раздавай обещания, стравливай, договаривайся, подкупай, но создай и обеспечь нам мощный партизанский фронт. Вот такая тебе будет от партии задача. А Черчилль… Поучаствуй во встрече. Как ты сейчас живёшь. В чём ни будь нуждаешься? Как жена твоя Голда? Как усыновлённые вами дети Фрунзе?
- Петя сейчас в Челябинске руководит производством по танку КВ. А Тимур погиб в воздушном бою под Старой Руссой пол года тому назад. – Ворошилов насупился. – А Голдой мою жену звать уже не стоит. С 1910 года она Екатерина. Она же крестилась в 1910 году и мы венчались в церкви. Ты ведь это знаешь, Коба. Нарочно так меня поддеваешь.
- Мой сын Яков тоже где-то там сейчас. В плену, или убит. Лучше бы чтобы был убит. А то опозорит меня перед всем миром. Немцы наверное используют в своих агитационных листовках двойника. А ты, Клим, правильно сделал так, что этот Енукидзе получил от тебя за неё сполна за свою подлость. Жаль, что она всё равно осталась бесплодная. – примирительно сказал Сталин и поставив чай на зелёное сукно стола, пошёл к двери в приёмную. – Как давно, Клим, всё это было с нами. Ты сейчас на улице Грановского, или на даче?
- На Грановского. – Ворошилов покраснел.- Я счёты с Енукидзе из-за Кати не сводил. Он просто так рьяно принялся защищать Зиновьева и Каменева, этих заговорщиков, что было ясно, что он с ними.
Сталин тем временем дошёл до двери приёмной, развернулся и двинулся к противоположной стене. Он шёл тихо. Неслышно было, ни его дыхания, ни шуршания его одежда, ни скрипа дубовых половиц. Ворошилов подпёр руку кулаком и закрыл глаза. Когда через некоторое время отворилась дверь, и появился Поскрёбышев с новой папкой бумаг в руке, Ворошилов по-прежнему сидел, подперев седую голову кулаком, а Сталин медленно двигался по ковровой дорожке. Секретарь увидев эту сцену, отпрянул назад и осторожно прикрыл за собой высокую дверь, потому, что в огромном кабинете, сквозь мерный звук работы напольных часов, он услышал что-то похожее на пение двух низких мужских голосов. Мелодия напевалась чуть слышно, почти про себя, но это было весьма необычно для той ситуации, в которой находился после опалы Ворошилов, и той нервозности, которую последние месяцы проявлял Хозяин, и соответствовала не Кремлёвскому кабинету, а скорее тому моменту, когда после ужина в Кунцево, накричавшись под баян Будённого, вожди сидели сонные на кушетках и диванах, и уже собирались расходиться.
Наконец Ворошилов разомкнул плотно сжатые губы и вывел тихо-тихо:
- Во поле бере-ё-ё-за стоя-я-я-ла.. Лю-ю-ли, лю-ю-юли стоя-я-ла. Во поле кудрявая стоя-я-яла.
И затем низким глухим тенором, не останавливая свои шаги поддержал товарища Сталин:
- Я пойду, пойду-у-у погуля-я-яю. Белую березу залома-а-аю. Лю-ю-ли, лю-ю-юли залома-а-аю. Лю-ю-ли, лю-ю-юли залома-а-аю. Срежу я с бере-ё-ё-зы пруто-о-очки…
Затем оба снова тянули мелодии без слов, пока Сталин не остановился перед столом, инее нажал на кнопку вызова секретаря. Ворошилов поднялся. Застегнул пуговицы пиджака, обошёл стулья и протянул Сталину руку:
- Я всё сделаю, Коба. Мы дадим стране такое партизанское движение, что немцы позабудут мать родную. Обещаю как коммунист коммунисту.
- Клим, я очень дорожу тобой. – Сталин взял его руку в свою, и не мигая уставился на Ворошилова покрасневшими от бессонницы глазами: - Идут трудные времена во всём мире. Война закончится. И мы победим. Мы не можем не победить. А потом настанет то время, которое уже сейчас мы видим вокруг СССР. Раньше буржуи либеральничали, отстаивали буржуазно-демократические свободы и тем самым создавала себе популярность среди народов. Теперь от их борьбы за свободу людей не осталось и следа. Всё меньше и меньше так называемой "свободы личности" - права личности признаются только за теми, у которых есть капитал, а все прочие считаются сырым человеческим материалом, пригодным лишь для эксплуатации. Растоптан принцип равноправия людей и наций. Он заменяется принципом полноправия эксплуататорского меньшинства и бесправия эксплуатируемого большинства. Знамя буржуазно-демократических свобод теперь уже выброшено за борт. Я думаю, что это знамя придётся поднять нам, коммунистам и демократам, и понести его вперёд. Больше некому его поднять. Раньше буржуазия считалась главой наций, она отстаивала права и независимость наций, ставя их "превыше всего". Теперь не осталось и следа от "национального принципа". Теперь буржуазия продает права и независимость нации за доллары. Знамя национальной независимости и национального суверенитета выброшено за борт. Нет сомнения, что это знамя придется поднять вам, коммунистам и демократам и понести его вперёд, если хотите, быть патриотами своей страны, если хотите, стать руководящей силой нации. Его некому больше поднять. Так теперь обстоит дело. Шведские капиталисты продают немцам руду, из которых делаются танки, которые убивают русских и английских парней. Американские буржуи торгуют через Латинскую Америку с Германией каучуком и молибденом, и техника построенная их этих материалов убивает русских и английских парней. Английские бомбардировщики не бомбят германские заводы Крупа и Тиссена, потому, что немецкие промышленники являются родственниками английских буржуев, которые дают деньги на формирование английского правительства через выборы. Умирают миллионы рабочих и крестьян на полях сражений, а буржуи плавают на яхтах, и пьют коктейли на балконах особняков в окружении самых дорогих проституток из княжеских родов, и свысока управляют этой мировой бойней. Ладно, Клим, подключись к Пономаренко. Когда разберёшься, жду от тебя черновик приказа ГКО о введении должности главнокомандующего партизанским движением, и другой черновик, о назначении тебя на эту должность.- Сталин, наконец отпустил руку маршала и улыбнулся одним ртом, всё так же сверля того зрачками.
Ворошилов опустил руки по швам и повернувшись через левое плечё, бодрой походкой, сильно отличающейся от той которой он рассеянно входил в этот кабинет час назад, направился к двери. Поскрёбышев, явившийся по вызову, посторонился перед ним, и захлопал огромными глазами увидев как маршал весело ему подмигивает.
Сталин махнул Ворошилову вслед рукой, и устало сказал:
-Товарищ Поскрёбышев, я пойду в комнату отдыха два часа посплю, а вы меня ровно через два часа разбудите. И не смейте давать спать мне больше как в прошлый раз. Тоже мне, филантроп нашёлся. Заберите чай и отработанную почту, и давайте новую почту. Через два часа давайте и ужин, если не хотите, чтобы я умер от голода. Повар пусть уходит спать. Я поем из того чего едят офицеры охраны. И соедините меня с Гитлером.
При этих словах, Поскрёбышев прекратил делать записи в блокноте и, приоткрыв рот уставился на Хозяина. И только после того как увидел на лице Сталина подобие улыбки, позволил себе тоже изобразить намёк на улыбку. После этого Сталин направился к двери в свою комнату отдыха. Закрыв за собой дверь, он сел на кожаный диван-скамью с высокой дубовой спинкой, посмотрел на шинель, лежащую на диване справа от двери, на фотографии Надежды Аллилуевой, маленького Василия и Светланы, фотография сына Якова в форме курсанта артиллерийского училища, и фотографию матери Екатерины, сделанную незадолго до её смерти. Он закрыл глаза. Как сидел, он наклонился немного вперёд, держа руки на коленях, и тихо, едва различимо произнёс:
- Отче наш, Иже еси на Небесех! Да святится имя Твое,да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на Небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, Яко Твое есть Царство, и сила, и слава во веки.
Сталин на некаторе время замолчал, и по тому как углубились морщины на его лбу можно было догадаться, о происходящей внутри него борьбе. Затем он глухо добавил, как если бы был священником:
- Аминь.
После этого он повалился на бок, забросил ноги на диван – скамью и, подсунув под голову кулак, добавил, сначала по грузински, а потом по русски:
- Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго.
После этого он уже ничего не помнил, потому, что первый раз за последний месяц он увидел только темноту за гранью сознания, где не было ни света, ни звуков, никого и ничего.
Глава 13
ВУРДАЛАК
Виванюк босяком сидел на корточках по щиколотку в воде, и мыл нож в мутной воде Курмояровского Аксая. Хвощи и камыши вокруг него были такими густыми, что его велосипед «ХВЗ – Украина» стоял будучи просто прислонён к стеблям этих зарослей. Виванюк как следует отмыл от крови свой большой длинный нож для разделки туш. Лезвие сделанное из тракторной рессоры было серым, невзрачным, но отточено было как бритва. Простая деревянная рукоятка, тёмная от крови и воды, имела на себе по десятку не глубоких зарубок с каждой стороны. Он некоторое время рассматривал эти зарубки, словно припоминал что-то, затем поднялся, сделав пару шагов, положил нож на брезентовый куль, наполовину раскрытый, и взял с руля большой узелок, сделанный из синего шёлкового платья в белый горошек.
- Ах, какая женщина была эта Наташа…- Виванюк наверное подумал, что он при этих словах улыбнулся, но со стороны эту гримасу можно было бы принять скорее за оскал.- И Лялечка её, сладкая девочка…
Он снова сел на корточки и положив кулёк себе на колени, развязал его и стал по очереди извлекать из него и промывать отдельные предметы. Мятую шляпку из соломки, запачканную землёй и кровь, от с сожалением пустил по течению, сняв с её тулии только синюю шёлковую ленту, которую он сунул себе за пазуху. Панамку девочки Ляли, которая была вся в слюне, пене и крови, поскольку использовалась как кляп, он тоже выбросил в воду. И панамка дочери поплыла вниз по течению рядом с остатками шляпки матери. Голубой сарафан девочки, будучи снятым до того, как нож стал кромсать её внутренности, был чистым, если не считать нескольких жирных пятен на груди. Эти малыши такие неряхи когда чего-то едят! Виванюк никогда не хранил крупные вещи из одежды, которые явно мог кто ни будь опознать. Но это маленькое милое платье, в сочетании с будоражащими воспоминаниями о тех слезах и мольбах, которые исторгала маленькое, сжавшееся от страха и ужаса беззащитное существо, делало обладание этим предметом весьма перспективным в дальнейшем. Он после некоторого колебания оставил платьице Ляли у себя на коленях. Разрезанное на несколько частей шёлковый бюстгальтер и панталончики Наталии Андреевны, покрытые чёрной кровью и слизью, от того, что они были разрезаны прямо на теле и вместе с телом, полетели в желтоватую воду. Туда же были брошены белые туфли, каблуками которых от выбивал глаза почти уже мёртвых жертв, и куски кожи и мяса, которые когда то были их лицами. Маленькие золотые часики «Чайка» на золотом браслете, простое обручальное золотое колечко, перстенёк с сапфиром и мелкими бриллиантами в платиновой оправе, и пара серёг с такими же небольшими сапфирами, составляющие гарнитур, были отмыты и отправились в карман пиджака. Кулон от этого гарнитура был потерян в траве, когда Виванюк оставил два изуродованных, остывающих тела для мух и птиц, на поляне в тридцати метрах от реки, в том месте, где яблоневый сад переходил в сплошные заросли. Цепочка из строенных, тонких как проволока колечек, тем ни менее осталась, и тоже отправилась в карман. Оставалось само платье, вернее то, что от него осталось. Благородный шёлк нигде не порвался и не треснул. Выдержали даже шёлковые нитки, которыми были пришиты рукава, фасонистый воротничок, и собраны выточки на талии и на спине. Даже пуговицы остались на месте и просто выскочили из петель, когда он слегка бил Наталию Андреевну молотком по голове, по лицу и по рёбрам, держа её за волосы и сдирая это платье. Хорошее платье. Оно до сих пор пахло одеколоном «Красная Москва» и тем неуловимым, обольстительным запахом, которым пахнут на жаре молодые женщины.
- Ах, Натшечка, ах, Лялечка, если бы у меня было побольше времени. – Виванюк прижал окровавленное платье к своему лицу, вдохнул его запах и с сожалением бросилплатье в реку: – Ну, что? Теперь вам стало житься лучше, стало житься веселее, большевистские проститутки?
Он поднялся на ноги. Сердце всё ещё возбуждённо колотилось, лицо было красным, словно он смену отстоял у плавильной печи, а по лбу, щекам и шее ручейками сбегал и щекотал кожу солёный пот.
Пока он складывал свои не хитрые пожитки на раме велосипедного багажника: брезентовый фартук, мотки верёвки и проволоки, нож, мыло, молоток, полотенце, свёрток из вощёной бумаги, на другом берегу реки, над камышами и тростником взлетела пара синеклювых уток, и, брякая самодельным колокольцем, к воде вышла чёрная в белых пятнах корова, а за ней молочный телёнок. Телёнку было десяти, может быть пятнадцати дней от роду, и он ещё не совсем уверенно держался на дистрофичных ногах. Корова уставилась на человека на другом берегу своими огромными, грустными чёрными глазами. Телёнок начал тыкаться ей в вымя, перебирая копытцами и хрустя камышом. Вокруг них летала туча мух и мошек. Перед ними по реке со стороны Даргановки, как в замедленном кино, плыл чей-то раскрытый чемодан, листы исписанной бумаги; оглушённые рыбы и лягушки, щепки и тряпки. Вечернее солнце уже не давало отблеск на воде, путаясь своими лучами только в верхушках зарослей. Плотные облака в белёсом небе группировались в причудливые фигуры, и оттуда доносились переливы авиационных моторов, гудящих на большой высоте. Виванюку от чего-то стало не по себе от этого пронзительного коровьего взгляда, словно безмозглое животное, выращенное на убой, что-то о нём знало, и печалилось произошедшему.
- Чёрт бы тебя побрал, рогатая тварь.- Виванюк зажал свои калмыцкие сапожки под мышкой, даже не помыв их от грязи, поставил велосипед вертикально и начал толкать его сквозь заросли, в сторону дороги на Даргановку. Через некоторе время, когда массы насекомых и болотный запах грязной реки остался позади, а бесконечные ряды яблонь наливающие силой свои плоды, отвлекои его наконец от этого странного коровьего взгляда, он остановился, закатал правую брючина почти до калена закатана, чтоб она не попала в цепь, подсунул сапоги под верёвку багажника, и босой, поехал на велосипеде среди кочек и корней. Тёплые педали приятно массировали стопы, и он тренькнул звонком на руле и даже пропел: -
Полетит самолет, застрочит пулемет, загрохочут могу-у-учие танки, и линкоры пойдут, и пехота пойдет, и помчатся лихие тачанки-и-и. На земле, в небесах и на море, наш ответ и могуч и суров. Если завтра война, если враг нападёт, будь сегодня к походу гото-о-ов. Пум – пу - бум… Пум – пу - бум…
Вечерний воздух был пыльным и душным. Однако для птиц прекращение дневного пекла было очевидным благом, и они наперебой пробовали свои голоса, очнувшись как от спячки. Оживились и муравьи, и жуки и змеи. Муравьи волочили то тут, то там то сонных гусениц, то строительный материал для своих жилищ. Полозы охотились на мышей, а большие жуки летали бестолково с громким жужжанием как шальные, только очень медленные пули. Виванюк отмахивался от жуков, от паутины, от оводов и иногда вздыхал. Он никак не мог надышаться этим влажным воздухом.
Ему было сладко и муторно одновременно.
Ему жутко хотелось вернуться, ещё раз увидеть то, что осталось от недавно полных жизни красивых существ. Сначала надменных, потом заискивающих, потом молящих о пощаде. Ему ещё раз хотелось постоять над тем местом, где звучали как музыка их сдавленные рыдания, мольбы, вопли и хрип. Они всегда говорят одно и тоже. Сначала грозят, а потом обещают денег, себя, и всё что хочешь на свете. Женщины все такие. Сначала недоступные, гордые как Шурочка, Прошкина любовь, которая презирает его, Виванюка мужскую сущность, но которая превращается в обыкновенную самку, вроде тех сук, что прибегают к школьному цепному псу по кличке "Хам".
Эти сучки некоторое время снюхиваются с "Хамом". Даже для вида огрызаются, отпрыгивают назад, не дают "Хаму" засунуть тупую мохнатую морду им между ног, а потом начинают крутиться перед ним, хитро полаивать. "Хам" же, чувствуя их течку, рвётся, удушаемый ошейником на туго натянутой цепи. Наконец сучки покорно подходят, поворачиваются, чуть сгибая лапы, и задирают хвост. Кобель обычно наваливается на них сверху. Его лапы или болтаются вдоль их боков, или сгибаются на холке. Собаки очень быстро делают у всех на виду свое дело и довольные друг другом спокойно расходятся. А эта Шурочка будет стонать и что-то лепетать под грубым мужиком и бабником Прошкой. Дураком и трусом, который ощупал всех девок и молодух в Даргановке и Пимен-Черни, а иногда, вроде как в шутку, лапал даже малолеток, по маленьким твердым грудкам и круглым попкам, вроде бы намекая; подрастайте, подрастайте, красотки, я с вами займусь где-нибудь в кустиках. И что только они находили в этом первобытном идиоте, неотесанном дураке, что и двух слов не может связать, от которого вечно несёт вонючим потом, перегаром, табачищем, как из пепельницы. Что в нём, в этом Прохоре, о котором все всё знали, но к которому тянулись, кокетничали, зубоскалили, зазывали на чай, на бутылочку или просто так. И совсем не понятно, почему мужики запросто пили с ним водку и гоготали над его шутками - похабными байками, хотя вся деревня шепталась, что он шляется по чужим женам. Виванюк знал, что и к его первой жене бегали те же самые дружки-собутыльники. Первая его жена была высокая, голубоглазая блондинка с широченными бедрами и длиннющими ногами - Люба Папыркина из Котельниково. Она ходила за Виванюком по пятам, ела глазами, сдувала пылинки со свежее постиранных и отглаженных рубах, на которых всегда были пришиты все пуговицы. Люба подолгу торчала у печи, стараясь обеспечить разнообразный стол, от которого он всё равно воротил нос. Как всегда воротил нос от простой крестьянской еды, подаваемой в глиняных плошках. Она взвалила на себя весь их огород, она чинила дранью крышу, она сама ставила новый забор – не дай бог, муженёк её учёный перетрудится. Люба таскала из курятника помет, чистила свинарник, когда у них ещё были свиньи и кормила всю его прожорливую сводную родню. Нянчила детей своей сестры, и никогда не перечила ему. И даже когда он бил её ремнём, или кулаком по широкому, по-своему красивому, но совсем уж простому крестьянскому лицу, она молчала, не плакала, а только извинялась, и говорила, что он самый лучший. Люба умерла спустя три года после свадьбы, как и их несчастный недоношенный ребенок, который так и не закричал, умерев на руках пьяной бабки - повитухи, под стоны истекающей кровью матери.
Вскоре Виванюк женился на другой. Эта жена была полной противоположностью первой. Катя Захаренко, восемнадцатилетняя красавица – казачка из Абганерово, обладающая слишком крутым даже для казачки нравом. Она ничего не готовила, и ему приходилось есть где придётся и что придётся. Она на второй же день забросила всё хозяйство – надоело ей. И ему всё пришлось делать самому, вплоть до подметания полов, что он скрывал от односельчан, потому что, что это за учитель такой, который собственную жену не может воспитать как положено. Катя, кроме всего прочего, постоянно пропадала вечерами, и ему приходилось бегать по деревне и окрестностям в её поисках. Когда же он по совету Прошки, своего единственного закадычного друга – дурачка, решил устроить ей разборки, и, намотав на кулак вожжи, замахнулся, Катя цапнула со стола кухонный нож и оставила здоровенный рубец на левом запястье его мохнатой руки. При всём при этом, она была, наверное, единственной женщиной, которую он по-настоящему любил. И пока она жили вместе, ни разу не пытался ей изменить ни с кем. Бесшабашная казачка через год, сбежала в Абганерово с тамошним начальником отдела милиции. Потом она была арестована вместе со своим сожителем во время большой чистки органов НКВД в 1938 году, которую устроил Берия, сменивший Ежова на посту Наркома внутренних дел СССР. Больше о Кате никто ничего не слышал. После этого случая, всё село только и делало, что насмехалось над ним, над его щепетильностью и разборчивостью, над его внешностью, над его не вытравляемыми городскими привычками, и даже манерой при разговоре наклонять голову вправо. И ещё всех этих грубых и мерзких людей веселила его многолетняя привязанность и безнадёжная симпатия к Шуре Мордюковой, стройной женщине с каштановыми волосами, с благородными чертами лица и стройной фигурой, напоминающей мальчишескую.
Не только Прохор Коваленко раздражал Виванюка. Виванюка раздражали всё. Все эти люди, которые смеялись то над ним, то друг над другом, то ни над чем. Которые могли часами говорить ни о чем, ходить всё лето босыми, пить в жару ледяную колодезную воду, или водку, после чего у них всегда вспыхивала жесточайшая ангина, или происходил тепловой удар. Они ели толстенные ломти тёплого, расплавленного солнцем сала, от которого Виванюка просто выворачивало наизнанку. Насмеявшись и закончив издеваться над ним, эти колхозники чурались его, обходили, нехотя разговаривали, угрюмо выслушивая замечания о неблестящих успехах в школе своих оборванных, чумазых детей. Они без особой охоты приглашали его на свои язычески - весёлые свадьбы или поминки, не любили его пространных рассуждений о политике и технических новинках. Они бесили его, раздражали и одновременно притягивали к себе. В них жила природная непосредственность. Открытость в них уживалась с инфантильным эгоизмом, откровенная жадность и зависть соседствовали с умением радоваться простому летнему дождю или высокому снегу. Эти грубые люди были способны всё вытащить на стол перед случайным пьяным гостем и дать оплеуху своему чаду и лишить ребенка ужина за поставленную учителем двойку. Уехать отсюда! Уехать! Это желание всегда преследовало Виванюка. Оно приходило к нему в его скупых снах, оно лилось с выцветшей левитановской репродукции, висевшей над его кроватью. Но он был уже совсем не молод. К тому же это сумрачное место в калмыцкой степи держало его как магнит. Непонятное, свирепое, блаженное.
Да и ехать, собственно, было некуда и не к кому. После того как в марте 1917 года его мать, отчим, сестра были убиты в Крондштате, а ему самому чудом удалось избежать смерти, он пытался устроиться в Петрограде у знакомых матери Кедровых. Но квартира Кедровых оказались разгромленной, а самих Кедровых и след простыл. Совершенно подавленный горем из-за смерти своих близких, не имея денег, документов, тёплой одежды, он скитаясь по промозглым тёмным улицам, по рынками в поисках случайного заработка или знакомых. Петроград бурлил, гудел как встревоженный улий. С утра до вечера на улицах собирались толпы народа. Ездили грузовики с вооружёнными солдатами и матросами. За хлебом стояли огромные очереди и везде шли митинги. Стоило одному сказать хоть слово на тему революции и политики, как вокруг него тут же собиралась толпа. По ночам не организованные банды грабили магазины, склады, винные погреба, напивались, били друг друга бутылками по головам, резали осколками стекла и валялись в грязи, в крови. Везде шёл грабёж. На улицах раздевали и избивали людей, врывались в квартиры в поисках наживы. Во время погромов и стычек с патрулями юнкеров подчиняющихся Временному правительству, людей пристреливали как бешеных собак. И чувствуется, что это только начало, что все вокруг постепенно приучаются к спокойному истреблению ближнего своего. А по улицам тем не менее ходят тысячи людей и, как будто бы сами над собой издеваясь, кричат: «Да здравствует мир!». В мужскую Обуховскую больницу один за други поступали пожилые люди с диагнозом «истощение». Голод в Петрограде почти уже начался. Почти ежедневно на улицах кто-то от изнеможения и бессилия садился прямо на мостовую. То ломовой извозчик, то прачка, то рабочий, то прапорщик.
Правительство вроде бы было, но реальной власти по сути не было никакой. Через неделю скитаний в безумном городе Виванюк и сам начал слабеть без еды и тёплой одежды, хотя в тот момент он ещё носил другую фамилию, а Виванюком он сделается намного позже, когда воспользовался документами убитого им человек. Несколько раз ему удавалось выпрашивать на рынках не много полусоломенного хлеба, дуранды, голов селедок. Нужны были деньги, чтобы попытаться уехать из Петрограда в имение матери в Тамбовской губернии, владельцем которого после её гибели он являлся. И тут ему повезло, потому, что в галереях Александровского рынка, он встретил Гехузе, своего приятеля по учёбе в университет. Гехузе процветал. Он целыми днями со своими новыми товарищами – американскими коммивояжёрами сновал по бесчисленным антикварным лавкам и комиссионным конторам, которых в городе было теперь больше чем булочных. У американцев было задача покупать всё, что имело хотя бы какое то художественное значение. Особенно дотошно американцы охотились за восточными вещами. За китайскими и японскими вещами: клуазоннэ, рисунками, финифтью, фарфором, бронзой, старинным лаком, вышивками по шелку, пользуясь тем, что после похода на Пекин, после войны в Маньчжурии, да и просто из-за общей границы с Китаем, в России вообще, и в Петрограде в частности, находились такие уникальные вещи и целые коллекции, которых уже было нельзя найти в самой Японии и в Китае. Дело у Виванюка пошло хорошо. Через неделю у него была одежда, квартира на 6-й Рождественской улице, и даже молодая и потрясающе красивая курсистка в качестве «девочки для удовольствия» на полном содержании. Ехать в Тамбовскую губернию ему расхотелось. К дракам, ограблениям, толпам и митингам он привык и даже начал получать от такой обстановки некоторое удовлетворение. Два пистолета Браунинга Model 1910 – FN, делали его плохой добычей для кого бы то ни было. К тому же постоянная Шведская виза, с неимоверной быстротой полученная для него американцами, вообще создавала ощущение всесилия, не уязвимости и вседозволенности. Виванюк помногу раз в месяц бывал в Швеции, Норвегии и Дании. В Стокгольме и Гётеборге в то время было открыто до ста антикварных магазинов, торгующих картинами, фарфором, бронзой, серебром, коврами вывезенными из России и Петрограда. Десять магазинов принадлежали друзьям Гехузе. Они так и назывались: «Антикварные и художественные вещи из России», «Русские и восточные древности», «Вещи из русских императорских дворцов». По всей России тогда грабили и продавали всё из церквей, военных музеев, поместий, дворцов бывших великих князей, расхищают все, что можно расхитить, продается все, что можно продать, включая интендантские запасы, оружие вплоть до тяжёлой артиллерии. В Феодосии солдаты вернувшиеся с Кавказского фронта даже продавали турчанок, армянок, курдок по 25 рублей за штуку. По всей стране проходили погромы. В Самаре, Минске, Юрьеве погромы не сопровождались убийствами, как зверски кровавые погромы царских времен в Кишиневе, Одессе, Киеве, Баку и Тифлисе, однако дикие выходки миллионов дезертировавших с оружием в руках обалдевших хамов - солдат по городам и станциях железных дорог, создавали по всей стране состояние одного большого, перманентного погрома. А Виванюку это даже начинало нравится.
Всю его семью раскидала, раздавила сначала революция и Гражданская Война, а потом охота на всех бывших, сначала господ, потом революционеров, потом зажиточных крестьян, потом просто не согласных с линией ЦК ВКП(б). Революция и Гражданская война окунула молодого человека с отличным образованием, в самое пекло жестоких, кровавых боев за Крымский перешеек. На подступах к нему погиб весь его добровольческий батальон полковника Рылевского. Он сам тогда чудом спасся - шашка красного кавалериста при ударе зацепилась о колодезный журавль, а потом всё место избиения рылеевцев накрыло облако дыма от горящих домов. Ему удалось потом пробраться в Ялту, в надежде сесть на какой-нибудь баркас или лодку идущиую в Турцию или Болгарию, но этого сделать не удалось в безумном городе, среди хаоса агонизирующих остатков бегущих Белой Армии. Чудом не умерев от голода и сыпного тифа, он несколько лет шатался по причерноморским дорогам, пока не попал в каком-то захолустном городке в школу-интернат для детей погибших красноармейцев, где требовался учитель математики и русского языка. Там, выдав себя за другого, и предъявив удостоверение человека, которого он убил за краюху хлеба, он сделался детским учителем. В чужой теперь стране, под чужим именем, и с чужой судьбой.
Потом было преподавание в школе ЛИКБЕЗа в Ремонтном и, наконец, эта ненавистная Даргановка с её полуразрушенными домами, сожженными теперь, а раньше богатыми подворьями немецкой трудовой колонии, с разобранной на кирпичи церковью и кирхой, со злобными собаками, тощими коровами колхозного стада, постоянно болеющими какой-то заразой, со слабо несущимися колхозными курами и непонятными, грубыми людьми.
Погружённый в свои размышления, он и сам не заметил, как въехал в высокий подсолнечник разворачивающий свои головы на запад, вслед заходящему солнцу. Невдалеке робко пропел петух. Ему ответил другой петух. Это Пимен-Черни. Виванюку хотелось поскорее проскочить к своему дому, где его ждали не завершённые с утра дела: труп немецкого агента на чердаке, который будучи живым, едва не вовлёк его в теракт против генерала РККА, и его любимая девочка Маша, которая, наверное, уже несколько раз сходила под себя. Учителю нужно было во что бы то ни стало пробраться к дому не замеченным солдатами НКВД у моста и односельчанами, чтобы не вызывать лишних подозрений, поэтому он свернул в проход между оградами из длиннющих жердей, толкая велосипед рядом, вышел на огороды, и двинулся к своему дому осторожно, подолгу останавливаясь, хотя сегодняшний день изрядно вымотал его. Он не хотел рисковать. Пребольно ударившись в узком месте голенью о педаль, он миновал небольшой искусственный пруд, поросший ярко-зеленой тиной и, остановился как вкопанный.
© Copyright: Демидов Андрей Геннадиевич, 2013
Свидетельство о публикации №113041006475
Рейтинг: +1
998 просмотров
Комментарии (1)
| София Даль # 8 сентября 2017 в 01:18 0 | ||
|
Новые произведения