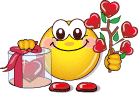Калигула. Глава 03. Смерть отца.
17 мая 2015 -
Олег Фурсин


Глава 03. Смерть отца.
По возвращении семьи в Сирию закончилось детство Калигулы. Здесь, в пригороде Антиохии[31], Эпидафне, суждено было проститься тридцатичетырехлетнему Германику с жизнью, а Калигуле с детством.
Началось все с того, что отец вновь отдался делам без остатка. Как оказалось, все его ранние распоряжения, касавшиеся войск и городов, или вовсе отменены, или заменены на противоположные. Сделано это было наместником Сирии, Гнеем Пизоном[32]. Но без ведома ли Тиберия? Агриппина считала, что во всем виновен император. И высказалась как-то об этом громко и вслух, за обеденным столом.
— Коварство выживающего из ума старика безгранично! Друз Младший, его сын, не сумел превзойти тебя талантом полководца, не обрел любви легионов, какой ты удостоился. За это Тиберий невзлюбил собственного сына, как же он при этом должен ненавидеть тебя! Выскочка Плацина, пусть женщина она богатая и знатная, но не ровня внучке Августа. Не посмела бы она противопоставить себя мне, не будь на то согласия Тиберия! Все здешнее общество разделено на два лагеря: сторонников твоих и сторонников Пизона. Твои приказы отменяются! Представить себе подобное невозможно, немыслимо, если только за всем этим не стоит император!
Плацина была женою наместника, Гнея Пизона, и за короткое время успела нанести Агриппине немало обид. Она являла собой олицетворенную дерзость и неуважение; она терзала самолюбие внучки Августа с настойчивостью, впрямь достойной иного применения.
Но и Агриппину, произнесшую эти неосторожные слова, не оправдывали обстоятельства. Они были не одни. Редкий римлянин, если только он не плебей, обедает один; а Германику подобное и вовсе не пристало. Он не обедал один и на сей раз.
Большой стол, с трех сторон окруженный массивными каменными ложами, был украшен яствами. Поросенок, увенчанный колбасами, сырный пирог, холодный, но политый горячим медом, обложенный фасолью, горохом, орехами и персиками. Медвежатина кусками. Мягкий сыр. Улитки, печенка, репа, тунец.
Для дворца Тиберия скромно, да и для многих семей патрициев, пожалуй, тоже. Но Германик давно установил свои правила в собственном доме. Никаких оргий, никакого обжорства за столом. В его просторном обеденном зале не царила теснота, как было принято, не было скученных распростертых людей, непрестанно потеющих и укутывающихся в накидки от простуды. Довольно было и троих, возлежащих на каждом ложе, и предпочтительно было, чтоб друзья приводили с собою жен, если они имелись. Женщины усаживались в ноги к мужьям. Предлагалась «сократическая»[33] беседа, живая и остроумная, где каждый должен был проявить находчивость и природный ум. Беседа не всегда тихая, если мужчины решались поспорить, но всегда интересная. Иногда обеды сопровождались музыкой и танцами. Временами приглашались актеры: либо для чтения стихов, либо те, что сыпали шутками, играли смешные сценки.
В доме Германика достало слуг, чтобы позаботиться о каждом госте. Бесшумными тенями скользили они с открытой четвертой стороны триклиния[34], разнося еду, ту, что не умещалась на общем столе. Пожалуй, их продвижение по залу напоминало танец: они сменяли друг друга через определенные промежутки времени, в строгом порядке, без суеты и столкновений, и никто не был обижен ими. Даже кубки с вином заполнялись слугами для каждого в отдельности, потому не было неприличной суеты и драк, предшествующих обычно захвату кубка. Дружеский характер обеда у Германика был не пустой декларацией. Гости знали, что непременно унесут с собой салфетки, заполненные снедью, той, что от стола осталась. Среди тех, кто был приглашен к Германику, конечно, не нашлось бы ни одного, кто сваливал бы еду в принесенные с собой старые салфетки самостоятельно, без ведома слуг. Или тех, кто салфетки новые воровал…
И, однако, не было полной уверенности, что среди этих же людей нет доносчиков. Нет тех, кто постарается приписать Германику «оскорбление величия».[35] Ткани и подушки, наброшенные на ложа, разделяли гостей, музыка, звучавшая в зале сегодня, тоже приглушала звук, скрадывала его. Но слова Агриппины были услышаны гостями, судя по их лицам. И был на нескольких лицах страх, было недовольство услышанным, настороженность…
Германик дал знак начинать сегодняшнее развлечение; крепко сжал руку жены, дав ей понять, что не хочет продолжения разговора. В пиршественный зал стали заносить картины, укладывать их к стене так, чтоб зрители не могли видеть. Предполагался аукцион, во время которого большие деньги могли быть заплачены за пустое полотно, а маленькие за признанный шедевр. Гости оживились, зашумели. Слова Агриппины были забыты, а может, отложены на время.
Появление нежданных гостей в пиршественной зале тоже несколько сгладило ситуацию. Девочка лет четырех, в ярко-розовой столе, забежала в триклиний. С открытой стороны стола. Без единого слова ухватила со стола кусок запеканки, смазанной медом и посыпанной маком, и унеслась обратно. Из-за приоткрытой двери послышался голос, звонкий и торжествующий:
— Ага! Говорила тебе, что стащу, и стащила! И никто не помешал! А ты сиди, жди, вместе с Друзиллой!
— Калисту накажут, Агриппина! — отвечал ей мальчишеский голос. — И отец будет сердиться. Не на тебя, а на меня. Спросит, как я тебя упустил. Не давись! И поделись хоть с Друзиллой, не жадничай, раз уж у тебя получилось…
Послышался звонкий шлепок. И был сопровожден визгом. А мальчишеский голос добавил: — Это тебе за проделку. И за жадность тоже. Гляди, подавишься…
Агриппина Старшая поспешила вскочить, чтобы бежать навести порядок среди своих отпрысков. Под благожелательные смешки искренне развлеченных детьми гостей; сама же она не улыбалась. Было видно, что хозяйка раздосадована донельзя. Но Германик остановил ее, придержав за руку.
— Давай уж я сам, жена. Кому тут приказывать назначено судьбой? Не мне ли как полководцу?!
Он разобрался быстро. Только вышел за дверь, как послышался топот двух пар ножек. Агриппина с Калигулой унеслись, завидев отца на пороге, не дожидаясь его справедливого гнева. Друзилле с ними не тягаться, она маленькая еще. И вины особой за собой не знает. Потягивает отцу ручку с запеканкой: «Вот он, мой выкуп, за которым ты пришел. Я поделюсь, мне не жалко»… Отец подхватил девочку, посмеиваясь, и передал запыхавшейся Калисте. Выговор его достался этой рабыне, девушке лет семнадцати, приставленной к Друзилле и Агриппине. Она их сегодня упустила, конечно. Правда, выговор мягкий, Калиста была рада, что от хозяина. Хозяйка могла бы не так обидеть! Она бы не стала выслушивать оправдания. Да и что это за оправдание: мальчик, хозяйский сын, так привязан к Друзилле, сестре, так за ней присматривает, что Калиста себя чувствует лишней в их обществе. Она Калигуле Друзиллу доверяет со спокойной совестью. И старается не спускать глаз с Агриппины-младшей, которая доставляет более всего беспокойства, становясь с каждым днем все менее управляемой. Агриппина же ее обманула, притворившись спящей. И кто же знал, что девочка сумеет подстрекнуть к проделке и брата!
А Германик вернулся к гостям, улыбаясь, и в руке его был кусок украденной Агриппиной-младшей запеканки, ставшей причиной забавного события. Он откусывал понемножку, на лице его было написано удовольствие, почти блаженство…
Уж после того, как обнесли гостей по кругу глубоким блюдом с маринованными оливками, после того, как Германик попрощался с каждым, благодаря его за сегодняшнее участие в обеде, лишь после этого Германик, крепко ухватив жену за руку, почти выволок ее в их общий кубикулум[36] при большом атрии. А там плотно прикрыл за собою дверь.
— Смири свою заносчивость, жена! Не следует произносить подобных слов при гостях и слугах!
Германик был суров, в глазах плескалась тревога.
— Если ты допускаешь такого рода предположения, то следует быть вдвойне осторожной в выражениях, жена! То, что не высказано вслух, прилюдно, это всего лишь предположения. Сказанное вслух, да еще тобой, приобретает силу свершившегося. И что тогда делать мне? Вступить в открытое сопротивление? Сделаться отщепенцем, изгоем, врагом Рима? Это — никогда!
— Ты готов безропотно отдать нас всех на растерзание мерзкому старику? Разве Тиберий — и есть Рим? Поднимай преданные тебе легионы, закрой доступ хлеба стране из Египта[37], теперь ты это можешь, и Рим — твой навеки!
Германик горько усмехнулся, глядя в глаза женщине, которую любил.
— А жизнь и смерть твоих детей, которые теперь в руках Тиберия, перед открывающейся тебе возможностью власти, наверное, ничто? Ты так любишь открытые горизонты, Агриппина, что готова платить жизнью сыновей, разглядев лишь призрак власти там, вдали?
Они помолчали, ибо, когда произносится вслух правда, особенно горькая, непременно возникает желание свыкнуться с ней, осмыслить правоту впервые вырвавшейся на свободу из темницы сознания истины. Так ли это? Это действительно так? Это я так думаю, так выгляжу, этим живу? Это я таков, да может ли это быть?
— Я же хочу сохранить всех вас…
Теперь голос Германика был тих, едва слышен.
— Всех, мною любимых и от меня зависящих. Вас, плоть мою и кровь, вас, мой Рим!
— Но это невозможно! Если Тиберий решил уничтожить нас, то он это сделает, если не сопротивляться, если не жертвовать кем-либо. Голос Агриппины тоже был на удивление тих, она полузадушено шептала свои слова; чувствовался ее невольный ужас перед будущим.
— Я не одинок, жена, — прошептал Германик. — Есть еще люди, которые понимают: правление Тиберия подходит к концу. То, что было когда-то живым и благотворным, ныне стало мертвым. Император погряз в разврате, каждый день приближает нас к концу. Выбор Рима по смерти императора может быть одним, ты его знаешь. Этот выбор пал на меня. Да, наша поездка в Египет — это разведка перед боем; но, возможно, боя не понадобится. Те, кто уверял меня в этом, близки к власти, очень близки.
Как зачарованная слушала Германика Агриппина.
— Не мешай мне, жена, это не дело женщин, это мужское дело, хотя тебе и не занимать мужества, кто же спорит. Но я хочу, чтобы ты была далека от всего этого. К тебе не должна прилипнуть никакая грязь, ты останешься для всех воплощением чистоты женщины, преданности и любви…
Германик взялся за дела. Дети вновь перестали его видеть. Он изъездил немало сирийских дорог, раздал большое число приказов, уговаривал, увещевал, кричал и пользовался своей властью, даже когда внутренне не считал это особенно необходимым. Результат был. Скрытое сопротивление, оказываемое полководцу, неминуемо снижалось, теряло накал. Официально он оставался главным на востоке, чему Гней Пизон не мог сопротивляться открыто. Настал день, когда наместник объявил о своем отъезде в Рим. И назначил день прощального пира.
Агриппина сказалась больной и не поехала. Будучи властолюбивой, кровожадной жена Германика не была никогда. Вид поверженного врага не радовал ее, достаточно было того, что он повержен. Внучке Августа не пристало быть злопамятной. Да и Плацина могла бы выкинуть напоследок что-то скандальное. Не хотелось быть участницей скандала, пусть даже холодной и недосягаемой, но участницей.
Никогда потом Агриппина не прощала себе этого поступка. Не могла простить. Умирая на Пандатерии от голода, через много лет, немало совершив глупостей, все кляла себя только за один свой поступок. Будь она рядом, она бы спасла. Она уберегла бы свою любовь, единственного своего мужа, своего Германика. Будь она рядом, сердцем почуяла бы, откуда идет беда. Отвела бы чашу с ядом, прочь отбросила бы тарелку с отравленной едой. Она бы смогла…
День, когда отца привезли с пира, запомнился Калигуле навсегда.
Его вынесли слуги, так он был слаб и немощен, покоритель многих народов. Потом они говорили, что много раз были вынуждены остановиться в пути: Германика рвало, выворачивало, казалось, наружу, сердце разрывалось глядеть на то, как он тужился, пытаясь выгнать остатки съеденной пищи. Он жаловался на боль в желудке, несколько раз, покрываясь липким холодным потом, полководец присаживался на обочине дороги для отправления естественной нужды. Судорогой сводило икры, если бы не помощь слуг, он извалялся бы в собственных испражнениях и рвоте. Ноги не держали его, бледность была пугающей…
Ближние полководца, испуганные криками слуг, высыпали наружу. Потрясенные, смотрели, как несут изможденного страданием мужа и отца. Никогда ранее, даже в случаях ранений, он, не желая пугать их, не позволял нести себя. Он шел, бывало, едва передвигая ноги, но с гордо поднятой головой.
— Яд, — пошел гулять шепоток по дому, — Германик отравлен…
Это было очевидно, впрочем. Слуга, прежде других отвечавший за безопасность полководца, немедленно был призван к ответу. Он был испуган, конечно, и в то же время исполнен сознания выполненного долга. Все нападки Агриппины отверг полностью и безоговорочно.
— Я ем и пью прежде своего господина, что бы он ни пробовал, к чему бы ни прикладывался. Ни одного куска и ни одного глотка он не сделал прежде меня. Я знаю долг, я скорее умер бы от его собственной руки, вырвав из самого его горла все, что он пожелал бы пронести мимо меня, оскорбив его величие, но, не подвергнув опасности быть отравленным…
Слуга являл собой образец доброго здоровья, между тем как Германик…
Всех сопровождавших мужа Агриппина вызвала по одному к себе и допросила. Все были уверены, сходились на этом утверждении безоговорочно: отравление на пиру невозможно! Десятки других приглашенных и их слуг, за каждым следили десятки пар глаз, подсыпать что бы то ни было в кубок или еду никакой возможности. Не-воз-мож-но!
А ее мужу становилось все хуже и хуже…
Его мучила жажда, постоянный странный привкус во рту.
— Принесите мне воды, — просил он голосом, исполненным муки. — Почему никто не даст мне глотка воды? Я знаю, пересох мой источник, я видел это сам, когда бродил по роще. Агриппина, мы были вдвоем, помнишь? Налетел ветерок, принесший прохладу, и вдруг взметнулся до небес, стал жарким ветром пустыни, лизал нам лица жарким языком. Он высушил мою воду, этот жар из пустыни. Агриппина, найди же глоток воды для меня, молю…
Она смачивала водой тряпки, вытирала ими иссушенное тело мечущегося в бреду Германика. Подносила к губам кубок, привезенный ими из Египта…
Источник, что бил неподалеку от их виллы из-под земли, с некоторых пор полюбился ее мужу. Вода его, слегка кисловатая на вкус, нравилась полководцу, и он пил лишь ее. Пользовался своим кубком при этом; ему нравилась игра света и тени на камнях. Теперь, когда он был болен, как и до начала болезни, воду пробовал преданный ему слуга. Только он пил ее не из кубка полководца. Ее наливали вначале ему, слуге, в его сосуд. Потом заполняли кубок господина…
Между тем именно под воздействием этой природной минерализованной воды освобождался свинец, заключенный в кубке. И выпей слуга из этого кубка, да много, много раз, что-то могло бы проясниться. Могли ли ближние полководца угадать подобное? Те, кто мог, кто знал о природе кубка хоть что-либо, желали смерти Германика. Остальные в бессилии смотрели, как гаснет дорогая им жизнь.
Лекари призывались, конечно; но изгонялись Агриппиной так же часто, как призывались. Они говорили о митридатикуме[38], рассуждали о необходимости мер предохранения от ядов. Что же касается лечения, то оно заключалось в вызывании рвоты. Германика и без того тошнило и рвало; он был не в силах искусственно вызывать рвоту. Да и ослабляло его это безмерно.
Он не просто бредил; ему чудилось нечто.
— Агриппина, — звал он любимую. — Агриппина, вот оно опять, опять! Этот звук, этот звук из-под земли, зовущий меня. Там мертвые, много мертвых. Холодные руки, пустые глазницы! Не отпускай меня; я знаю, там плохо, там ждет меня оно… Страшное, холодное, скользкое. Я чувствую запах; оно дышит в лицо смрадом. Не подходи! Где ты, жена? Помоги!
Калигула почти не покидал комнаты отца. Здесь было страшно; там, вдали от умирающего отца — еще страшнее. Пока он был здесь, ему казалось, что-то могло еще измениться. Он мог бы помочь, глядя в лицо отца, просто держа его за руку. Он боялся оставить комнату, казалось, выйди за дверь, вернешься, а отца уже нет. Никому не было дела до маленького; Агриппина не помнила себя, слуги же едва справлялись с обилием свалившихся забот. Лишь на ночь выдворяли Сапожка, но с первыми лучами солнца он занимал свое место, с тоской взирал на ложе, где метался отец. Однажды он помогал слугам оттащить отца от Агриппины; руки Германика сомкнулись на шее жены; он принял ее за то чудовище, что приходило за ним из царства мертвых. Сил у молодого мужчины, пусть и изможденного болезнью, оказалось еще довольно много, мать едва дышала, когда ее оторвали от Германика. Однажды он слышал разговор матери с отцом, пришедшим в сознание, с очевидно просветлевшим взором. Он спросил, и в вопросе этом был ответ:
— Жена, я умираю?
Раздавленная горем, постаревшая враз Агриппина не смела отвечать, Калигула видел, как дрожали ее губы, когда она пыталась ответить — и не могла.
— Я знаю это. Как же болит голова! И ничто не поможет, ничто? В чем я провинился? Чего не сделал, боги? Я сражался, я любил, я все мог, если было нужно!
Боги не отвечали.
— Прости, жена. Ты была права, а я нет. Я не успел, Агриппина, я не успел! Если бы можно было вернуть… Почему можно всем, а Германику нельзя? Мне нужен всего лишь месяц, один лишь месяц. Я успею изменить все!
Но боги молчали, а отсчет жизни шел на дни и часы. И всем это было уже ясно.
Сжавшийся в комочек Калигула услышал вой, похожий на вой голодного волка в холодную зимнюю ночь. Он слышал подобный вой в лесах Германии, на лагерных стоянках. Но теперь выл от тоски и предсмертного одиночества, оплакивая свою недолгую жизнь, его отец. Не в силах слышать, Калигула выскочил за дверь, забился в рыданиях на пороге. Он пытался заткнуть уши пальцами; он не хотел слышать, а все же слышал!
Казалось, вернуться к отцу после этого Сапожок не сможет. Но, когда вой, наконец, смолк, Калигула вновь занял свой пост у постели. Смотрел, как мечется Германик, мучимый головной болью и бессонницей, сменявшимися бредом...
За два дня до смерти отец изменился. Он стал отказываться от еды и питья, поскольку не в силах был терпеть тошноту и рвоту, связанные с приемом любого глотка внутрь. Сознание его на некоторое время просветлело. Первым делом он вызвал к себе друзей.
— Вы, те, кто облечен здесь властью, и те, кто были здесь со мной по зову родства или дружбы…
Бесконечно опечаленные лица, отводимые в сторону глаза, многие из которых увлажняли непритворные слезы…
Германик же смотрел твердо, казалось, он понял и принял свою смерть, и теперь раздавались четкие, чеканные приказы былой силы, присущей полководцу.
— Я прошу рассказать императору все, что видели вы своими глазами. Будь то лично, при встрече, будь то в письмах. Будьте точны в своих рассказах о том, что видели. Вы видели, что Германик отравлен; я обвиняю в отравлении и неминуемой смерти своей Гнея Пизона, наместника Египта, и здесь, перед вами, отказываю ему в своем доверии. То же сказал бы я перед императором, если бы подобное оказалось возможным…
Раздались удивленные или возмущенные выкрики, но Германик был спокоен. Он, казалось, не слышал этих выкриков. Впрочем, слышал, поскольку переждал их, и продолжил:
— Я прошу вас, видевших мою смерть, воззвать к сенату. Не должно преступление подобного рода остаться безнаказанным, если бы речь шла и о простом горожанине; но смерть Германика — преступление вдвойне. Не потому, что я больше люблю Германика, но потому, что рука моя служила и могла бы послужить еще чести и защите римских интересов как никакая другая; отечество же превыше всего.… Обещайте же каждый из вас, что будете просить отмщения для Германика в сенате!
Со всех сторон раздались уверения в том, что друзья скорее умрут, нежели пренебрегут отмщением за Германика.
— Брат мой, Клавдий Нерон, будет извещен о моей смерти одним из первых; от него не прошу я мести; но забота о племянниках пусть ляжет и на его плечи. Он слаб умом и здоровьем, мой бедный брат…
Агриппина взглянула на Германика с удивлением, граничащим с возмущением. Невзирая на явное несогласие жены, Германик усилил свои слова повтором:
— Да, слаб и умом, и здоровьем! Посему скажите ему, что я просил его идти своим путем, что избрал он когда-то, а он знает, каков этот путь…
Германик устал, силы покидали его, но не все еще было сказано.
— Скажите ему, что он был прав, а я нет, прошу простить меня за это!
Вновь переждав волну вздохов и рыданий, подкрепившись глотком воды, заботливо принесенной Агриппиной, и не забыв приласкать женщину ласковым взглядом, Германик продолжил:
— Жена! Чтя мою память и ради наших детей, смири заносчивость нрава! Склонись перед злобной судьбой. Возвращайтесь в Рим, где вас окружат заботой родные и близкие. Ради тебя самой и ради детей, умоляю: не раздражай сильных мира сего, соревнуясь с ними в могуществе. Я был молод, силен, не обделен дарами богов; я не делал сего, ты, женщина, не делай тем более…
Длинная речь утомила Германика; казалось, всеобщее сочувствие и горе лишь раздражают его. Он принял свою судьбу, готовился к смерти. Плач же возвращал его к мыслям о возможном, но не свершенном; то было горько ему…
Он отпустил собравшихся. Светлые часы закончились, начиналась агония.
Он был возбужден, головная боль не оставляла. Моча была с кровью, приобрела цвет мясных помоев, Калигула сам видел это. Германик, приходя в себя, жаловался на потерю зрения, причем частичную. Он видел каждым глазом лишь половину поля, он так и сказал: «Половинное у меня зрение. Лицо-то у тебя теперь странное, жена. От носа до щеки, ровно половинка, как глаз прикрою один. А ты без меня — просто половинка и есть, дети же без меня и вовсе ничто. Больно мне Агриппина, скорее бы уже. Не хочу думать, что с вами станется. И так уж нет сил…»
Отец часто дрожал; иногда это было подергивание отдельных групп мышц. Если это касалось лица, то искажалось оно чудовищно, Германик становился неузнаваем. В такие минуты Сапожок боялся отца, жался поближе к стенке, но все же не уходил. В сердце его было много любви к отцу, а любовь придавала мужество. Слуги держались на пороге проклятой богами комнаты, не входя в нее, если только не нужны были их услуги, они повиновались приказам, и только. Ближние из римлян толпились у дверей дома или в атриуме, ожидая горестного известия с минуты на минуту, не желая при этом видеть страданий полководца. Лишь жена и маленький сын оставались на бессменном посту. Два сердца тосковали равно по одному человеку, но врозь. Горе не сделало их ближе, каждый оставался сам по себе. Калигула старался быть незаметным, дабы мать не опомнилась и не изгнала его из комнаты; Агриппина же видела в этой комнате лишь одного человека, на котором сосредоточилась вся ее жизнь, вся ее любовь.
Еще один лекарь, на сей раз не грек, и не уроженец мест, куда принесла их злая воля богов, присел у ложа страдающего Германика. Этот был египтянином.
Его интересовало все. Биение крови на руке полководца, биение его сердца, отправления, вода, пища; он исследовал стены в комнате, светильники, чаши, всю остальную посуду. Он был невыносим. Но Агриппина терпела: о нем говорили, что творит чудеса. И если не он, то кто же?
Пусть хоть на язык пробует то, что Германиком выделяется, только пусть поможет!
Безотчетное чувство неприязни к нему, бритоголовому, смуглому, чужому, Агриппина все же не могла подавить. Восток был ей чужим; у нее не было оснований доверять Востоку и его людям. Самое страшное бедствие её жизни разразилось здесь.
Египтянин заинтересовался кубком Германика. Долго вертел перед глазами красивую вещь, рискнул даже попробовать воду из него; от чего женщина была отнюдь не в восторге. Поинтересовался, откуда воду приносят. Сходил на источник.
Когда вернулся, вид у него был весьма довольным, словно случилось хорошее что.
Оказалось, что нет. Просто он нашел решение, отгадал загадку.
— Позволено ли мне осведомиться, — спросил он, — откуда этот кубок редкой работы? Орнамент понизу и способ установки камней заставляют думать, что мы с ним родом из Египта.
Услышав ответ, был, казалось, удовлетворен. Потом помрачнел. Видимо, не хотелось говорить. А отвечать Агриппине следовало.
— Из этого кубка воду великий полководец пить не должен. Теперь это вряд ли поможет. И, однако, я настоятельно прошу: не из этого кубка.
Агриппина накинулась на него с расспросами. Он был краток: возможно, вещество кубка в сочетании с водой из источника вызвало отравление…
Она заметалась. Ей хотелось достать врага, вцепиться зубами в горло, пить его кровь…
Ей хотелось сравнять с землею Египет!
Лекарь, слушая ее проклятия, мрачнел все больше. Потом сказал:
— Твои проклятия пропадут втуне. Кому бы хотела ты мстить? Моей стране? Ее и без того нет уже на свете, она почти мертва. Каков смысл? Следует помочь живым. Полководец умрет; я не в силах помочь. Быть может, разрешишь мне сократить мгновения жизни, которая не приносит ничего, кроме страданий? Или хотя бы облегчить, так, чтобы он спал в забытье и не сознавал своей смерти?
Она чуть было не убила его, самого лекаря.
Он ушел, поражаясь любви, которая не стремится к милосердию…
А Германику и впрямь становилось все хуже. Калигула страдал, он боялся.
Когда у отца начались судороги, мальчик испугался донельзя. Вначале раздался резкий выкрик из судорожно сжатого горла, потом тело больного стало содрогаться, руки взметнулись вверх и искривились под немыслимым углом…
Может, Сапожок и сбежал бы теперь, когда перед ним было уже нечто, не бывшее отцом; это нечто изгибалось дугой, билось головой об изголовье. Вконец исхудавшее, черное лицо страдальца с натянутой кожей, впавшие глазницы — он уже видел, видел подобное! Мрачное воспоминание из детства, пробитый стрелой череп в Тевтобургском лесу! Но здесь он был еще живым человеком, этот череп, по подбородку которого стекала пена; цвет ее был кроваво-красным…
Нет, мальчик сбежал бы определенно, но ужас сковал его члены. Он не мог даже приподняться с места, не отводил глаз от постели. Набежавшие слуги пытались прижать Германика, прекратить страшный танец сведенных мышц, но все было тщетно. Казалось, продолжалось это вечно. Затем началось забытье; в тоскливой тишине комнаты жена и сын мучительные минуты ловили расстроенное, не в такт дыхание, с шумом вырывавшееся из открытого рта…
Когда оно смолкло, жизнь ушла. Германик Юлий Цезарь, полководец, герой, наследник императора Тиберия умер. Он лежал на ложе, невообразимо изменившийся: истощавший, измученный, с кроваво-красной пеной на подбородке и груди. Он умер в нечистоте, в испражнениях собственного, судорогой искореженного тела. Слава и гордость империи…
[31] Антиохия — из шестнадцати древних городов под названием Антиохи́я (от имени Антиох) наиболее известна Антиохи́я-на-Оро́нте (Антиохия-на-Дафне) или Антиохия Великая.Антиохия была одной из столиц государства Селевкидов. Основана Селевком IНикатором на левом берегу реки Оронт (в настоящее время называется Аси) в 300 г. до н.э., во времена войны диадохов, после битвы при Ипсе. Город делился на четыре квартала, каждый из которых был окружён отдельной стеной, а вместе они были обнесены ещё более высокой и укреплённой стеной. Находясь на перекрёстке караванных путей, Антиохия контролировала торговлю между Востоком и Западом. В годы расцвета в городе жило более 500 тыс. человек. Позже Антиохия на небольшое время вошла в состав Армении, потом (с 64 г. до н.э.) стала резиденцией наместника римской провинции Сирия. Антиохия была третьим по величине городом Римской империи после Рима и Александрии.
[32] Гней Кальпурий Пизон (лат. Gnaeus Calpurnius Piso; около 43 г. до н.э. — 20 г. н.э.) — В 14 г. до н.э. Пизон вошел в коллегию арвальских братьев (на место Августа) и августалов. Консул в 7 г. до н.э. (соконсул император Тиберий Клавдий Нерон).
[33] По имени Сократа.Сокра́т (др. — греч. Σωκράτης; ок. 469 — 399 г.г. до н.э., Афины) —древнегреческий философ, учение которого знаменует поворот в философии от рассмотрения природы и мира к рассмотрению человека. Его деятельность — поворотный момент античной философии. Своим методом анализа понятий (майевтика, диалектика) и отождествлением положительных качеств человека с его знаниями он направил внимание философов на преимущественное значение человеческой личности. Сократа называют первым философом в собственном смысле этого слова.
[34] Триклиний (лат. triclinium) — пиршественный зал, столовая, выделенная в отдельную комнату под влиянием греческой традиции. Римляне ели, возлежа на ложах-клиниях (лектус триклиниарис). В доме могло быть несколько триклиниев. В триклиниях как правило располагалось три ложа буквой П; если их было два, это называлось биклиний.
[35] Lex laesae majestatis Populi Romani. Старый закон 103 г. об оскорблении величия римского народа был перенесен на особу императора и послужил широкой «юридической» базой для преследования всех слоев римского общества, оппозиционных режиму Тиберия. Такая практика уже существовала в 80-е годы до н.э. в период правления Суллы.
[36] Кубикулум (лат. cubinculum) — первоначально и главным образом фамильная почивальня в римском доме, затем вообще жилой покой. В больших домах кубикулами назывались также небольшие комнаты, выходившие в перистиль или атриум и предназначавшиеся для приема гостей и т. п.
[37] Хлеб из Египта — в жизни Рима даровая раздача хлеба бедному населению (plebsurbana) была явлением первостепенной важности. Зерно для хлеба в основном поставляли из Северной Африки, и, в частности, из Египта. Одной из главных забот всех императоров было снабжение столицы империи хлебом. Поэтому первый император, Август, придавал своей власти над Египтом большое значение. Он считал эту провинцию своим личным владением. Слова Тацита служат подтверждением этому: «Ибо Август, наряду с прочими тайными распоряжениями во время своего правления, запретив сенаторам и виднейшим из всадников приезжать в Египет без его разрешения, преградил в него доступ, дабы кто-нибудь, захватив эту провинцию и ключи к ней на суше и море, и, удерживая ее любыми ничтожно малыми силами против огромного войска, не обрек Италию голоду». Тацит же сообщает, что император Тиберий (14 г. н.э. — 37 г. н.э.) придерживался той же политики и был весьма недоволен тем, что его родственник — популярный в империи полководец Германик — без его ведома посетил Египет.
[38] Митридат Понтийский, Митрида́т VI Евпатор (др. — греч. ΜΙΘΡΑΔΑΤΗΣ Στ′ Εὐπάτωρ, лат. Mithridates — латинизированная форма), также имевший прозвища Дионис и Великий(134 до н.э., Синоп, Понтийское царство — 63 до н.э., Пантикапей, Боспорское царство) — царь Понта, правивший в 120-63 годы до н.э. Панически боялся ядов, серьезно занимался токсикологией, конструировал противоядия. Его препарат, получивший впоследствии название митридатикума, состоявший из 36 компонентов, имел репутацию лучшего в те годы антидота, способного предупредить действие таких ядов, как аконитин, токсины змей, скорпионов, змей и т.д.
По возвращении семьи в Сирию закончилось детство Калигулы. Здесь, в пригороде Антиохии[31], Эпидафне, суждено было проститься тридцатичетырехлетнему Германику с жизнью, а Калигуле с детством.
Началось все с того, что отец вновь отдался делам без остатка. Как оказалось, все его ранние распоряжения, касавшиеся войск и городов, или вовсе отменены, или заменены на противоположные. Сделано это было наместником Сирии, Гнеем Пизоном[32]. Но без ведома ли Тиберия? Агриппина считала, что во всем виновен император. И высказалась как-то об этом громко и вслух, за обеденным столом.
— Коварство выживающего из ума старика безгранично! Друз Младший, его сын, не сумел превзойти тебя талантом полководца, не обрел любви легионов, какой ты удостоился. За это Тиберий невзлюбил собственного сына, как же он при этом должен ненавидеть тебя! Выскочка Плацина, пусть женщина она богатая и знатная, но не ровня внучке Августа. Не посмела бы она противопоставить себя мне, не будь на то согласия Тиберия! Все здешнее общество разделено на два лагеря: сторонников твоих и сторонников Пизона. Твои приказы отменяются! Представить себе подобное невозможно, немыслимо, если только за всем этим не стоит император!
Плацина была женою наместника, Гнея Пизона, и за короткое время успела нанести Агриппине немало обид. Она являла собой олицетворенную дерзость и неуважение; она терзала самолюбие внучки Августа с настойчивостью, впрямь достойной иного применения.
Но и Агриппину, произнесшую эти неосторожные слова, не оправдывали обстоятельства. Они были не одни. Редкий римлянин, если только он не плебей, обедает один; а Германику подобное и вовсе не пристало. Он не обедал один и на сей раз.
Большой стол, с трех сторон окруженный массивными каменными ложами, был украшен яствами. Поросенок, увенчанный колбасами, сырный пирог, холодный, но политый горячим медом, обложенный фасолью, горохом, орехами и персиками. Медвежатина кусками. Мягкий сыр. Улитки, печенка, репа, тунец.
Для дворца Тиберия скромно, да и для многих семей патрициев, пожалуй, тоже. Но Германик давно установил свои правила в собственном доме. Никаких оргий, никакого обжорства за столом. В его просторном обеденном зале не царила теснота, как было принято, не было скученных распростертых людей, непрестанно потеющих и укутывающихся в накидки от простуды. Довольно было и троих, возлежащих на каждом ложе, и предпочтительно было, чтоб друзья приводили с собою жен, если они имелись. Женщины усаживались в ноги к мужьям. Предлагалась «сократическая»[33] беседа, живая и остроумная, где каждый должен был проявить находчивость и природный ум. Беседа не всегда тихая, если мужчины решались поспорить, но всегда интересная. Иногда обеды сопровождались музыкой и танцами. Временами приглашались актеры: либо для чтения стихов, либо те, что сыпали шутками, играли смешные сценки.
В доме Германика достало слуг, чтобы позаботиться о каждом госте. Бесшумными тенями скользили они с открытой четвертой стороны триклиния[34], разнося еду, ту, что не умещалась на общем столе. Пожалуй, их продвижение по залу напоминало танец: они сменяли друг друга через определенные промежутки времени, в строгом порядке, без суеты и столкновений, и никто не был обижен ими. Даже кубки с вином заполнялись слугами для каждого в отдельности, потому не было неприличной суеты и драк, предшествующих обычно захвату кубка. Дружеский характер обеда у Германика был не пустой декларацией. Гости знали, что непременно унесут с собой салфетки, заполненные снедью, той, что от стола осталась. Среди тех, кто был приглашен к Германику, конечно, не нашлось бы ни одного, кто сваливал бы еду в принесенные с собой старые салфетки самостоятельно, без ведома слуг. Или тех, кто салфетки новые воровал…
И, однако, не было полной уверенности, что среди этих же людей нет доносчиков. Нет тех, кто постарается приписать Германику «оскорбление величия».[35] Ткани и подушки, наброшенные на ложа, разделяли гостей, музыка, звучавшая в зале сегодня, тоже приглушала звук, скрадывала его. Но слова Агриппины были услышаны гостями, судя по их лицам. И был на нескольких лицах страх, было недовольство услышанным, настороженность…
Германик дал знак начинать сегодняшнее развлечение; крепко сжал руку жены, дав ей понять, что не хочет продолжения разговора. В пиршественный зал стали заносить картины, укладывать их к стене так, чтоб зрители не могли видеть. Предполагался аукцион, во время которого большие деньги могли быть заплачены за пустое полотно, а маленькие за признанный шедевр. Гости оживились, зашумели. Слова Агриппины были забыты, а может, отложены на время.
Появление нежданных гостей в пиршественной зале тоже несколько сгладило ситуацию. Девочка лет четырех, в ярко-розовой столе, забежала в триклиний. С открытой стороны стола. Без единого слова ухватила со стола кусок запеканки, смазанной медом и посыпанной маком, и унеслась обратно. Из-за приоткрытой двери послышался голос, звонкий и торжествующий:
— Ага! Говорила тебе, что стащу, и стащила! И никто не помешал! А ты сиди, жди, вместе с Друзиллой!
— Калисту накажут, Агриппина! — отвечал ей мальчишеский голос. — И отец будет сердиться. Не на тебя, а на меня. Спросит, как я тебя упустил. Не давись! И поделись хоть с Друзиллой, не жадничай, раз уж у тебя получилось…
Послышался звонкий шлепок. И был сопровожден визгом. А мальчишеский голос добавил: — Это тебе за проделку. И за жадность тоже. Гляди, подавишься…
Агриппина Старшая поспешила вскочить, чтобы бежать навести порядок среди своих отпрысков. Под благожелательные смешки искренне развлеченных детьми гостей; сама же она не улыбалась. Было видно, что хозяйка раздосадована донельзя. Но Германик остановил ее, придержав за руку.
— Давай уж я сам, жена. Кому тут приказывать назначено судьбой? Не мне ли как полководцу?!
Он разобрался быстро. Только вышел за дверь, как послышался топот двух пар ножек. Агриппина с Калигулой унеслись, завидев отца на пороге, не дожидаясь его справедливого гнева. Друзилле с ними не тягаться, она маленькая еще. И вины особой за собой не знает. Потягивает отцу ручку с запеканкой: «Вот он, мой выкуп, за которым ты пришел. Я поделюсь, мне не жалко»… Отец подхватил девочку, посмеиваясь, и передал запыхавшейся Калисте. Выговор его достался этой рабыне, девушке лет семнадцати, приставленной к Друзилле и Агриппине. Она их сегодня упустила, конечно. Правда, выговор мягкий, Калиста была рада, что от хозяина. Хозяйка могла бы не так обидеть! Она бы не стала выслушивать оправдания. Да и что это за оправдание: мальчик, хозяйский сын, так привязан к Друзилле, сестре, так за ней присматривает, что Калиста себя чувствует лишней в их обществе. Она Калигуле Друзиллу доверяет со спокойной совестью. И старается не спускать глаз с Агриппины-младшей, которая доставляет более всего беспокойства, становясь с каждым днем все менее управляемой. Агриппина же ее обманула, притворившись спящей. И кто же знал, что девочка сумеет подстрекнуть к проделке и брата!
А Германик вернулся к гостям, улыбаясь, и в руке его был кусок украденной Агриппиной-младшей запеканки, ставшей причиной забавного события. Он откусывал понемножку, на лице его было написано удовольствие, почти блаженство…
Уж после того, как обнесли гостей по кругу глубоким блюдом с маринованными оливками, после того, как Германик попрощался с каждым, благодаря его за сегодняшнее участие в обеде, лишь после этого Германик, крепко ухватив жену за руку, почти выволок ее в их общий кубикулум[36] при большом атрии. А там плотно прикрыл за собою дверь.
— Смири свою заносчивость, жена! Не следует произносить подобных слов при гостях и слугах!
Германик был суров, в глазах плескалась тревога.
— Если ты допускаешь такого рода предположения, то следует быть вдвойне осторожной в выражениях, жена! То, что не высказано вслух, прилюдно, это всего лишь предположения. Сказанное вслух, да еще тобой, приобретает силу свершившегося. И что тогда делать мне? Вступить в открытое сопротивление? Сделаться отщепенцем, изгоем, врагом Рима? Это — никогда!
— Ты готов безропотно отдать нас всех на растерзание мерзкому старику? Разве Тиберий — и есть Рим? Поднимай преданные тебе легионы, закрой доступ хлеба стране из Египта[37], теперь ты это можешь, и Рим — твой навеки!
Германик горько усмехнулся, глядя в глаза женщине, которую любил.
— А жизнь и смерть твоих детей, которые теперь в руках Тиберия, перед открывающейся тебе возможностью власти, наверное, ничто? Ты так любишь открытые горизонты, Агриппина, что готова платить жизнью сыновей, разглядев лишь призрак власти там, вдали?
Они помолчали, ибо, когда произносится вслух правда, особенно горькая, непременно возникает желание свыкнуться с ней, осмыслить правоту впервые вырвавшейся на свободу из темницы сознания истины. Так ли это? Это действительно так? Это я так думаю, так выгляжу, этим живу? Это я таков, да может ли это быть?
— Я же хочу сохранить всех вас…
Теперь голос Германика был тих, едва слышен.
— Всех, мною любимых и от меня зависящих. Вас, плоть мою и кровь, вас, мой Рим!
— Но это невозможно! Если Тиберий решил уничтожить нас, то он это сделает, если не сопротивляться, если не жертвовать кем-либо. Голос Агриппины тоже был на удивление тих, она полузадушено шептала свои слова; чувствовался ее невольный ужас перед будущим.
— Я не одинок, жена, — прошептал Германик. — Есть еще люди, которые понимают: правление Тиберия подходит к концу. То, что было когда-то живым и благотворным, ныне стало мертвым. Император погряз в разврате, каждый день приближает нас к концу. Выбор Рима по смерти императора может быть одним, ты его знаешь. Этот выбор пал на меня. Да, наша поездка в Египет — это разведка перед боем; но, возможно, боя не понадобится. Те, кто уверял меня в этом, близки к власти, очень близки.
Как зачарованная слушала Германика Агриппина.
— Не мешай мне, жена, это не дело женщин, это мужское дело, хотя тебе и не занимать мужества, кто же спорит. Но я хочу, чтобы ты была далека от всего этого. К тебе не должна прилипнуть никакая грязь, ты останешься для всех воплощением чистоты женщины, преданности и любви…
Германик взялся за дела. Дети вновь перестали его видеть. Он изъездил немало сирийских дорог, раздал большое число приказов, уговаривал, увещевал, кричал и пользовался своей властью, даже когда внутренне не считал это особенно необходимым. Результат был. Скрытое сопротивление, оказываемое полководцу, неминуемо снижалось, теряло накал. Официально он оставался главным на востоке, чему Гней Пизон не мог сопротивляться открыто. Настал день, когда наместник объявил о своем отъезде в Рим. И назначил день прощального пира.
Агриппина сказалась больной и не поехала. Будучи властолюбивой, кровожадной жена Германика не была никогда. Вид поверженного врага не радовал ее, достаточно было того, что он повержен. Внучке Августа не пристало быть злопамятной. Да и Плацина могла бы выкинуть напоследок что-то скандальное. Не хотелось быть участницей скандала, пусть даже холодной и недосягаемой, но участницей.
Никогда потом Агриппина не прощала себе этого поступка. Не могла простить. Умирая на Пандатерии от голода, через много лет, немало совершив глупостей, все кляла себя только за один свой поступок. Будь она рядом, она бы спасла. Она уберегла бы свою любовь, единственного своего мужа, своего Германика. Будь она рядом, сердцем почуяла бы, откуда идет беда. Отвела бы чашу с ядом, прочь отбросила бы тарелку с отравленной едой. Она бы смогла…
День, когда отца привезли с пира, запомнился Калигуле навсегда.
Его вынесли слуги, так он был слаб и немощен, покоритель многих народов. Потом они говорили, что много раз были вынуждены остановиться в пути: Германика рвало, выворачивало, казалось, наружу, сердце разрывалось глядеть на то, как он тужился, пытаясь выгнать остатки съеденной пищи. Он жаловался на боль в желудке, несколько раз, покрываясь липким холодным потом, полководец присаживался на обочине дороги для отправления естественной нужды. Судорогой сводило икры, если бы не помощь слуг, он извалялся бы в собственных испражнениях и рвоте. Ноги не держали его, бледность была пугающей…
Ближние полководца, испуганные криками слуг, высыпали наружу. Потрясенные, смотрели, как несут изможденного страданием мужа и отца. Никогда ранее, даже в случаях ранений, он, не желая пугать их, не позволял нести себя. Он шел, бывало, едва передвигая ноги, но с гордо поднятой головой.
— Яд, — пошел гулять шепоток по дому, — Германик отравлен…
Это было очевидно, впрочем. Слуга, прежде других отвечавший за безопасность полководца, немедленно был призван к ответу. Он был испуган, конечно, и в то же время исполнен сознания выполненного долга. Все нападки Агриппины отверг полностью и безоговорочно.
— Я ем и пью прежде своего господина, что бы он ни пробовал, к чему бы ни прикладывался. Ни одного куска и ни одного глотка он не сделал прежде меня. Я знаю долг, я скорее умер бы от его собственной руки, вырвав из самого его горла все, что он пожелал бы пронести мимо меня, оскорбив его величие, но, не подвергнув опасности быть отравленным…
Слуга являл собой образец доброго здоровья, между тем как Германик…
Всех сопровождавших мужа Агриппина вызвала по одному к себе и допросила. Все были уверены, сходились на этом утверждении безоговорочно: отравление на пиру невозможно! Десятки других приглашенных и их слуг, за каждым следили десятки пар глаз, подсыпать что бы то ни было в кубок или еду никакой возможности. Не-воз-мож-но!
А ее мужу становилось все хуже и хуже…
Его мучила жажда, постоянный странный привкус во рту.
— Принесите мне воды, — просил он голосом, исполненным муки. — Почему никто не даст мне глотка воды? Я знаю, пересох мой источник, я видел это сам, когда бродил по роще. Агриппина, мы были вдвоем, помнишь? Налетел ветерок, принесший прохладу, и вдруг взметнулся до небес, стал жарким ветром пустыни, лизал нам лица жарким языком. Он высушил мою воду, этот жар из пустыни. Агриппина, найди же глоток воды для меня, молю…
Она смачивала водой тряпки, вытирала ими иссушенное тело мечущегося в бреду Германика. Подносила к губам кубок, привезенный ими из Египта…
Источник, что бил неподалеку от их виллы из-под земли, с некоторых пор полюбился ее мужу. Вода его, слегка кисловатая на вкус, нравилась полководцу, и он пил лишь ее. Пользовался своим кубком при этом; ему нравилась игра света и тени на камнях. Теперь, когда он был болен, как и до начала болезни, воду пробовал преданный ему слуга. Только он пил ее не из кубка полководца. Ее наливали вначале ему, слуге, в его сосуд. Потом заполняли кубок господина…
Между тем именно под воздействием этой природной минерализованной воды освобождался свинец, заключенный в кубке. И выпей слуга из этого кубка, да много, много раз, что-то могло бы проясниться. Могли ли ближние полководца угадать подобное? Те, кто мог, кто знал о природе кубка хоть что-либо, желали смерти Германика. Остальные в бессилии смотрели, как гаснет дорогая им жизнь.
Лекари призывались, конечно; но изгонялись Агриппиной так же часто, как призывались. Они говорили о митридатикуме[38], рассуждали о необходимости мер предохранения от ядов. Что же касается лечения, то оно заключалось в вызывании рвоты. Германика и без того тошнило и рвало; он был не в силах искусственно вызывать рвоту. Да и ослабляло его это безмерно.
Он не просто бредил; ему чудилось нечто.
— Агриппина, — звал он любимую. — Агриппина, вот оно опять, опять! Этот звук, этот звук из-под земли, зовущий меня. Там мертвые, много мертвых. Холодные руки, пустые глазницы! Не отпускай меня; я знаю, там плохо, там ждет меня оно… Страшное, холодное, скользкое. Я чувствую запах; оно дышит в лицо смрадом. Не подходи! Где ты, жена? Помоги!
Калигула почти не покидал комнаты отца. Здесь было страшно; там, вдали от умирающего отца — еще страшнее. Пока он был здесь, ему казалось, что-то могло еще измениться. Он мог бы помочь, глядя в лицо отца, просто держа его за руку. Он боялся оставить комнату, казалось, выйди за дверь, вернешься, а отца уже нет. Никому не было дела до маленького; Агриппина не помнила себя, слуги же едва справлялись с обилием свалившихся забот. Лишь на ночь выдворяли Сапожка, но с первыми лучами солнца он занимал свое место, с тоской взирал на ложе, где метался отец. Однажды он помогал слугам оттащить отца от Агриппины; руки Германика сомкнулись на шее жены; он принял ее за то чудовище, что приходило за ним из царства мертвых. Сил у молодого мужчины, пусть и изможденного болезнью, оказалось еще довольно много, мать едва дышала, когда ее оторвали от Германика. Однажды он слышал разговор матери с отцом, пришедшим в сознание, с очевидно просветлевшим взором. Он спросил, и в вопросе этом был ответ:
— Жена, я умираю?
Раздавленная горем, постаревшая враз Агриппина не смела отвечать, Калигула видел, как дрожали ее губы, когда она пыталась ответить — и не могла.
— Я знаю это. Как же болит голова! И ничто не поможет, ничто? В чем я провинился? Чего не сделал, боги? Я сражался, я любил, я все мог, если было нужно!
Боги не отвечали.
— Прости, жена. Ты была права, а я нет. Я не успел, Агриппина, я не успел! Если бы можно было вернуть… Почему можно всем, а Германику нельзя? Мне нужен всего лишь месяц, один лишь месяц. Я успею изменить все!
Но боги молчали, а отсчет жизни шел на дни и часы. И всем это было уже ясно.
Сжавшийся в комочек Калигула услышал вой, похожий на вой голодного волка в холодную зимнюю ночь. Он слышал подобный вой в лесах Германии, на лагерных стоянках. Но теперь выл от тоски и предсмертного одиночества, оплакивая свою недолгую жизнь, его отец. Не в силах слышать, Калигула выскочил за дверь, забился в рыданиях на пороге. Он пытался заткнуть уши пальцами; он не хотел слышать, а все же слышал!
Казалось, вернуться к отцу после этого Сапожок не сможет. Но, когда вой, наконец, смолк, Калигула вновь занял свой пост у постели. Смотрел, как мечется Германик, мучимый головной болью и бессонницей, сменявшимися бредом...
За два дня до смерти отец изменился. Он стал отказываться от еды и питья, поскольку не в силах был терпеть тошноту и рвоту, связанные с приемом любого глотка внутрь. Сознание его на некоторое время просветлело. Первым делом он вызвал к себе друзей.
— Вы, те, кто облечен здесь властью, и те, кто были здесь со мной по зову родства или дружбы…
Бесконечно опечаленные лица, отводимые в сторону глаза, многие из которых увлажняли непритворные слезы…
Германик же смотрел твердо, казалось, он понял и принял свою смерть, и теперь раздавались четкие, чеканные приказы былой силы, присущей полководцу.
— Я прошу рассказать императору все, что видели вы своими глазами. Будь то лично, при встрече, будь то в письмах. Будьте точны в своих рассказах о том, что видели. Вы видели, что Германик отравлен; я обвиняю в отравлении и неминуемой смерти своей Гнея Пизона, наместника Египта, и здесь, перед вами, отказываю ему в своем доверии. То же сказал бы я перед императором, если бы подобное оказалось возможным…
Раздались удивленные или возмущенные выкрики, но Германик был спокоен. Он, казалось, не слышал этих выкриков. Впрочем, слышал, поскольку переждал их, и продолжил:
— Я прошу вас, видевших мою смерть, воззвать к сенату. Не должно преступление подобного рода остаться безнаказанным, если бы речь шла и о простом горожанине; но смерть Германика — преступление вдвойне. Не потому, что я больше люблю Германика, но потому, что рука моя служила и могла бы послужить еще чести и защите римских интересов как никакая другая; отечество же превыше всего.… Обещайте же каждый из вас, что будете просить отмщения для Германика в сенате!
Со всех сторон раздались уверения в том, что друзья скорее умрут, нежели пренебрегут отмщением за Германика.
— Брат мой, Клавдий Нерон, будет извещен о моей смерти одним из первых; от него не прошу я мести; но забота о племянниках пусть ляжет и на его плечи. Он слаб умом и здоровьем, мой бедный брат…
Агриппина взглянула на Германика с удивлением, граничащим с возмущением. Невзирая на явное несогласие жены, Германик усилил свои слова повтором:
— Да, слаб и умом, и здоровьем! Посему скажите ему, что я просил его идти своим путем, что избрал он когда-то, а он знает, каков этот путь…
Германик устал, силы покидали его, но не все еще было сказано.
— Скажите ему, что он был прав, а я нет, прошу простить меня за это!
Вновь переждав волну вздохов и рыданий, подкрепившись глотком воды, заботливо принесенной Агриппиной, и не забыв приласкать женщину ласковым взглядом, Германик продолжил:
— Жена! Чтя мою память и ради наших детей, смири заносчивость нрава! Склонись перед злобной судьбой. Возвращайтесь в Рим, где вас окружат заботой родные и близкие. Ради тебя самой и ради детей, умоляю: не раздражай сильных мира сего, соревнуясь с ними в могуществе. Я был молод, силен, не обделен дарами богов; я не делал сего, ты, женщина, не делай тем более…
Длинная речь утомила Германика; казалось, всеобщее сочувствие и горе лишь раздражают его. Он принял свою судьбу, готовился к смерти. Плач же возвращал его к мыслям о возможном, но не свершенном; то было горько ему…
Он отпустил собравшихся. Светлые часы закончились, начиналась агония.
Он был возбужден, головная боль не оставляла. Моча была с кровью, приобрела цвет мясных помоев, Калигула сам видел это. Германик, приходя в себя, жаловался на потерю зрения, причем частичную. Он видел каждым глазом лишь половину поля, он так и сказал: «Половинное у меня зрение. Лицо-то у тебя теперь странное, жена. От носа до щеки, ровно половинка, как глаз прикрою один. А ты без меня — просто половинка и есть, дети же без меня и вовсе ничто. Больно мне Агриппина, скорее бы уже. Не хочу думать, что с вами станется. И так уж нет сил…»
Отец часто дрожал; иногда это было подергивание отдельных групп мышц. Если это касалось лица, то искажалось оно чудовищно, Германик становился неузнаваем. В такие минуты Сапожок боялся отца, жался поближе к стенке, но все же не уходил. В сердце его было много любви к отцу, а любовь придавала мужество. Слуги держались на пороге проклятой богами комнаты, не входя в нее, если только не нужны были их услуги, они повиновались приказам, и только. Ближние из римлян толпились у дверей дома или в атриуме, ожидая горестного известия с минуты на минуту, не желая при этом видеть страданий полководца. Лишь жена и маленький сын оставались на бессменном посту. Два сердца тосковали равно по одному человеку, но врозь. Горе не сделало их ближе, каждый оставался сам по себе. Калигула старался быть незаметным, дабы мать не опомнилась и не изгнала его из комнаты; Агриппина же видела в этой комнате лишь одного человека, на котором сосредоточилась вся ее жизнь, вся ее любовь.
Еще один лекарь, на сей раз не грек, и не уроженец мест, куда принесла их злая воля богов, присел у ложа страдающего Германика. Этот был египтянином.
Его интересовало все. Биение крови на руке полководца, биение его сердца, отправления, вода, пища; он исследовал стены в комнате, светильники, чаши, всю остальную посуду. Он был невыносим. Но Агриппина терпела: о нем говорили, что творит чудеса. И если не он, то кто же?
Пусть хоть на язык пробует то, что Германиком выделяется, только пусть поможет!
Безотчетное чувство неприязни к нему, бритоголовому, смуглому, чужому, Агриппина все же не могла подавить. Восток был ей чужим; у нее не было оснований доверять Востоку и его людям. Самое страшное бедствие её жизни разразилось здесь.
Египтянин заинтересовался кубком Германика. Долго вертел перед глазами красивую вещь, рискнул даже попробовать воду из него; от чего женщина была отнюдь не в восторге. Поинтересовался, откуда воду приносят. Сходил на источник.
Когда вернулся, вид у него был весьма довольным, словно случилось хорошее что.
Оказалось, что нет. Просто он нашел решение, отгадал загадку.
— Позволено ли мне осведомиться, — спросил он, — откуда этот кубок редкой работы? Орнамент понизу и способ установки камней заставляют думать, что мы с ним родом из Египта.
Услышав ответ, был, казалось, удовлетворен. Потом помрачнел. Видимо, не хотелось говорить. А отвечать Агриппине следовало.
— Из этого кубка воду великий полководец пить не должен. Теперь это вряд ли поможет. И, однако, я настоятельно прошу: не из этого кубка.
Агриппина накинулась на него с расспросами. Он был краток: возможно, вещество кубка в сочетании с водой из источника вызвало отравление…
Она заметалась. Ей хотелось достать врага, вцепиться зубами в горло, пить его кровь…
Ей хотелось сравнять с землею Египет!
Лекарь, слушая ее проклятия, мрачнел все больше. Потом сказал:
— Твои проклятия пропадут втуне. Кому бы хотела ты мстить? Моей стране? Ее и без того нет уже на свете, она почти мертва. Каков смысл? Следует помочь живым. Полководец умрет; я не в силах помочь. Быть может, разрешишь мне сократить мгновения жизни, которая не приносит ничего, кроме страданий? Или хотя бы облегчить, так, чтобы он спал в забытье и не сознавал своей смерти?
Она чуть было не убила его, самого лекаря.
Он ушел, поражаясь любви, которая не стремится к милосердию…
А Германику и впрямь становилось все хуже. Калигула страдал, он боялся.
Когда у отца начались судороги, мальчик испугался донельзя. Вначале раздался резкий выкрик из судорожно сжатого горла, потом тело больного стало содрогаться, руки взметнулись вверх и искривились под немыслимым углом…
Может, Сапожок и сбежал бы теперь, когда перед ним было уже нечто, не бывшее отцом; это нечто изгибалось дугой, билось головой об изголовье. Вконец исхудавшее, черное лицо страдальца с натянутой кожей, впавшие глазницы — он уже видел, видел подобное! Мрачное воспоминание из детства, пробитый стрелой череп в Тевтобургском лесу! Но здесь он был еще живым человеком, этот череп, по подбородку которого стекала пена; цвет ее был кроваво-красным…
Нет, мальчик сбежал бы определенно, но ужас сковал его члены. Он не мог даже приподняться с места, не отводил глаз от постели. Набежавшие слуги пытались прижать Германика, прекратить страшный танец сведенных мышц, но все было тщетно. Казалось, продолжалось это вечно. Затем началось забытье; в тоскливой тишине комнаты жена и сын мучительные минуты ловили расстроенное, не в такт дыхание, с шумом вырывавшееся из открытого рта…
Когда оно смолкло, жизнь ушла. Германик Юлий Цезарь, полководец, герой, наследник императора Тиберия умер. Он лежал на ложе, невообразимо изменившийся: истощавший, измученный, с кроваво-красной пеной на подбородке и груди. Он умер в нечистоте, в испражнениях собственного, судорогой искореженного тела. Слава и гордость империи…
[31] Антиохия — из шестнадцати древних городов под названием Антиохи́я (от имени Антиох) наиболее известна Антиохи́я-на-Оро́нте (Антиохия-на-Дафне) или Антиохия Великая.Антиохия была одной из столиц государства Селевкидов. Основана Селевком IНикатором на левом берегу реки Оронт (в настоящее время называется Аси) в 300 г. до н.э., во времена войны диадохов, после битвы при Ипсе. Город делился на четыре квартала, каждый из которых был окружён отдельной стеной, а вместе они были обнесены ещё более высокой и укреплённой стеной. Находясь на перекрёстке караванных путей, Антиохия контролировала торговлю между Востоком и Западом. В годы расцвета в городе жило более 500 тыс. человек. Позже Антиохия на небольшое время вошла в состав Армении, потом (с 64 г. до н.э.) стала резиденцией наместника римской провинции Сирия. Антиохия была третьим по величине городом Римской империи после Рима и Александрии.
[32] Гней Кальпурий Пизон (лат. Gnaeus Calpurnius Piso; около 43 г. до н.э. — 20 г. н.э.) — В 14 г. до н.э. Пизон вошел в коллегию арвальских братьев (на место Августа) и августалов. Консул в 7 г. до н.э. (соконсул император Тиберий Клавдий Нерон).
[33] По имени Сократа.Сокра́т (др. — греч. Σωκράτης; ок. 469 — 399 г.г. до н.э., Афины) —древнегреческий философ, учение которого знаменует поворот в философии от рассмотрения природы и мира к рассмотрению человека. Его деятельность — поворотный момент античной философии. Своим методом анализа понятий (майевтика, диалектика) и отождествлением положительных качеств человека с его знаниями он направил внимание философов на преимущественное значение человеческой личности. Сократа называют первым философом в собственном смысле этого слова.
[34] Триклиний (лат. triclinium) — пиршественный зал, столовая, выделенная в отдельную комнату под влиянием греческой традиции. Римляне ели, возлежа на ложах-клиниях (лектус триклиниарис). В доме могло быть несколько триклиниев. В триклиниях как правило располагалось три ложа буквой П; если их было два, это называлось биклиний.
[35] Lex laesae majestatis Populi Romani. Старый закон 103 г. об оскорблении величия римского народа был перенесен на особу императора и послужил широкой «юридической» базой для преследования всех слоев римского общества, оппозиционных режиму Тиберия. Такая практика уже существовала в 80-е годы до н.э. в период правления Суллы.
[36] Кубикулум (лат. cubinculum) — первоначально и главным образом фамильная почивальня в римском доме, затем вообще жилой покой. В больших домах кубикулами назывались также небольшие комнаты, выходившие в перистиль или атриум и предназначавшиеся для приема гостей и т. п.
[37] Хлеб из Египта — в жизни Рима даровая раздача хлеба бедному населению (plebsurbana) была явлением первостепенной важности. Зерно для хлеба в основном поставляли из Северной Африки, и, в частности, из Египта. Одной из главных забот всех императоров было снабжение столицы империи хлебом. Поэтому первый император, Август, придавал своей власти над Египтом большое значение. Он считал эту провинцию своим личным владением. Слова Тацита служат подтверждением этому: «Ибо Август, наряду с прочими тайными распоряжениями во время своего правления, запретив сенаторам и виднейшим из всадников приезжать в Египет без его разрешения, преградил в него доступ, дабы кто-нибудь, захватив эту провинцию и ключи к ней на суше и море, и, удерживая ее любыми ничтожно малыми силами против огромного войска, не обрек Италию голоду». Тацит же сообщает, что император Тиберий (14 г. н.э. — 37 г. н.э.) придерживался той же политики и был весьма недоволен тем, что его родственник — популярный в империи полководец Германик — без его ведома посетил Египет.
[38] Митридат Понтийский, Митрида́т VI Евпатор (др. — греч. ΜΙΘΡΑΔΑΤΗΣ Στ′ Εὐπάτωρ, лат. Mithridates — латинизированная форма), также имевший прозвища Дионис и Великий(134 до н.э., Синоп, Понтийское царство — 63 до н.э., Пантикапей, Боспорское царство) — царь Понта, правивший в 120-63 годы до н.э. Панически боялся ядов, серьезно занимался токсикологией, конструировал противоядия. Его препарат, получивший впоследствии название митридатикума, состоявший из 36 компонентов, имел репутацию лучшего в те годы антидота, способного предупредить действие таких ядов, как аконитин, токсины змей, скорпионов, змей и т.д.
Рейтинг: +1
396 просмотров
Комментарии (2)
| Рыжик) # 29 августа 2015 в 15:11 0 | ||
|
| Олег Фурсин # 30 августа 2015 в 11:54 +1 | ||
|