Сотворение любви - Глава 8
22 октября 2018 -
Вера Голубкова

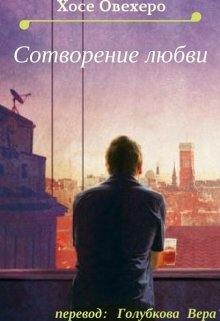
Меня бесило ее присутствие, как бесят иногда последствия собственных решений, но ведь это я сам позвонил ей и пригласил придти в порыве родившегося желания узнать побольше о Кларе. Я мог бы порвать ее визитку или сунуть в коробку и забыть про нее, как и про многие другие карточки, уведомления, просроченные лекарства, давние записные книжки или вырезки из журналов, которые я храню до тех пор, пока снова не наткнусь на них когда-нибудь, сам не понимая, зачем хранил. Я сам виноват, что встретился здесь с девушкой в красном костюме, похожем на тот, что был на ней в день похорон. Такой фасон абсолютно неуместен для личных встреч – слишком элегантный, слишком официальный, он идеально подходит для встреч деловых. В таком костюме не сядешь на землю и не хлебнешь пивка прямо из горла бутылки. К тому же, в глубине души я уже не был уверен, что хочу услышать ее рассказ о моих мнимых отношениях с Кларой, догадываясь, что мое желание, очертя голову, влезть в чужое прошлое и стать героем не своего романа – не более чем ребячество. Мне стало совестно, точно так же, как было совестно смотреть по телевизору определенного рода передачи. К слову сказать, до того, как сломался телевизор, я временами посматривал шоу, в которых люди рассказывали о своих сердечных проблемах, выставляя на всеобщее обозрение свои несчастья и недостатки, хвастаясь своей ненавистью и злобой. Впрочем, хватало меня всего на несколько минут, я быстро переключал телек на другой канал, потому что мне казалось, что эти эпизоды жизни были слишком личными и безусловно важными для главных героев, и я был здесь третьим лишним. Публичные обсуждения личной жизни сродни порнографии. Мужчины и женщины показывают нам то, что мы хотим увидеть, отлично зная, что не стоит смотреть снафф-видео наших несчастий, выставленных напоказ трупов наших душ, пыток, которыми мы терзаем сами себя для того, чтобы сделать нашу жизнь более значимой: дескать, смотрите все, на ваших глазах я приношу себя в жертву, чтобы доставить вам удовольствие, я попираю свое достоинство, унижаюсь, выставляю себя на позор и поругание. “Се человек”. [прим: Снафф-видео – короткометражные фильмы, в которых показываются настоящие убийства без использования спецэффектов, с предшествующим издевательством и унижением жертвы;
“Се человек” (ecce homini) – фраза, сказанная Понтием Пилатом при бичевании Христа и возложении на него тернового венца незадолго до распятия]
Тем не менее, я позвонил Карине – и вот она здесь, пожалуй, такая же взволнованная и напряженная, как и я. Вполне вероятно, она тоже спрашивает себя, зачем пришла. Что двигало ею – нездоровое любопытство или желание узнать, каким был любовник ее сестры? Возможно, она хотела представить Клару со мной, узнать, что мы делали, а что нет, ласковый ли я мужчина, и лучше или хуже того, каким она меня представляла? А может, ее согласие на мое приглашение было просто способом вернуть себе частички неизвестной ей Клары, тем более, что подвернулся походящий момент узнать получше свою сестру и ее тайные делишки. По сути, мы сродни грифам прошлого, приученным рыться в падали, оставленной нам собственными ошибками и недостатками. Как птицы, срыгивающие сожранных ими червяков или насекомых, чтобы накормить птенцов, мы тоже исторгаем из своего нутра все полупереваренное, словно, съев остатки еще несколько раз, мы сможем переварить и усвоить эту пищу, бесповоротно сделав ее частью нас самих.
Оглядевшись, Карина присела на диван.
- Клара говорила, что вы почти никуда не выходили, – словно обращаясь к самой себе, убежденно сказала она.
- Клара преувеличивала. У меня есть друзья, с которыми я ужинаю и хожу в кино, возможно, реже, чем другие, но я не затворник.
Карина улыбнулась, опустив глаза, словно ее позабавило воспоминание, которым она ни с кем не хотела делиться. Интересно, как быстро мой обман лишит ее сна? Само собой, есть тысячи мелочей, разнящихся с рассказами Клары о Самуэле и ее жизни с ним. Я не любитель разного рода поездок и гулянок, это верно, но и не отшельник, каким, похоже являлся тот самый, другой Самуэль. Я не замыкаюсь в самом себе и не сижу в четырех стенах своей квартиры. Постепенно Карина вспомнит какие-то мелочи, которым до сего момента не придавала значения, но которые, наверняка, пойдут вразрез с ее представлениями о стоящем напротив нее человеке.
- Ты знаешь, что я никогда тебя не видела?
- Догадываюсь.
- Я имею в виду, даже на фото... Клара не хотела.
- Почему?
- Она говорила, что ты был только ее, по крайней мере, в отведенные ей выходные, и показывать тебя кому-то означало делить тебя с другими, отдавать другим частичку тебя, а ей и без того доставалось слишком мало, чтобы так расщедриться... Глупышка.
- И что?
- Да ничего.
- В смысле, я совсем не такой, каким ты меня представляла, да?
- Ты более ершистый, суровый и более непреклонный.
- Подумать только!
- Я считала тебя скользким как угорь, вероятно, потому, что мне никогда не нравилось, как ты обращался с Кларой. Она всегда была для тебя на втором месте. Ты не решался на серьезные отношения и встречался с ней только тогда, когда тебе удобно, потому я и посоветовала сестре бросить тебя. Ну вот, теперь ты это знаешь. И, тем не менее, пригласил меня прийти.- По-моему, теперь это неважно.
- Я думала, что ты неопрятный, пониже ростом и не такой мускулистый.
- У тебя было не слишком хорошее мнение обо мне.
- Скорее, очень плохое, и, откровенно говоря, оно ничуть не изменилось. Да и что теперь ты сделаешь, чтобы изменить его, кроме того, что ты уже не сможешь причинить ей боль?
- Клянусь, я никогда не хотел причинять Кларе боль.
- Ладно, проехали. В любом случае, я пришла сюда не для того, чтобы упрекать тебя.
Если Карина пришла не для упреков, тогда для чего она явилась сюда? Я вообще не понимал, зачем она дала мне свою визитку, зачем свернула на дорожку к крематорию, чтобы дать мне носовой платок. Я терзался вопросом, не была ли она в долгу перед Кларой, и не был ли должником я сам? Может, я еще не расплатился за что-то, и потому Карина находится здесь, выдавая непреклонность всем своим видом, костюмом и осанкой. А ведь она, действительно, непреклонна! Хмурит брови, словно не желая расслабляться, никому не доверяет, словно знает, что в любую минуту ей придется защищаться или нападать.
- Ты ни о чем меня не спросишь?
- Не хочешь заморить червячка? Может, съешь что-нибудь?
- Я не о том тебя спрашивала.
- Тогда, о чем я не должен спрашивать тебя?
- О том, почему я пришла.
- Я очень рад, что ты здесь, и мне все равно, почему и зачем ты пришла.
- Не будь таким слащавым.
Впервые за время нашего недолгого знакомства Карина мне нравилась. Не помню, чтобы я вообще слышал от кого-либо это слово. Читать – читал, но не слышал. Кроме того, мне пришлось по душе, что она терпеть не могла слащавый тон соблазнителя, которым я говорил помимо воли, и прямо заявила об этом.
Несмотря на ее отказ, я достал тарелки с сыром и ветчиной, и пару следующих часов мы душевно болтали, словно были знакомы тысячу лет, но не имели случая встретиться. Я отмалчивался, если не понимал, о чем спрашивала меня Карина, или же давал уклончивые, нечего не значащие ответы, типа: “а что там по телевизору?” или “да ладно, ты же знаешь, что это всего лишь работа”, при этом с тревогой следя, не выдаст ли она жестом свое удивление или недоверие. Я предпочел сказать, что мы разошлись с женой вполне цивилизованно, не таскаясь по судам, и не разыгрывал обычный в таких случаях тягомотный спектакль, в котором два взрослых человека старались заставить другого заплатить за каждую ошибку, за потерянное время, за каждую рану и каждое разочарование: стиральная машина – за то, что ты при всех обозвал меня нудной; дети – за то, что ты досадливо пялился на мой живот; дом, машина, телевизор – за то, что заставил поверить, что я всегда и во всем могу положиться на тебя. Ничего этого не было: моя жена, которую я окрестил Нурией (Карина даже не шелохнулась, услышав это имя), ушла без упреков, без шума и криков. Она не мстила мне, просто заметила вскользь, что мы уже не были счастливы вместе, и нам совершенно ни к чему малодушно и трусливо терпеть пожизненное заключение, довольствуясь малыми радостями и покорно с этим смирившись. Думаю, мой рассказ растрогал Карину, и, возможно, я даже чуть поднялся в ее глазах, поскольку не говорил пренебрежительно о своей жене и, более того, даже намекал на некую привязанность, объединявшую нас с Нурией.
- Она ушла, просто забрала все свои вещи и ушла.
- У нее был другой?
- Не думаю, но, возможно, скоро кто-нибудь появится. Нурия не любит жить одна, впрочем, это зависит от того, с кем она живет.
- И ты не боролся?
- Ты имеешь в виду, чтобы удержать ее? Нет, Нурия была права. Думаю, у нас не было настоящего повода, чтобы жить вместе и дальше, разве что боязнь одиночества на старости лет, но до этого еще далеко.
Теперь Карина полностью ушла в себя, и задумчиво пила по глоточку принесенное с собой вино, скорее всего, готовясь задать мне вопрос, который я не мог предугадать, и которого ужасно боялся, поскольку не слишком хорошо знал свою роль.
- Если бы Клара не погибла в том несчастном случае, ты стал бы жить с ней после развода?
- Не сразу. Мне пришлось бы какое-то время побыть одному. Я не смог бы так запросто перемахнуть из одной кровати в другую.
- Но ты с завидной легкостью скакал по кроватям, когда она была твоей любовницей.
- Это было непросто.
- Для тебя или для нее?
- Я делал все, чтобы они не столкнулись. К примеру, я не звонил Кларе, если жена выходила из дому за покупками, а только тогда, когда знал, что она ушла надолго. А жене посылал по электронке сообщения только в том случае, когда, проводил выходные с Кларой, не мог вернуться домой вечером в воскресенье, и в понедельник с утра ехал прямиком на работу. Я всегда старался спустить это дело на тормозах и не накалять страсти, дабы не замарать наши отношения присутствием другой женщины, именно поэтому в квартире нет никаких клариных вещей.
Карина не прерывала меня. Она казалась взволнованной и потрясенной, и мне подумалось, что мой рассказ немного уменьшил ее список негативных представлений обо мне.
- Твоя жена знала о Кларе, подозревала что-то?
- Слушай, мне хотелось бы, чтобы ты поговорила со мной о сестре, рассказала бы, какой она была, так, словно я ничего о ней не знаю.
- Ты мне не ответил.
- Мне не хочется отвечать на твой вопрос.
Карина достала из сумочки две шпильки. Одну она сжала губами, а другой скрепила прядь волос, упавшую на глаза.
- Ладно, – уступила она, все еще держа вторую шпильку во рту, – но только баш на баш.
- Само собой.
- Потом ты тоже расскажешь мне, какой была моя сестра. По рукам?
Это было приятное головокружение, когда ты чувствуешь, что вот-вот упадешь, но угроза падения порождает в тебе не страх, а желанное предвкушение того, что от окатившего тебя с головы до ног адреналина, волосы встанут дыбом, и именно в этот самый миг стремительного падения перед тем, как разбиться о дно, ты начинаешь жить.Окончательно скрепив волосы второй шпилькой, Карина уселась поудобней. Ее взгляд скользнул вверх по лестнице, ведущей на террасу, и она переменила позу.
- Лады, – согласился я, – потом я расскажу тебе, какой была твоя сестра.
Клара со слов Карины.
- Не знаю точно, говорила тебе Клара о себе или нет, но думаю, что-нибудь все-таки сказала. А теперь буду рассказывать я, с другой точки зрения, как старшая сестра, которая считала себя ответственной за нее, в какой-то степени заменяя ей родителей и смотря на все их глазами. Я талдычила, что не люблю кока-колу, потому что именно этого от меня и ждали, уверяла, что мне не нравятся мотоциклы, потому что велосипеды полезнее для здоровья и не загрязняют окружающую среду. Я поучала Клару, что лучше не начинать курить, потому что иначе станешь рабом табака на всю жизнь, хотя, как видишь, в двадцать пять я все-таки закурила. Впрочем, я ведь хотела поговорить с тобой не о себе, а о младшей сестренке, которая вдруг начала пропадать из дома, совершать опасные поступки, из-за которых родители лишались сна, а я принималась строго отчитывать ее:
- Какая же ты дура! – кричала я. – Неужели ты не понимаешь, что заставляешь родителей страдать? Поступая так, ты думаешь, что стала взрослой, а на деле ты хуже ребенка.
И вот тебе в общих чертах результат: я с родителями по одну сторону баррикады, а она окопалась по другую.
- Да что ты понимаешь? – огрызалась Клара с юношеским пренебрежением. – Это моя жизнь, ясно? Моя, а не твоя! Если я обожгусь, тебе-то какое дело? Ведь палец мой!
Тогда я не понимала, что сестра не была саморазрушительницей, возможно, она просто переоценивала свои силы, потому что была большой оптимисткой. Клара думала, что может пройти через помойку, не загрязнившись, что как лучик света, может коснуться любой вещи, находиться в любом месте, не являясь по-настоящему частью своего окружения. Она бесплотным духом входила во все дома, садилась за стол вместе с остальными, слушала их трагедии и ссоры, живя легко, как невесомый призрак... Она рассказывала тебе, как вместе с подругой ездила в Петербург автостопом? Как однажды ее задержали за сопротивление властям в доме, захваченном людьми, которых собиралась выселять полиция? Тогда ей не было и пятнадцати. Она была в том возрасте, когда набрасываются на подразделения полиции особого назначения, вырывая у них из рук щиты и срывая с касок защитные щитки. Как видишь, та нежная и мягкая девушка, которую ты знал, в столь юном возрасте могла драться с мужиками почти что вдвое тяжелее ее, привыкшими применять силу. Она чувствовала себя неуязвимой.
Отец хотел запереть ее дома, но разве можно запретить пятнадцатилетней девчонке выходить на улицу? Ему не оставалось ничего другого, кроме как разрешить сестре ходить в школу, в поликлинику, на занятия по английскому и в класс игры на гитаре, но он отобрал у нее ключи, вынуждая приходить домой до того, как все уснут. Тогда Клара перестала ночевать дома. Я знала, где она была, поскольку кто-то из наших общих друзей сообщил, что ее видели на площади Второго Мая. Она сидела на одеяле с тремя или четырьмя собаками и каким-то панком, который, вероятно, сидел там еще с восьмидесятых. Школьная подружка показала мне дом в квартале Лавапьес, где, по ее мнению, и ночевала Клара – маленькое, побеленное двухэтажное зданьице на углу узенького переулка, с черепичной крышей, деревянными ставнями и железными, покрашенными черной краской решетками. На вид домик был скорее деревенский, нежели городской, с пожелтевшей, во многих местах облупившейся известкой. От него веяло заброшенностью и разрухой. Я и врагу не пожелала бы жить в подобном месте. В нижней части и вокруг балконов дом был грубо размалеван неумелыми граффити со следами насилия, вызывавшими во мне чувство ярости и злости, равно, как и музыка, которую любила Клара, и слушая которую я могла представить лишь рычащего и брызжущего слюной на публику в первых рядах певца, выплескивавшего свою ненависть. Клара никогда не предлагала мне поговорить по душам, не желала делиться своими чувствами, вызванными этими песнями, мне же на ум приходила лишь мысль о распущенности и моральном разложении, о болезненных ранах и об объятиях ужаса и мрака. Эти песни можно петь, только гримасничая и кривляясь. Даже песни о любви, которые слушала Клара, были окрашены отчаянием и безысходностью, это был настойчивый призыв к несчастью... Сейчас ты скажешь, что я слишком консервативна в своих пристрастиях, что мне не хватает смелости или хотя бы чуточку непокорности, чтобы казаться оригинальной, и, пожалуй, будешь прав. Я и сама корю себя за это, и должна признаться, что в то время мне невольно хотелось в чем-то быть похожей на сестру.
Мама уже хотела позвонить в полицию и заявить об исчезновении своей несовершеннолетней дочери, но я уговорила ее немного подождать, пока неудобства уличной жизни не вернут сестру домой. Я убедила маму, что будет лучше, если Клара, пропустив несколько учебных недель, сама поймет, что такая жизнь не для нее, нежели ее вернут силой, вызвав настоящий бунт, которого все-таки хотелось избежать. В конце концов, Клара всегда была здравомыслящей, и этот ее период колебаний и неуверенности непременно прошел бы. Пошатавшись по улицам, она осознала бы все “прелести” своей независимости и вернулась бы домой, к прежней жизни обычной девчонки среднего класса, снова став милой, покладистой, прилежной и молчаливой, потому что, несмотря на время, проведенное с оборванцами, Клара любила каждый день принимать душ, мыть голову, менять одежду и спать на чистых простынях. Я на сто процентов была уверена в том, что она ни с кем из них не переспала и не подцепила ни СПИД, ни сифилис, ни герпес. Я не могла представить ее валяющейся в кровати в обнимку с вонючим парнем с засаленной патлатой головой. Именно тогда мне в голову и пришла эта мысль, что Клара идет по жизни, как лучик света, вернее, как тень, потому что в то время она всегда была одета в черное и красила волосы в тот же цвет. Ее шевелюра была похожа на воронье крыло, но это была лишь уловка. Я вовсе не хочу сказать, что Клара обманывала кого-либо, разве что саму себя, да и то неосознанно. Она носила собачий ошейник, купленный в зоомагазине, и выбрила волосы на висках, но при желании могла прикрыть их оставшимися волосами. Сестра носила цепи, ботинки “Док Мартенс”, огромные стальные или латунные серьги-кольца, бросающиеся в глаза. Понимаешь, она постоянно меняла свой имидж, ни на чем не останавливаясь. Вызывающе-сумасбродные побрякушки, немыслимые стрижки и цвет волос, ужасающе мрачная одежда – все это было, но не было ни пирсинга, ни булавок, которые ее друзья втыкали себе в губы, носы, брови, соски, клиторы, мошонки. На руках, а иногда и на лице были татуировки, но не наколотые несмываемой краской, а хинные. Я не раз видела ее голой в ванной комнате, и то, что она спокойно раздевалась при мне, уже говорило, что ей нечего скрывать. Возможно, Клара и пробовала какой-нибудь наркотик (я тоже пробовала экстази, марихуану, и пару раз кокаин), но она никогда не вела себя, как наркоманка, ожидающая дозу, и если что-то вдруг изменилось, то это из-за меня.
Тем временем вечерело. Мы с Кариной сидели в сумерках внизу, в гостиной. Я устроился на маленьком кожаном диванчике оранжевого цвета, купленном в ИКЕА, хотя во виду и не скажешь, пока не встретишь точно такой же, но бордовый, черный или коричневый у пары-тройки друзей. Карина примостилась на подушке, на полу. Время от времени она стискивала и теребила один из уголков подушки, или принималась ее взбивать, словно стелила постель для куклы. Сейчас, вспоминая и записывая на бумаге наш разговор, я передаю его своими словами, в присущей мне манере, поскольку человеку свойственно смотреть на все своими глазами, по-своему осмысливать происходящее, считая при этом, что он испытывает то же, что и все, хотя на деле это не так, поскольку все мы разные, непохожие друг на друга. Карина говорила более отрывисто, скупыми, короткими фразами, почти не сомневаясь в своих словах. Иногда ее тон становился таким саркастическим и чуждым мне, что я просто не в состоянии его передать. Она говорила решительно, безапелляционно, часто повторялась, будто предвидя, что ей возразят, и тогда ее слова становились резкими. Постепенно голос Карины звучал все глуше. Я бы сказал, что по мере того, как в комнате угасал свет, затихал и голос, словно приспосабливаясь к полумраку, и я боялся, что когда станет совсем темно, Карина замолчит. Мы, как будто, стали ближе друг другу, и мне захотелось бросить вторую подушку на пол, сесть рядом с Кариной, положить голову ей на колени и продолжать слушать рассказ о сестре.
- Время шло, но вопреки тому, что я сказала маме, чтобы успокоить ее, Клара не возвращалась. Прошло, пожалуй, несколько недель, и я встревожилась не на шутку. О сестре я узнавала по большей части от наших общих знакомых. Изредка, увидев Клару, я подходила к ней. Обычно она сидела на грязном одеяле или выпрашивала деньги у прохожих. При этом Клара не стояла с протянутой рукой, как нищие с карикатур, а приветливо улыбалась, словно это было панковской шутливой игрой, и она просила деньги просто для прикола. Впрочем, своей приветливостью сестренка редко добивалась того, чтобы люди остановились и дали ей монетку или сигарету. Наоборот, все торопливо пробегали мимо, словно было в этой девушке что-то пугающее, словно этот темный ангел, почти ребенок, вынуждал их видеть то, о чем они и знать не хотели.
Особенно мне нравилось исподтишка смотреть, как она резвилась, играя с собаками, как носилась с ними по площади, подзывала их к себе, как прыгала и кувыркалась, и тогда я снова видела прежнюю Клару, которую знала. В такие минуты покрывавшая ее короста черствости и бессердечия лопалась, чтобы явить свету веселую, жизнерадостную, ребячливую мечтательницу-сестренку, которую мне хотелось защитить. А потом она снова садилась, закуривала сигарету, надевала наушники и скрывалась в том мрачном мире, который возводила, чтобы жить в нем.
Когда я убедилась в том, что Клара и не собиралась возвращаться домой по собственной воле, я отправилась на площадь, но не следить, а поговорить с ней. По правде говоря, я не решилась пойти в дом, занятый, как мне подсказывала интуиция, всяким сбродом – мелкими торговцами наркотой, бродягами и язвительными голодранцами. Я предпочитала искать ее на улице, на той самой площади, где она обычно сидела с пятидесятилетним панком. Клара просила деньги, когда я подошла к ней. Она протянула ко мне руку ладонью вверх, словно желая показать мне этим жестом, что нас не связывали никакие узы, что я была для нее всего лишь прохожей, одной из многих. А может быть, ей просто стало неловко, и она выходила из своей роли, преувеличенно-фальшиво шутя. Я схватила сестру за руку, которая была ее защитой и границей, обняла и поцеловала Клару.
- Пойдем, я угощу тебя пивом, – сказала я сестре.
- Лучше бы дала сто песет, – не очень уверенно возразила она, но направилась за мной на веранду бара, сделав знак своему приятелю и показывая, куда мы пошли. Тот не отозвался.
Я понимала, что Клара будет обороняться, и нам предстоит нелегкий разговор с взаимными упреками. Я чувствовала себя послом от семейного союза, который рассчитывал умаслить Клару, заговорить ей зубы, чтобы она вернулась в нашу тепленькую жизнь, в то время как она предпочитала запредельную стужу или столь же невыносимую жару. И несмотря на это, меня грызли сомнения: действительно ли наше тепло лучше непогоды. Мы пили пиво, разговаривая на темы, далекие от цели моего визита на площадь, заполоненную наркоманами, нищими и матерями с детьми. Я рассказывала о своей учебе, не упоминая об атмосфере, царящей в нашем доме, о постоянных вздохах и упреках, об отце, рассеянно бродящем по квартире. Клара слушала меня без особого внимания, изредка вставляя скупые замечания и сосредоточенно разглядывая выход на площадь. Потом пришла пора принимать решение, от которого зависело ее будущее, и которое могло сделать ее такой, какой она, наверняка, быть не хотела. Как-то раз я сказала Кларе: “Знаешь, в жизни есть вещи, – я не стала уточнять, какие именно, – пройдя через которые, ты не сможешь снова стать такой, какой была. Обратной дороги не будет.” Клара вежливо промолчала, наверняка подумав про себя: “А ты-то откуда знаешь?” И еще подумала о том, что тот, кто никогда не осмеливался на что-то опасное, не вправе давать советы, поскольку не может понять того, кто рискует собой.
Меня бесило, что мне приходилось убеждать младшую сестру в том, что она совершает глупость, не имея в руках веских аргументов. Особенно злило то, что я чувствовала себя старухой, читающей нотации о выгоде и благоразумии, рассуждающей о будущем, об ответственности, о переживаниях родителей, а ведь мне был всего двадцать один год! И я принялась искать, с какого боку побольнее ударить ее.
Клара сохраняла маску равнодушной любезности, хотя в какой-то момент мне показалось, что ее по-настоящему заинтересовали мои доводы. Не то, чтобы она совсем меня не слушала, скорее, слушала вполуха, как в тысячный раз выслушивают сетования матери по поводу скучных и неблагодарных домашних дел и ее сожаления о том, что она бросила работу. Мы понимаем ее расстройство, но оно старо как мир, и мы молчим. Когда все мои доводы были исчерпаны, и не осталось слов, Клара взяла меня за руку и ласково погладила, словно ребенка.- А что ты, – мягко спросила она, – так и будешь паинькой? Будешь вовремя приходить по вечерам, отучишься, найдешь работу, выйдешь замуж, и родишь двоих детей? Ты всегда будешь отмечать дома рождество, дни рождения, крестины? Ты станешь крестить детей, чтобы не обиделась бабушка, так ведь?
Боже, сейчас я думаю, как все это забавно: я не закончила учебу, не вышла замуж, у меня нет детей и, в конце концов, я отдалилась от родителей и остальных родственников больше, чем она. Возможно, именно потому, что Клара вовремя устроила свою юношескую революцию, а я откладывала до тех пор, пока не стала взрослой. Но в ту минуту мне было не до смеха: сестра высказала вслух мои тогдашние страхи. Я и вправду боялась, что не смогу найти свой путь в жизни, что не смогу стать тем, кем хотела, хотя понятия не имела, кем хотела быть. Я завидовала Кларе, ее решимости, с которой она сама творила свою судьбу, в то время как я ограничивалась написанным не мной сценарием.
- А ты, – спросила я ее, – так и будешь продолжать играть в игрушки? – Клара непонимающе махнула рукой, приветствуя приятеля, чем переполошила его собак, привязанных к велосипедной стойке. Собаки настороженно приподнялись, навострив уши, и начали скулить и вертеться на месте. – Не думай, что я тебя не раскусила, – выпалила я, выдернув свою ладонь из ее руки. – Все твои вызывающе-взбалмошные прически, мрачные, похоронные цвета, куча собачьих ошейников и уйма колец – все это игра, и нет ничего необратимого. Ты играешь в плохую девчонку, но в девчонку своего круга. Поиграешь несколько недель, пока тебе не надоест, и бросишь, потому что ты не такая, и твое место не здесь.
- Какого черта, о чем ты?
- О твоих друзьях, вот для них это серьезно. Они колются себе во вред, отказываются от комфорта, режут и губят себя, а от тебя пахнет персиковым мылом и кремом для рук, и я не вижу ни следов от уколов, ни шрамов.
Я не понимала, что Кларе, несмотря ни на что, было очень важно мое мнение, что для нее я все еще оставалась старшей сестрой. Тогда я не понимала, что ставлю ее в неловкое положение тем, что раскрыла ее обман и не верю в осознанность ее поступков. Клара ничего не ответила.
Она молчала, а я не понимала, что означает ее молчание. После этих слов мне и самой было так неловко, будто я со злости спрятала книжку, которую она взяла, или разбила ее любимый диск. Я ушла с чувством выполненного долга, в то же время испытывая горечь поражения. Для сестры я сделала все, что могла, но я покривила бы душой, если бы утаила от тебя, как мне было плохо. Я чувствовала себя обманщицей, будто пришла к сестре скорее для того, чтобы испортить ей праздник, нежели помочь. Так поступают не имеющие большого успеха у ребят девчонки: прознав, что их подружка встречается с парнем, они начинают с жаром указывать ей на каждый его недостаток, приписывая ему все мыслимые и немыслимые скверные намерения.
Сейчас я говорю тебе об этом, а тогда я ничего не понимала. На душе было тревожно, и я винила в этом сестру, которая заставляла меня играть столь незавидную и неблагодарную роль. Не знаю, что было бы с ней дальше, если бы примерно через неделю, Клара не пришла домой. Позже она сказала, якобы думала, что в это время я находилась в университете, а родители – на работе. В жизни Клары не было ни обязательств, ни сроков, ни расписаний, и она не знала, что тот день был не рабочим. Клара вошла в дом, никого не встретив. Мама с отцом куда-то вышли, не помню, куда, а я сидела в своей комнате. Я слышала стук входной двери, но подумала, что это вернулись родители. Через какое-то время я услышала, как в ванной сестра мурлыкала одну из своих несчастных песен. Можно было подумать, что это пел сам дьявол или, по меньшей мере, исстрадавшаяся мученица-душа. Не постучавшись в дверь, я вошла в ванную и увидела, как сестра голышом вылезала из душа. Клара испуганно схватила полотенце и, не заворачиваясь, поспешно прикрылась им спереди, словно перед ней вместо меня находился незнакомый мужчина. Я быстро догадалась обо всем, и не спрашивай, как. Вероятно, потому, что мне было непривычно ее целомудрие. Зачем прикрываться полотенцем, если мы тысячу раз видели друг друга голыми, и не только в детстве? Незадолго до того, как Клара ушла к своей уличной жизни, мы запросто вместе делали эпиляцию и помогали друг другу намазывать кремом труднодоступные места. Нам нравилось, что мы близки. Я выхватила полотенце у нее из рук, а она постаралась побыстрее спрятать руку за спину. Этот непроизвольный жест и подсказал мне, что следует искать. Клара объяснила, что неважно себя чувствовала и ходила к врачу сдавать анализ крови.
- Ты сошла с ума? Ты и вправду сошла с ума? – совсем растерявшись, я вышла из ванной. Голова была пуста: я не знала, что говорить, и что делать. Это было чудовищно: моя маленькая сестренка начала колоть героин. Весь гнев и ярость последних недель превратился в страх: игрушки, о которых я ей говорила, закончились, все было всерьез. Господи, а что если она колется для того, чтобы испугать меня, доказать, что это не просто подростковая рисовка? Клара заперлась в ванной, а через несколько минут вышла оттуда, облачившись в свой мрачный наряд – футболку с какой-то надписью красно-черными заостренными буквами, туманно наводящими на мысль о нацизме, и отвратительным черепом, из глазниц или рта которого, уже не помню, вылезали черви. От запястья до локтя руки Клары были закрыты какими-то черными наручами. И тут в квартиру вошли родители. Они растерянно остановились в прихожей. Отец робко заулыбался, не веря своим глазам, словно получил приятный, неожиданный подарок, а мама вся как-то сжалась, ожидая нового разочарования или плохих новостей.
- Она колется! – сказала я. – Клара начала колоть героин.
Сестра ничего не отрицала, и быстро ушла в свою спальню, а ровно через секунду вышла оттуда с маленьким рюкзачком, по-моему, загодя набитым одеждой, которую она хотела взять с собой. Собиралась ли Клара сказать что-нибудь родителям, или решила не обращать на них внимания, я не знаю. Мой отец всегда был мягким человеком, и мы с сестрой втайне осуждали его, что он не осмеливался маме слова поперек сказать, и никогда не защищал нас от нее. Он не решался даже выступать посредником в наших с Кларой ссорах. И вот сейчас отец протянул вперед руку с открытой ладонью, как будто хотел захлопнуть дверь.- Клара, – проговорил он.
- Все это фигня, папа, – ответила сестра.
Мама уже пришла в себя и грозно поворачивалась к сестре, как обычно собираясь подчинить нас своей воле криком, подзатыльником или просто почерпнутым из Библии суровым, карающим жестом древнего пророка, сулящего вселенские бедствия, но вместо этого сокрушенно воздела руки к небесам, словно смирившись с потерей дочери. Из груди отца вырвался какой-то странный, хриплый рык, и он ударил сестру по лицу, к счастью не по губам и носу, а чуть ниже, в скулу. Клара упала. Я не видела сам удар – я стояла к сестре спиной и не могла видеть его – но отлично помню отца с вытянутой рукой и со сжатым кулаком. Чтобы не потерять равновесие и не упасть отцу пришлось сделать пару шагов назад. Через некоторое время Клара села на пол в позе лотоса, поджав под себя ноги, и поднесла руки к лицу.
- Ты не выйдешь отсюда, – сказал отец, обессиленно повалившись в кресло напротив телевизора. Мы с мамой застыли, как статуи, и не двигались с места. Возможно, мы просто растерялись от странного совпадения яростной вспышки отца и молчаливой покорности сестры, которая подобрала рюкзачок, валявшийся рядом с диваном, и пошла к себе.
Я знаю, что Клара еще несколько раз встречалась со своими дружками, незаконными захватчиками домов – панками или кем там они были – но одеваться она начала по-другому. Она забросила в угол собачьи ошейники и кольца, и перестала красить волосы в черный цвет. Больше она не кололась. Позже она рассказала, что “ширнулась” только один раз и то неудачно, потому что приятель, который ей помог, был ненамного опытней ее, и к тому же, сильно волновался. Ему пришлось уколоть ее несколько раз, и поэтому вокруг вены образовался большущий синяк. Я знаю также, что отец долго сожалел, что ударил Клару, и много раз извинялся перед ней за тот, оказавшийся спасительным, удар. Неожиданно я стала думать, что Клара пришла домой сознательно, чтобы ей помешали снова уйти. Возможно, я вовсе не случайно увидела ее руку, возможно, она догадывалась, что встретит нас дома, и хотела, чтобы ее удержали силой. Клара не хотела и дальше продолжать это глупое падение в ад, которое она разыграла передо мной, лишь бы доказать, что ее жизнь не была игрой.
Теперь мы с сестрой были уже не так дружны, как прежде. Клара и в самом деле повзрослела, и я не знала, как подобрать к ней ключи. К тому же, чуть погодя, моя жизнь полностью изменилась. Я бросила университет, ушла из дома и начала работать в офисе одной косметической фабрики.
Мы с Кларой по-прежнему неплохо ладили друг с другом, несколько раз даже пробовали вернуть былую детскую нежность, ту родственную доверительность и близость, когда кажется, что ее тело почти что мое, но, тем не менее, ты понимаешь, что это тело сестры. Это состояние сродни игре с куклой: она, вроде бы, отличается от тебя, а с другой стороны, у куклы твой голос, твои страхи и желания. Теперь мы не ложились рядышком на кровать, чтобы о чем-то пошептаться.
Иногда мы пытались доверительно поболтать друг с другом, но это притворство не красило ни ее, ни меня. Мы уже не примеряли вместе одежду матери, не смотрелись в зеркало, никто из нас не мог с гордостью сказать: “это моя сестра”, а если и говорил, то это была простая констатация юридического факта, годная для книги о семье, а прежнее единство было потеряно, и больше не было барьера, стоящего на пути между нами и одиночеством взрослой жизни.
Вокруг нас была почти непроглядная темень. Окна гостиной, хоть и выходили в маленький дворик, но огоньков других окон и слабеющего света, льющегося с маленького, вырезанного крышами окрестных домов, прямоугольничка небес, едва хватало для того, чтобы смутно различить очертания Карины и движение ее руки, подносящей стакан к губам. Я бросил подушку на пол и сел рядом с ней. Что-то подсказывало мне, что Карину нужно утешить то ли из-за смерти сестры, то ли из-за последних, выразительных слов, хотя голос ее не дрожал, и ничто не говорило о том, что она может заплакать. Ее слова пробрали меня до печенок, и я подсознательно понял, сколь печальна была жизнь Карины – дни и ночи женщины, не нашедшей своего счастья и подозревающей, что так и не найдет. Теперь мне была понятна ее суровость, покрытая броней строгой одежды, так беспокоившая меня вначале. Меня стали умилять ее решительные шаги, порывистость движений, готовность дать отпор. Все это было не свидетельством ее высокомерия или непреклонности, а, скорее, неумелым жестом человека, желающего защититься, но не знающего, как. Я погладил ее по голове. Карина повернулась ко мне и невольно улыбнулась в темноте. Я ждал.
Просто ждал.
- Никогда бы не подумала, что сделаю это, – сказала Карина.
Наши губы и зубы слегка соприкоснулись, и ее язык проник в мой рот, наполняя его. Тело Карины было нестерпимо настоящим, словно ее дух только что материализовался, обретя плоть и кровь, и перед моими глазами сбрасывало одежду потрясающее, осязаемое существо. Мне захотелось оказаться с Кариной в постели, наедине с ее телом, забыв про желание, потому что я сам и был желанием.
- Никогда, – повторила Карина и встала. Она потянула меня за руку вверх, чтобы я тоже поднялся с пола, и потащила к спальне, хотя я и не говорил ей, что дверь ведет в спальню. Она тащила меня за руку, как взрослый ребенка, чтобы уложить его спать, но вдруг остановилась. – Дай мне минутку, – попросила она и вошла в ванную. Я раздевался, слушая шорохи за дверью ванной и представляя, что делает там Карина. Послышался звук поворачивающегося крана, шипение вибрирующих труб и журчание льющейся в раковину воды. Глухо стукнула о бачок крышка унитаза, чуть слышно жикнула брючная молния и мягко ударились о кафельную плитку сброшенные туфли. Теперь я представлял Карину в нижнем белье. Интересно, какое оно у нее – белое, черное, с кружевами или без? Наверняка дорогое, выбранное к подходящему случаю. Впрочем, вряд ли, она сама сказала, что никогда в жизни не думала, что осмелится на такое, так что, скорее всего, белье будет повседневным. С другой стороны, несмотря на это “никогда”, она вполне могла выбрать дорогое белье просто для того, чтобы выглядеть красивой в своих глазах, даже если рядом не будет другого человека, который мог бы подтвердить это. Под журчание льющейся в ванной воды я подумал, не включить ли мне музыку, чтобы Карина не смущалась, поняв, что я все слышал. Она оторвала туалетную бумагу, и рулончик закрутился в металлическом держателе. Раздевшись, я уселся на край кровати, стесняясь собственного тела и испытывая неловкость. Мы встретились впервые, и мне непривычно предстать перед Кариной голышом. Я стеснялся своего возбуждения и своего далеко несовершенного тела. Неловко было показывать себя таким, каков я есть, когда не пью бурбон, не составляю сметы, не пытаюсь произвести впечатление. Сейчас я – просто животное, с ребрами, брюхом, руками и ногами, и членом, требующим к себе внимания. Я ждал, чтобы открылась дверь или раздался какой-нибудь звук, который подскажет мне, что делает Карина, но было тихо. Я представил, что она все еще сидит на унитазе, вот только – зачем? Чего она ждет? Раскаялась и сожалеет? Думает, что не может спать с бывшим любовником Клары, помня о ней? Считает предательством красть любовника у покойной сестры? Я ждал, и с каждой минутой мне становилось все тревожнее. Возбуждение прошло, я замерз и решил лечь в кровать, но не лег. Ох уж эти мне решения! Я по-прежнему сидел голышом на краю кровати, все больше понимая нелепость ситуации, но уповая на то, что вот-вот увижу обнаженную Карину, выходящую из ванной, что она подойдет ко мне, нежно потрется о меня, и я, наконец-то, почувствую ее кожу. Эти мысли служили мне оправданием, но Карина не выходила. Я понятия не имел, как долго ждал ее. Не слишком ли бестактно будет постучаться в дверь? Черт его знает! Может, у нее месячные, она не может найти тампоны и пытается уладить проблему туалетной бумагой? Но я уже давно не слышу позвякивания крутящегося держателя, да и шелеста отрываемой бумаги, не слышно.- Карина! – позвал я и приложил ухо к двери, пытаясь расслышать, что же происходит за дверью. Но там то ли тишина, то ли дыхание – не разобрать. – Карина, – я постучал костяшками пальцев в дверь, но она не ответила.
Я осторожно приоткрыл дверь. Карина сидела на унитазе в наполовину расстегнутой блузке, с голыми ногами и трусами, спущенными до щиколоток. Эта картина не возбудила меня и не казалась постыдной, напротив, она показалась мне трогательной.
- Выйди, – твердо, но спокойно приказала она, ничуть не испугавшись того, что я застал ее в таком виде, что, в общем-то, естественно для близких людей. И не в том крылась причина ее желания выставить меня из ванной. – Выйди отсюда, – повторила Карина.
- В чем дело, что с тобой? – спросил я, закрывая дверь.
Карина вышла из ванной полностью одетой.
- Зачем ты мне соврал? Зачем? – она кивнула в сторону ванной.
- Я тебя не понимаю. Зачем мне врать? – я тоже натянул трусы и футболку, хлипкую защиту от замешательства.
- Вот я и спрашиваю, зачем? Тебе казалось, что ты станешь хуже, если я буду плохо думать о тебе? Хотел быть порядочным, наставляя жене рога?
Я по-прежнему не понимал, о чем говорила Карина, указывая рукой в сторону ванной. Я посмотрел туда, стараясь отыскать ключ к разгадке ее гнева, но там не было ничего нового. Я тысячу раз видел шампунь, жидкое мыло, кусок обычного мыла, крем для тела, прозрачную пластиковую ширму, стоящую в глубине. Что здесь не так?
- Ну, зачем, зачем ты мне соврал? Объяснишь ты или нет? – Карина рассерженно схватила свою сумочку, которую до этого зашвырнула черт-те куда, подобрала туфли, одна из которых валялась под ванной, а другая за унитазом, и выбежала вон, тихо прикрыв за собой дверь квартиры, чего я и вовсе не ожидал.
Я снова надел штаны, вошел в ванную, сел на унитаз, как сидела Карина, и стал внимательно разглядывать все вокруг в надежде увидеть то, что увидела она, и понять причину ее злости.
Рейтинг: 0
376 просмотров
Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!

