Сотворение любви - Глава 5
20 октября 2018 -
Вера Голубкова

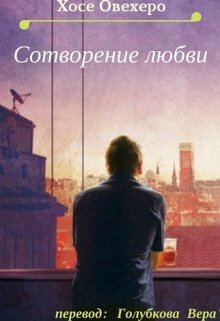
Вероятно, я еще не дожил до этого возраста или же не смирился, а потому стараюсь сражаться с искушением не принимать душ, не бриться и не менять трусы, если никуда не иду, с желанием оставить грязные тарелки на столе и долго никому не звонить. У меня мало друзей, пойти особо некуда, и меня это вполне устраивает, но тем не менее, я стараюсь не заточать себя в четырех стенах, не пялиться болезненно в телек и тому подобное, не замыкаться в себе, монотонно пережевывая мысли, и не затруднть себе существование навязанными с телеэкрана драмами.
Мое спасение – терраса. Когда я там ем, читаю или думаю о своем, у меня не возникает ощущения, что я убиваю время, наоборот, я наслаждаюсь. Если тебя больше не манят удовольствия, если нет помыслов сбежать от тоскливой скуки, если стало безразлично, что твоя жизнь стабильна и спокойна, и в ней не будет ни боли, ни страстей, ни восторга, значит, ты уже мертвец. Не боль, а страх самый большой враг счастья. Чтобы полнокровно жить, нужно быть готовым платить за достижения, и вот тут я – пас. Мне лень платить, и я готов довольствоваться малым, но зато бесплатным.
Недолго думая, я взял фото Клары со стола в гостиной и поднялся на террасу. Я привык носить ее с собой, быть рядом с ней, рассматривать ее снова и снова, подспудно желая, чтобы она проникла в меня еще глубже и постоянно жила в воспоминаниях о том, чего никогда не было. Закрывая глаза, я вижу лицо Клары гораздо отчетливее лиц моих бывших подружек. Те со временем как-то поблекли, вероятно, потому, что живые лица запомнить гораздо труднее нежели неподвижное с фотографии. Порой на меня накатывала ярость оттого, что я не смог познакомиться с Кларой лично, увидеть ее, услышать ее голос. Интересно, понравились бы мне ее суждения, мимика, жесты, говорившие о том, как ей жилось в этом мире. На переносице у Клары скопилось созвездие веснушек, а кажущийся недостаток пигментации с левой стороны подбородка мог быть обычным браком при проявке пленки. На фото у Клары был нежный, плавный изгиб подбородка и блеск во взгляде, вероятно, из-за отраженного от окна дневного света. Я уселся на террасе, попивая “бурбон”, и, похоже, уже опьянел, сидя под зонтиком, который защищал меня от солнца, скатившегося почти до самого горизонта и бившего мне прямо в глаза. Я вертел фотографию в руках, снова и снова разглядывая ее, а потом наклонился и поцеловал, словно она была образом невесты, которой не было рядом, возлюбленной, покинувшей меня, желанной женщиной, рядом с которой мне хотелось быть. Я отодвинул фотографию чуть дальше. “Привет, Клара,” – сказал я вслух, и по моим губам скользнула улыбка.
Два стрижа со свистом пронеслись через террасу прямо над моей головой. Один из них ударился о металлическую сетку, натянутую на боковое ограждение в пяти этажах от дворика. Поначалу меня напугала скорость, с которой летели стрижи, а потом жуткий удар крошечного тельца о проволоку. Оглушенная или испуганная пташка осталась сидеть на полу террасы подле цветочных горшков с кактусами и суккулентами. Я не двигался с места, чтобы не напугать стрижа. Постепенно стриж пришел в себя и сделал несколько попыток взлететь. Мне всегда казалось трагедией, что стрижиные крылья были очень длинными, и птицы не могли взлететь с земли. Несмотря на то, что меня впечатляло умение стрижей спать на лету, когда половина мозга активна, а другая отдыхает, я считал стрижиные крылья ошибкой природы, нелепой и грубой эволюционной промашкой, дающей место совершенно бесполезной гипертрофии. Впрочем, эти непропорционально большие крылья, вероятно, позволяли стрижам развивать высокую скорость и необычайно ловко маневрировать, хотя ласточки тоже выживали и с более короткими крыльями.
Я спустился в столовую, взял кухонное полотенце и, вернувшись на террасу, постарался накинуть его на стрижа, чтобы он не двигался. Когда-то в древности точно также набрасывали сеть на гладиатора. Я не рассчитал силу броска, и полотенце упало рядом с птахой. Стриж не двинулся с места, его клюв был широко открыт. Мне показалось, что он задыхается, если только птицы могут задыхаться. Я подошел чуть ближе, поднял полотенце и снова кинул в сторону стрижа. Я бы поймал его, если бы он не убежал и не спрятался среди цветочных горшков. Теперь мне придется сменить тактику ловли птиц и попытаться поймать стрижа рукой. Едва я приблизился к стрижу, как этот глупыш взмахнул крыльями и слепо побежал по узенькой щели между горшками и стеной, возможно, причиняя себе боль и сходя с ума от страха, передвигаясь в маленькой щелке в совершенно немыслимых позах. “Как же ты не поймешь, что я пытаюсь тебе помочь?” – вслух спросил я стрижа тем же тоном, каким успокаивал бы плачущего ребенка. Меня бросило в жар, и я взмок от пота. Я досадовал и немного злился на это глупое существо. С одной стороны, я волновался за стрижа, а с другой бесился оттого, что он мешал мне спасти его. После краткой передышки я продолжил погоню, попутно прикончив теплый и водянистый “бурбон” с растаявшим льдом. Мне приходилось идти, отодвигая от стены горшки и вазоны, чтобы я мог просунуть за них руку и не дать стрижу спрятаться в недоступном месте. Клюнет ли он меня, когда я его поймаю? Теперь его клюв был открыт еще больше, чем раньше, перья на крыльях встопорщены и влажны, как волосы лихорадочно вертящегося в постели человека. Стоило мне остановиться, чтобы передохнуть, как стриж замер, и его неподвижность навела меня на мысль о том, что он устал. По всей вероятности, птаха истолковывала усердные старания помочь ей как опасность, и мои следующие попытки поймать стрижа были более осторожными. Наконец мне удалось прижать его рукой к полу. Этот глупыш попытался взмахнуть крыльями и улизнуть, и мне пришлось прижать его к плитке чуть сильнее, чем хотелось. “Веди себя смирно, дурашка,” – сказал я стрижу, обхватив ладонью дрожащее тельце. Сжав кулак, я поднял стрижа с пола и поднес к лицу. Сердечко пташки часто-часто колотилось о мои пальцы, его клюв был открыт, а во взгляде сквозил испуг. По крайней мере, мне казалось именно испуг, хотя я не знаю, можно ли увидеть страх в птичьих глазах. Внезапно я заметил на своем запястье влагу. Стриж нагадил мне на руку. “Я же ничего тебе не сделаю, дурашка!” – я встряхнул кулаком в воздухе, чтобы стриж пришел в себя. Я тоже вспотел, и мое сердце билось так же быстро, только от злости. Я несколько раз прошелся по террасе с зажатой в кулаке пташкой. Я тряс стрижа, как тряс бы разозлившего меня ребенка. Мало-помалу я успокоился и показал стрижа лицу на фотографии: дескать, видишь, он не мог улететь, хотя, по-моему, не ранен. Я подошел к металлической сетке, вытянул над ней руку и посадил стрижа на внешний край парапета. Отсюда при желании стриж сможет броситься в пустоту и начать свой полет.Но стриж не шевелился. Он сидел, все так же растопырив крылья, повернув голову и устремив взгляд ввысь. Я подтолкнул его пальцем, и он чуть сдвинулся в сторону, царапая камень кончиками крыльев.
- Ну же, давай, у тебя наверняка получится, – мне хотелось побудить стрижа к прыжку.
Я подтолкнул его снова. Стриж сопротивлялся, и я продолжал подпихивать его к краю. Пташка старалась уцепиться за гладкую поверхность парапета, но вот она оказалась уже на самом краю, и мой палец заставил ее податься вперед. Стриж перевернулся и упал в глубину двора, как мертвый, пугая меня скоростью своего падения. Но вот он взмыл к небу по плавной, изящной, словно вычерченной на бумаге, кривой, и вскоре я уже не мог отличить его от прочих стрижей.
А что было бы, если бы он разбился? Я ничего не мог бы сделать, разве что уповать на то, что никто меня не видел.
Рейтинг: 0
308 просмотров
Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!

