Сотворение любви - Глава 22
3 ноября 2018 -
Вера Голубкова

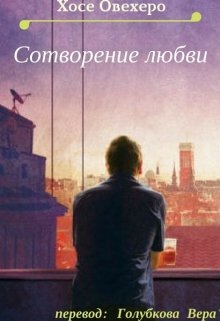
- Постели убраны, – сообщил я, – и в шкафу тоже порядок.
- А ванная?
- Сверкает и блестит.
- Так, а где у тебя туалет, мне надо пи-пи.
Я не верю сестре, более того, я убежден, что ее поспешность не имеет ничего общего с насущной физиологической потребностью. Не останови я ее чуть раньше, она влетела бы в спальню и принялась застилать кровать, поскольку там, естественно, лежала целая куча смятых простыней и подушек. Я плохо сплю, потею и ворочаюсь, причем не только из-за недавней простуды. Мой сон никогда не был легким, и постель – свидетель моих ночных треволнений. Во сне меня преследуют не всамделишные страхи и тревоги, а некие смутные опасения. Я ворочаюсь с боку на бок, не находя себе места, вытаскиваю из-под головы подушку и снова кладу, потею, устаю, меня бесит вес собственного тела. И так каждую ночь.
Сестра вышла из туалета и направилась на кухню. Про кухню я ей, кажется, не говорил? Тут же послышался шум льющейся в раковину воды и звон посуды. Я не стал мешать ей мыть посуду. Сестра меня любит и всячески опекает. Как же замечательно иметь такую сестру, не витающую в облаках, а приземленную, дебелую тетку с расплывшимся телом, с засученными по локоть рукавами и с широкой улыбкой торговки, без всякого намека на изящество и грациозность. Но жениться на ней я бы не женился, потому что испугался бы ее шумных движений и стал бы искать себе укрытие в каком-нибудь темном уголке. Я не выдержал бы ее жизнерадостного голоса, каким она раздает детям срочные указания.
Сестра вышла из кухни и остановилась передо мной, уперев руки в бока. Она почти никогда не садится: разговаривает стоя и пьет кофе тоже стоя. Нередко я вижу ее с тарелкой в руках – она ест на ходу, попутно наводя порядок: что-то раскладывает, подбирает, переставляет.
- Тебе что-нибудь приготовить? Хочешь, я что-нибудь куплю? Тебе уже лучше? У тебя мультяшный вид. Знаешь, а у тебя очень милая квартирка.
- Как дети?
- Отлично, они счастливы. Дети – самое лучшее, что было и есть в моей жизни. Тебе нужно жениться, стать отцом, а потом и дедушкой. На свете нет ничего, кроме этого, что стоит забот и мучений.
- А ты все сидишь на таблетках?
- А ты помнишь время, когда я их не пила? По-моему, я тебе не говорила, но я уже давно смотрю на себя, как на медлительного, бесформенного слизняка – ни талии, ничего, а ведь тогда я еще не была такой толстой, как сейчас. Вот ты касаешься слизняка, а он только поджимается, оставаясь все там же и выставляя напоказ свою мягкотелость… Послушай, уж не намекаешь ли ты, что я пью таблетки из-за детей? Женись, серьезно тебе говорю, семья это единственное, что со временем может сделать тебя счастливым.
- И поэтому ты пьешь таблетки.
- Если бы у меня не было семьи, я тоже пила бы таблетки, при этом пуская слюни в парке и не имея представления, идет ли дождь или солнечно. Тебе тоже следовало бы что-нибудь принимать, ведь это у нас наследственное. Посмотри на отца.
- Мы совсем не знаем отца.
- Это ты его не знаешь, а я все отрочество провела с ним. Это было все равно, что разговаривать со стиральной машиной, ну из тех, допотопных, с одной программой.
- Да сядь ты хоть на секунду.
Сестра присела, глядя по сторонам в поисках какого-нибудь дела, до сих пор незамеченного.
- Знаешь, я за себя не отвечаю. Рано или поздно я схвачу ее как куклу за шею и стану трясти как грушу, пока голова не отвалится.
- Кого?
- А ты еще говоришь, что я пью таблетки. Ты же не живешь с ней. Если она снова спросит меня, когда придет Клара, я удавлю ее проводом от наушников. Я собираюсь привести ее сюда и оставить у тебя, чтобы она оживила твое существование.
- Когда придет Клара?
- И ты туда же? Вы что, сговорились с ней, чтобы свести меня с ума? Если вы этого добьетесь, то вам придется взвалить на себя детей, потому что Мартин ни на что не годен. Он даже задницу им вытереть не смог бы.
- Я просто интересуюсь, почему она спрашивает о Кларе, ну, когда она придет?
- Она говорит, что Клара была очень ласкова с ней, и спрашивает, когда она снова придет. И так раз за разом. Иногда я отвечаю, что через час, чтобы посмотреть, не успокоится ли она. Еще говорит, что ты очень ее любил. Бедняжка, она так растрогана и потрясена тем, что ты очень сильно любил Клару. Ты знаешь какую-то Клару?
- Одно время мы с ней встречались.
- Отличная новость, поскольку женщины задерживаются у тебя ровно настолько, насколько у меня туалетная бумага... Тогда вот что, сделай одолжение, приведи Клару как-нибудь вечером к нам домой, глядишь, эта мания у нее и пройдет, и она даст мне отдохнуть пару дней до тех пор, пока ее не осенит другая идея.
- Не смогу. Клара погибла несколько недель тому назад. Несчастный случай, она разбилась на машине.
Пожалуй, больше всего я люблю сестру, когда она сбрасывает маску и перестает быть этаким ураганом, в который ее превращают таблетки и горячее желание убежать от самой себя, когда она перестает наводить порядок и смеяться, перестает вести жизнь бойкого лейтенанта среди неуклюжих и нерасторопных солдат. Я просто обожаю сестру в те минуты, когда ее глаза становятся мягче и темнее. Вот и сейчас они похожи на два колодца, вобравших в себя мою грусть и утягивающих ее на самое дно сестринской души, где моя печаль становится ее печалью.
- Надо же, даже не позвонил, – укоризненно покачала головой сестра, протянув ко мне руку, но не коснувшись. – Погибла девушка, с которой ты встречался, а ты даже не сказал об этом, не пришел ко мне за утешением. Какой же ты дурак, ей-богу. Вот так взяла бы и трясла, трясла тебя, честное слово!- До тех пор, пока голова не отвалится?
- До тех пор, пока на место не встанет! Ох, братишка, какой же ты тупица! Я ее знала? Это не та, с которой мы видели тебя как-то раз на улице, правда, не помню на какой?
Я не шелохнулся. Сестра подсела ко мне поближе и устроилась поудобнее. Она взяла мою руку и взъерошила мне волосы. Того и гляди сестра усадит меня к себе на колени и крепко-крепко обнимет, прижимая к себе, как обнимает в порыве нежности своих детей.
- Да, это была Клара.
- У нее были короткие волосы, верно? И она была гораздо моложе тебя. Я тогда, помнится, сказала Мартину, что ты ищешь себе подружек на школьном дворе. Я еще сразу обратила внимание, что она молчаливая, но веселая.
- Это правда. Она была молчаливой, но веселой. Хотя, вообще-то, она не всегда была молчуньей. Если у Клары было отличное настроение, она могла болтать без умолку часами.
- Ну вот, – тяжело вздохнула сестра, – теперь мне придется убеждать маму, что Клара не придет. Какое горькое разочарование ее постигнет.
- И много раз.
- Шут гороховый. Мне придется рассказать ей, так нужно. Нет, ты только посмотри, она помнит Клару, хотя и забывает обо всем!
Слава богу, сестра не додумалась спросить меня, когда это наша мать виделась с Кларой, если так скучает по ней или знает, что она была ласковой и нежной. Какое-то время мы молча сидели, держась за руки, отрешившись от всего мира, как парочка влюбленных голубков. “Бедная Клара,” – сказал я вслух, потому что мне хотелось слышать тихий голос сестры, ее вздохи и сожаления о смерти Клары, о двух влюбленных, которых навсегда разлучил несчастный случай на дороге.
- Ох, Самуэль, Самуэль, бедный ты мой Самуэль, – причитала она. – Ты рассказал Антонио?
- Я уже несколько месяцев не разговаривал с ним.
- Господи, ну и семейка! Если наши дети пойдут в нас, я расквашу им носы. Поговори ты с кем-нибудь, излей душу, не носи в себе боль. Позволь какому-нибудь другу утешить себя.
- Знаешь, что со мной происходит?
- Нет.
- Это был риторический вопрос, ты и не можешь знать.
- Тогда не спрашивай.
- Понимаешь, я не хочу, чтобы меня утешали. Есть один рассказ, не помню чей, какого-то бельгийца. Так вот, там умирает жена главного героя, и он едет жить в Брюгге, потому что ему кажется, что этот город настолько тосклив, что не даст ему забыть о его собственной тоске. Я тоже не хочу искать утешения от смерти Клары, потому что это было бы все равно, что разлюбить ее, забыть, как ты скучал без нее, как тосковал и страстно желал ее. Я тоже уехал бы в Брюгге, побродил бы вдоль его каналов под небом, затянутым тучами, продолжая любить Клару. [прим: речь идет о книге “Мервый Брюгге” бельгийского писателя Жоржа Роденбаха (1855-1898)]
- Чушь собачья, от этого есть лекарство. Пьешь таблетку и перестаешь барахтаться в унынии и тоске. Я всегда говорила своему Мартину, что ты у нас умница, единственный в нашей семье человек с мозгами, хотя и работаешь с цементом, кирпичами и унитазами.
- Когда кого-нибудь любишь, ты тоже несчастен, потому что иногда ты расстаешься с этим человеком и тогда скучаешь по нему. Или грустишь, оттого что не знаешь, любит ли он тебя так же сильно, как ты его. Конечно, все это звучит слишком пошло и банально, но все равно несчастье – одно из самых прекрасных душевных состояний в любви, потому что заставляет понять, какой ты есть и каким хотел бы быть.
Я сочиняю на ходу, и сам не понимая, правду ли я говорю, потому что не помню, чтобы со мной происходило подобное, во всяком случае, до этой минуты. Я никогда не говорил о любви и никого не любил, кроме женщины, которую не знал. Я никогда не знал той боли, о которой говорил сейчас своей сестре, глазевшей на меня с поднятыми от удивления бровями.
- Ну что за хрень, ей-богу! Откуда такая одержимость быть несчастными? Что у вас в голове, чем вы только думаете?
- В любви всегда есть некое разочарование.
- Все это потому, что у тебя нет детей. Послушай, что я тебе скажу. В любви к детям нет места слабости и унынию. В ней заключены и сама любовь, и забота, и ты чувствуешь ответную любовь от них. У тебя нет времени подумать о себе самом, потому что тебе важны только дети; они дают тебе счастье.
- И таблетки.
- Дети не наказание, они цвета твоей жизни, яркие, как комиксы. Цвет жизни, вот что у тебя есть.
- Угу.
- Это приблизительно то же, что подделывать телесный цвет, когда получается не телесный, а слишком бледный или ярко-оранжевый.
- И в каком же мы цвете, в оранжевом или бледном?
- Ненормальный. Мне пора идти. Приходи к нам в выходные. Я скажу детям и маме, что ты придешь.
- И Мартину?
- Мартину? Зачем мне говорить ему? Так мы тебя ждем, приходи, ладно? На обед или поужинать, как хочешь.
Сестра ничуть не изменилась. Она ненавидит любое проявление меланхолии. Я абсолютно уверен в том, что все последующие дни она будет мне названивать, думая, что окажет милость, вытащив меня из глубокой задумчивости. “Мертвый Брюгге”, так называлась эта книга. Если бы я дал сестре почитать ее, она мельком проглядела бы первые страницы, недовольно поморщилась бы и засунула ее под диванную подушку. Она не вспомнила бы о ней, даже усевшись на нее.
- Заметано, – ответил я, как будто мог сказать что-то другое или промолчать.
Рейтинг: 0
314 просмотров
Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!

