44. Как Яван Говяда за правду ратовал
15 января 2016 -
Владимир Радимиров

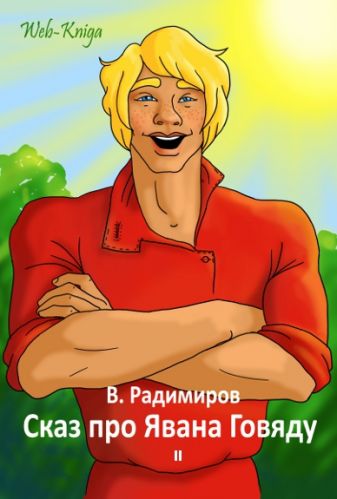
Армия захватчиков, не говоря уж об отрядах прихлебателей, хоть многочисленные они были и хорошо вооружённые, оказались полностью обезволены. Как прознали вояки кичливые, что в Раславе-то приключилось, когда Ваня одним чихом целую рать завалил, то весь боевой дух у них и притух. Некоторые, правда, сдуру ещё порыпались, в россказни эти, по их мнению, не поверили и по крепостям задумали отсидеться. Да только Яваха зря там не менжевался, а дружину собрал и те крепости одну за другой побрал, причём первые две взял почти в одиночку.
А делал он это так: к воротам крепостным подвалит, палицей по ним долбанёт – и нету ворот! Затем, как хорь в курятник, Ваня внутрь врывался и с хищниками расправлялся. Правда, бил он только с ним сражавшихся, а сдававшихся разоружал и всех на волю отпускал с наказом, чтоб более в Расее не проказить. Так что через короткое время с остальными укреплениями у него проблем не было. не пришлось даже их штурмовать, ибо едва арцы Явана у ворот примечали, как сразу же спешили сдаваться. Ни у одного дурака на богатыря рука более не поднималась.
Так в короткий срок вся страна захваченная расиянам опять досталась.
Удивительное дело, но и часть Арии, что к Рассиянью прилегала, отреклась от арского гордого названия и сызнова прозвалась Расияньем. Видимо, на весах правды и справедливости один богатырь-правед куда как более весил, чем все арские города и веси. И то сказать – в прави-то сила могучая, – и дураку даже станет понятно, когда не где-то у чёрта на пятках в туманном завтра, а прямо здесь и сейчас ему лучше станет. Изменения ведь налицо, когда перестаёшь быть подлецом. Да и соседи твои, когда не врут да не рвут, а по-человечески живут, родственников иных роднее душу тебе согреют.
Со сволочным государством вскоре было покончено, и работушка восстановительная закипела до того быстро, что, казалось, это не иго чертовское страну Солнца настигло, а обуял её кошмарный сон. Истинной осью несокрушимой Яван волю свою несгибаемую в серёдку дела сего положил, и закрутилась жизнь в Рассиянье опять в Ра, а не обратно. Что ни говорите, а от личности геройской в истории зависит много. Именно люди великие и торят другим дорогу да ведут их, куда им надо. Большинство ведь из нашей братии не человеки ещё самодостаточные, а послушное людское стадо.
Перво-наперво собрал Яван в Раславе всенародную раду, и порешил народ во все концы скакать и Велик Собор на сход собирать. Ото всех краёв в столицу представители выборные приехали, и стали они думать да гадать, как им порядки праведные возвертать.
Явана эти представители Правителем на семь лет и выбрали, и Ваня тяжёлую сию ношу на себя взял. Первым делом у праведов он попросил помощи и создал из людей мудрых себе Совет. И хоть мало их осталось после гонений арских, а всё ж таковые нашлись – праведы в Рассии отродясь ведь не переводились. И, как и в былые времена, посоветовали праведы Правителю с молодого поколения возврат к прави начинать, ибо головушки молодые мягки, а зато пожилые мозги переиначивать будет не с руки: они бы может того и хотели, да вот возможности не те в старом теле. Как говорится, из глины сырой можно слепить хоть горшок, хоть тарелку, а зато из тарелки и горшка не выйдет уже ни шиша.
Не забыл Яван и про дуб материн, и как только всё утряслось, взял он гусли свои звончатые и к дубу пошёл. А уж лето вокруг звенело, трава-мурава зеленела, и цветов на могилке скромной было предовольно. Сел Яван под дуб тот великий, спиной к стволу прислонился, гусли положил на колени и принялся чего-то потренькивать. И трое суток кряду сидел он там, позу почти не меняя, в обществе одной лишь Борьяны, и ни на какие шумы даже не откликался. А к исходу третьих суточек случилось с ним чудо: сияние стало исходить от его головы, и такие неземные звуки руки Ванины произвели, что потянулись к дубу дикие звери, птицы в крону его налетели, и даже гады вниманием Ваню не оставили.
Открыл глаза Яван, играть перестал, посмотрел вокруг непонимающе, а потом Борьяну признал и ей улыбнулся.
– Эх, Борьянушка-милушка, – сказал он тихо, – в каких я побывал горних высях! А и рассказать-то нечего, поскольку слов у нас таких нету.
Встал он, потянулся всем телом, потрепал по холке оленя пришедшего, и пошли они домой обнявшись, стараясь не наступить на приползших гадов.
И стал Яван с тех пор правителем истым, поскольку получил он способность души лечить. Вернее, править.
А делал он это так. Соберёт бывало народ где-нибудь на гулянье, да и начнёт на гуслях играть мелодии райские. И такие звучания необычайные наловчился Ваня из гуслей своих извлекать, что слушали его все не отрываясь. И вот какая штука со слушателями этими приключалася: до трети людей из толпы вдруг начинали рычать, стонать, корчить рожи ужасные, а потом на землю они падали и принимались по ней кататься. Изо всех же их телесных отверстий дым начинал выходить, вонючий и хладный.
Правда, недолго длилось это безобразие, и скоро все корчащиеся приходили в себя, глядели вокруг, ничего не понимая, а потом принимались рыдать. Да и все остальные тоже потоки слёз из глаз своих испускали. Оказывается, это они так очищались, и слёзные ручьи души им омывали от навной дряни.
– Не бойтесь, люди добрые! – Яваха людей утешал. – Это в душах ваших чертограммы дотла сгорают, врагами нашими туда поставленные!
И будто поменяли народ в Расиянье!
Ранее-то было как? Бывало, родится младенец как младенец, и все с ним, как с чадом дорогим, лелеются. А когда подрастал среди прочих этот дитятя, то, оказывалось, червоточинка в нём некая появлялась. Не уваживал такой шкурник ни папу, ни маму, ни чужих, ни родню, и выше всех одного себя ставил, а потому пытался других под себя подмять, а себе добыть власти. А у многих прочих вместо чувства негодования от таких притязаний покорность возникала вялая, словно им душу ножнями обкорнали. И как бы люди по прави не старались жить, как бы нутро поганое в себе ни зажимали, а вот не получалось до конца его унять – лезло оно наружу как сорняк-трава. А зато после Ваниных концертов целящих словно выжгло в душах людских всё лядащее. И до того крепко люди друг друга и весь свет полюбили, что даже погода и та в Расиянье переменилась, и опять сделалась как прежде – доброю в основном и безмятежною.
Ну а жена Борьяна Правителя Явана поддерживала чрезвычайно и на подвиги мирные его вовсю вдохновляла. Души Ваня в Бяше своей не чаял, а она в нём, ибо закалена их любовь была адским суровым огнём.
Всем миром им народ дом построил у реки, и в том доме молодожёны поселились и счастливо жили, хотя бывали первое время там редко. Ваня-то всё больше пребывал в разъездах, объезжая родные края, и в эти путешествия частенько жену он с собой брал, чтобы без милушки не скучать. А ино и Сивку-Бурку он седлал, когда отправлялся в совсем уж дальние дали, и тогда уж скакал один, по милой в разлуке скучая. А когда он возвращался, вот же был им праздник!
Борьяна же и видом и нравом ничем как будто от прежней себя не отличалась, да и силушка будь здоров какая в ней осталася – аж по две подковы шутя она ломала! Но не силой удалой и не богатырством отчаянным она славу себе приобрела, а проявилось в забияке беспечальной, неожиданно даже для Явана, милосердное и нежное начало, кое превыше подвигов геройских внимание к ней привлекало. И пела чертовочка былая дивно, и замечательно плясала, а пуще того в травах лечебных она разбиралась, и больных да увечных врачевала. А уж как детишек любила красавица-богатырша, и не передать – постоянно за ней хаживала детская рать.
В общем, жизнь в стране на былой лад налаживалась, и навь вреднющая голову поднять не отваживалась.
И вот как-то осенью, в хмуром месяце листопаде, почувствовал себя Ваня неважно, навроде он даже заболел. Поделал он с утра немало дел, а под вечер чует, что прямо мочи нету. Прилёг Яванушка на постель, голова у него стала словно чугунная, в груди сделался жар, в глотке сушь, а руки-ноги перестали слушаться.
Борьяна, естественно, мужа недужного не оставила, внимательно его обследовала, осмотрела. «Да, – говорит, нахмурившись, – непонятное дело...» Потом руками над больным поводила и дала ему лечебного отвара. Полегчало чуток Явану, закрыл он усталые глаза и вскоре как отрубился, сном тревожным забылся.
Но не успокоилась его душа в хворью разбитом теле: кошмары жуткие ему пригрезились, семь потов с него сошло, а под утро видение на ум снизошло. Будто стоял он под огромной скалою, у речки чёрной на горе высокой, а рядом с ним Бяша в туманную даль вглядывалась. Поглядел туда и Яван и ужаснулся немало, ибо ползло с западной стороны тёмное марево, а внутри того марева багровый огонь клокотал, и некто незримый хохотал оттуда злорадно. Испугался Яванушка за Борьяну, за руку её взял, а тут вдруг вихрь налетел на них страшный, с ног их свалил, огорошил, пылью очи им запорошил... И потерял Яван жену свою любимую, по земельке как сноп катаясь. Чудом каким-то ухватился он за выступ скалы и за него держался, пока смерч сей треклятый продолжался. А потом наваждение это вдруг и исчезло бесследно.
С тяжестью в душе огляделся Ваня окрест и ужаснулся пуще прежнего, ибо не было с ним жёнушки его нежной – сгинула она, пропала, будто и вовсе там не бывала.
Проснулся Яван от бредового кошмара, полежал чуток и вздохнул с облегчением. «Эх, – думает, – я и дурак – это ж мне пригрезилось по болезни...» Пощупал Ваня себя – а он весь липкий от пота, а простынку хоть выжимай. И пить ему захотелось страсть прямо как.
Яван тогда Борьяну позвал – а она отчего-то не отзывается.
В другой раз жену он зовёт – тишина в доме, никто на зов его не идёт.
Вскочил встревоженный Ваня на ноги, предчувствием ужасным снедаемый, весь дом обыскал – нету нигде Борьяны! Во двор богатырь тогда выбежал, кличет громко супругу свою дорогую – а всё-то зря, всё впустую: в ответ ему никто ни гу-гу.
И догадался несчастный витязь, что похищена жена его любимая неведомой силой!
А тут и утро наступило смурное.
Всю Раславу Яваха на ноги поднял. Веэде и всюду земляки пропавшую искали, да не нашли – впустую поиски их прошли.
И вот, когда убитый горем Яван на самом дне отчаянья пребывал, добавилась к его личным переживаниям ещё и великая общая беда. С западной сторонушки на жеребце взмылённом прискакал в Раславу гонец раненый. Был он в пыли дорожной и в грязи, правая рука была у него на перевязи, голова тряпицей окровавленной обвязана – и вот что гонец землякам рассказал: сам царь-непоратор Хитларь с несметной ратью с Ворладона своего к Ураграду пожаловал и на Рассию вероломно напал. Потребовал он, чтобы ураградцы ему сдались, покорность ему изъявили, вожаков на расправу выдали и хлеб-соль с ключами ему вынесли. Будет отныне, сказал он, у вас новый порядок, и не по Ра, а как он им прикажет. Но горожане, посовещавшись, решили по-своему и дали захватчику достойный отпор. Гражданин Ярмил командует у них народной силой с сынами своими бравыми Ярисом, Бодрисом и Недаймахом, но теперь положение у них аховое – обложила град вражья рать, и вот-вот должна она его взять...
И добавил вестник раненый, что помощи осаждённые просят у всего Расиянья, молят прислать они подмогу, чтоб одержать над врагом перемогу. А ради того, чтобы весть сию в столицу доставить, не ел гонец устремлённый и не спал, троих лошадей загнал, да боится он, что всё ж опоздал.
Произнёс воин речь печальную и в обморок тут же грянулся.
Кликнул Яван тогда воевод к себе ратных и приказал немедля войско собирать, а сам в поле чистое побежал и вскричал там громко:
– Эй, Сивка-Бурка, вещий Каурка, встань передо мной, как лист перед травой!
И только он слова сии произнёс, как словно вихрь конька туда принёс. Стал Сивка будто вкопанный перед Яваном и как-то странно головою он закивал. И вспомнил тогда Ваня, что ему правед Велизар сказывал. Обнял он за шею конька и быстро на ухо ему прошептал:
– Дедушка Велизар, слышишь ли ты меня?
И ответил ему конь голосом человеческим:
– Слышу, Ваня, хоть я и далече.
– А скажи мне, ведун Велизар – куда Борьяна моя пропала?
– Эх, Ваня-Ваня, – коник главой покачал, – потерял ты, видно, свою Борьяну. Колдун Хитларь её украл, в плену её держит, не холит, не нежит, а мучает и пытает... Спеши, Яван, на бой с врагами коварными, но не торопись, а утра дождись и позволь Сивушке-Бурушке в росе поваляться. Нынче он у тебя видом кляча, а превратится в коня удачи. Смело тогда с Хитларём на бой выступай, ибо у него ныне конь твой адский, который в два раза сильнее стал, потому что Борьянину кобылу сожрал... Понял ты меня, Ваня?
– Ага, понял, как не понять! Одного не пойму – как быть с ополчением? Оно ведь за мной не поспеет.
– А ты лети, Яван, на битву один, без ополчения и без дружины. Силушка в тебе велика – и один ты одолеешь врага!
Ну что ж, сколь ни стремилось сердце Явана на выручку к землякам мчаться, но заставил он себя задержаться. Войско же вперёд себя послал, чтобы шли они и скакали в Урагрень скороым шагом.
Ох и тошно было Явану, пока он утра дожидался и по округе шатался. Как словно в сердце его торчал нож, до того ему было невтерпёж. И порешил он под вечер на могилу матушки сходить, посидеть там, подумать чуток и головушку успокоить заклумлённую. Вот пришёл он к дубу тому древнему, у ствола уселся и в думы невесёлые погрузился.
И вот сидит Яван возле могилки коровки отравленной, глядь – а из неё сияние стало подниматься. Белый-пребелый свет из землицы наверх пробился, и чудесный запах вокруг разлился. Поглядел Яванушка на свечение, взор ласкающее, вдохнул в себя фимиам умиротворяющий, тишину убаюкивающую послушал, и будто весточку от матушки получил. И ощущение сей дивной грёзы исторгло из очей его ожесточившихся поток слёз. Ручьями горючими они по щёкам Ваниным полилися, и будто лёд хладный у него в душе растопился.
Не чуял Ваня времени, пока наяву он грезил; казалось ему, что миновало одно лишь мгновение, а тут смотрит – утро уже наступает и солнце красное на востоке поднимается... Исчезло волшебное сияние, и запах чудный пропал, и иным показалось всё Явану – в точности оно стало как прежде, когда грела душу его любовь, и лелеяла мечты его надежда.
Поклонился богатырь матушкиной могиле до земли, потом медленно выпрямился, и во взгляде его стальных глаз воля несокрушимая загорелась, словно камень-алмаз.
Как выходит тогда Яван во поле то широкое. Как зовёт он голосом молодецким конька свово невысокого. И то ли летит Сивка-Бурка низко, то ли высоко бежит, а землица под его копытами аж дрожмя дрожит.
Прибежал конь и встал перед воем, как лист стоит перед травою.
– Ой ты коник мой милый, Сивушка-Бурушка! – Яванушка ему велит и громко говорит. – Ой да ты вещая моя Каурушка! А покатайся ты по росице по холодной, ой да прими на себя вид-то благородный!
И только он это сказал, как коник его на земельку пал и стал по ней кататися да валятися, статей и силушек стал набиратися...
И минуточки омовения росного не минуло, как видуха неказистая Сивку-Бурку покинула, и вскочил на резвые ноги уже конь боевой, собою огромный. Смотрит Ваня – глаза у него точно солнце светятся, хвост да грива серебряной волной треплются, а копыта алмазами посверкивают. Вот только масть у Сивки осталась неизменная – мешанина красок на шкуре его блестела.
Оседлал Яван богатырского коня, и животина обновлённая седока мощного в седло приняла. Поскакал Ваня во град Раславу, где перед народом взволнованным предстал и начал прощаться.
– До свидания, земляки мои дорогие! – произнёс Правитель народный голосом не тихим. – Еду я на смертный бой с силою злою! Коль погину я там – лихом не поминайте! Только знайте: не для погибели я туда полечу, а ради победы! Верьте в меня, кто правь ведает!
Ударил Говяда коня по бокам, тот громко заржал, на дыбы восстал, прыгнул вперёд горным барсом и ветра быстрее вдаль помчался. А как разогнался он хорошенько, так и вовсе по воздуху полетел, каждым скоком по нескольку вёрст покрывая, повыше леса стоячего сигая да пониже облака ходячего пролётывая...
И долго ли, коротко длилась гонка эта необыкновенная, а только принёс Сивка-Бурка Явана в Урагрень.
Опустился он тогда на земельку, по дороге рысью побежал, и сердце Ванино от вида разора страшного сжалося. Поглядел он по сторонам огорошенно – о боже! – везде дома стояли сожжённые, и тела мёртвые валялися, оружием поражённые. Одна деревня проходит, другая – нигде Яван души живой не примечает: и стар и млад поколотые да порубленные везде лежат. Да что там люди – животные и те злодеями были уничтожены: не только коровы и кони, но даже собаки и козы.
Адски жестокими оказались эти хитларцы!
Подъезжает Яван вскорости к красавцу Ураграду, смотрит, – а от городских развалин дым чёрный поднимается, и скопище деревянных крестов на горе вздымается. И будто потемнели Явановы глаза, когда он распятых людей на крестах увидал – и не десять, не сто, а много сотен. То были сожжённого града жители, восставшие против гадов безжалостных на его защиту. Не сдюжил отважный народ против силищи неимоверной и принял смерть мученическую за землю свою и за веру.
Долго ехал Яван повдоль крестов, но никого живого там не нашёл. Видно, времени прошло немало, как тут жуткая эта казнь разыгралась. Стаи вороньи над трупами с граем летали, и смрад разложения вокруг витал.
И вдруг... стон негромкий откуда-то сбоку раздался!
Спрыгнул Ваня с коня, вперёд побежал и видит – человек ещё живой на кресте висит. И узнал в нём Яван купца Ярмилу: он, единственный из всех, был едва ещё жив.
Вырвал Яван из земли орудие казни поганое, на горку крест положил, от пут и гвоздей Ярмилу освободил, рот спёкшийся ему приоткрыл и толику воды в него влил.
Жадно умирающий влагу проглотил, а потом глаза воспалённые разлепил и замогильным голосом проговорил:
– Яван? Ты?..
– Я, Ярмила, я...
– Ребёнком малым будучи, я тебя видел. Ты у нас... проездом был. Эх, богатырь – все мои близкие погибли, и я... почти уже умер. Сынки мои Ярис... Бодрис... и Недаймах... все пали смертью храбрых. И жену мою арец, скотина... на моих глазах зарубил. И соседи мои... все убиты... Эх, Яван, видел бы ты... какая у них сила! Хитларь ворота в град... взглядом очей пробуравил. Никто из нас не сдавался... все сражалис, да... не совладали.
– А где жена моя, Борьяна? – со слезами на глазах спросил Ярмилу Ваня. – Али ты ничего про неё не знаешь?
Приподнял купец с усилием голову свою всклокоченную и, сипя и хрипя, пробормотал:
– Её... увёз... Хитларь. Яван, я знаю... ты и был... тем скоморохом... на дороге. Слушай... скажу напоследок... умираю я легко. Жил... жил тяжело... грешно... нехорошо... воровал... крал... слабых обижал... любви, любви не имел... Вину свою теперь искупаю. Хр-р... ар-р...
Голову Ярмилину в руках своих держал витязь, а тот из последних сил пытался слова из себя выдавить:
– Отомсти за нас, Ваня... встань за Ра... за Рассию-мать! Благословляю... тебя!
Тут он голову назад уронил, и дух томящийся тело его бренное покинул.
Медленно-медленно восстал на ноги Яван, и голова его седая низко была склонена. А потом поднял он её, вперёд глянул, и лучше было бы никому в очи его не заглядывать – холодная в них блистала сталь. Мелкая-мелкая дрожь всё его тело могучее сотрясала, и мышца желвачная на скуле его плясала. Поклонился Яван низко герою Ярмиле и на все четыре стороны павшим он поклонился, но хоронить никого не стал.
Он спешил! Спешил врагов, в глубь страны ушедших, достать.
...А вражья та орда на южное направление, оказывается, повертала, на град Раскуев начала двигаться, чтобы и его в прах обратить. Да только не ведали гады, что сама смерть на коне аляповом за ними скачет, и пекло чертячье по душам их обречённым горько плачет. Мало времени осталось у нелюдей, у кирпичей пирамидных, зло творить на белом свете да нести людям обиду.
Не моргая Яван в даль открывающуюся вглядывался, и его могучая рука палицу верную крепко сжимала, убийственную для злого врага. Так, вот ещё одно село разорённое мститель одухотворённый миновал, вот порубленные люди всюду лежат, и висят ни за что сказнённые... Всё дальше и дальше всадник суровый скачет, и конь его богатырский землю из под копыт мечет.
И таки догнал Яван наконец рать ту несметную!
Она как раз на равнину вышла большую, в степи широкие раскуевские. Преогромная бронированная колонна, пешая и конная, аж за самый горизонт протянулась, и с всадником роковым она не разминулась. Встал Яван на кургане, рать карательную окинул взором горящим, усмехнулся криво, а потом рог из-за пояса вынул и в него затрубил.
И от рёва грозного боевого рога остановились длинные ряды ворогов и отчего-то вздрогнули. Оглянулись вои бравые и увидали, что с кургана летит на них вихрем странный ворог: на могучем сидит он конище, а в седых его власах ветер свищет. И словно оцепенели сволочи жестокие от вида витязя рокового, и застыла у них от ужаса необъяснимого в жилах кровь.
А палица в руках Явановых ярче солнца вдруг засияла. Поднял её витязь над главою и что было силы ею потряс. И изошли из палицы солнечной тысячи лучей ослепительных, и те лучи всю рать громадную собой поразили. Грянулись каратели на земельку, уязвлённые болью огненной, и в корчах лихорадочных они там забилися. И те из них, которые особой жестокостью в казнях и битвах отличилися, все до единого вскоре погибли, ибо сердца в груди у них разрывались от стыда жгучего за содеянное и от осознания невозможности искупить в сей миг вину свою страшную. А основная масса захватчиков потеряла от боли сознание, и из их тел неподвижных чёрные сгустки зла к небесам зазмеились, в тучи тёмные над полем битвы собираясь.
И тут видит Яван – всадник какой-то на вороном коне впереди показался, который быстро на Явана мчался и молнии пламенные из дыр забральных метал, а затем невдалеке он остановился и в гордой позе словно застыл. Осадил и Яван своего коня, на ворога того пристально глянул и тоже вперёд поскакал. Приблизился к нему сажён на двенадцать, Сивку разгорячённого удилами осадил и всадника громадного взглядом буравящим испепелил.
– Ты что ли непоратор-царь, подлец и колдун Хитларь? – латника грозно он вопросил и непреклонно добавил: – Готовься ответ держать, адский ты выползок, ибо смерть твоя за тобою явилась!
На что чёрный воин через забрало захохотал:
– Ха! Ха! Ха! Это ты, коровье отродье, у меня здесь подохнешь! Я – царь Арии Хитларь, непоратор планеты Земля, а ты – тля! Получи, бычара, адского огня!..
Да как полыхнёт жутким пламенем прямо через забрало! Целый огненный поток он на Явана из себя исторг, да только всё-то впустую – вобрала палица Ванина огонь адовый подчистую. Хитларь же от произошедшей неувязки ажно попятился. Зато Ванька даром времени не терял, палицей он потряс, и из её конца слепящий заряд в небеса ударил, будто молния обратнонаправленная. И в то же мгновение сильнейший из туч собравшихся ливанул ливень, и его струи горячие сомлевших ворогов собой оживили; начали он на ноги, шатаясь, подниматься, и все как один на поединщиков они уставились.
– На твои чары и мы лицом в грязь не ударили! – воскликнул Яван, дождём поливаемый. – А сейчас узнаем, насколько в честном бою ты удал!
Да на ворона этого чёрного светлым соколом и напал.
Размахнулся Ванюха своей палицей да по башке Хитларевой как вдарит!.. Но тот, скотина, как-то уклонился, и первый удар у Вани не получился. Тут и непоратор свою палицу выхватывает, в свой черёд Явана ею вдаряет, но только и Яван его удар отбивает.
Разъехались они тогда во второй раз, опять сшибилися – хрясь! – снова ничья силушка верх не взяла, а Яванов конь адскому коню шмат мяса из шеи зубами вырвал.
Тут во третий раз они разъезжаются, и такая вдруг ярь в душе Явановой разгорелася, что с силой неимоверною он гаду вредному по палице его огрел, а та неожиданно – раз! – и сломалась. Ну а Ванькин коняга Хитларёва коня вконец доконал: вдвое больший кус мяса из шеи у него вырвал и жилы ему порвал.
Грянулся конь пекельный о землю и с жизнью расстался, а вражина Хитларь в ковыль сверзился и так сильно упал, что всё задрожало.
Быстро Ваня с коня тогда соскакивает, к поверженному царю подбегает и забрало с него срывает. И видит пред собой старичищу страшного. Харя у него мерзкая была, отвратная, нос крючком, череп лысый, взгляд как у крысы, да в придачу на левом глазу бельмо.
Хорош женишок!
Взметнул Яван над ним кулак свой разящий и закричал:
– Где Борьяна, гад?! Отвечай, а то убью!
А тот вдруг захихикал ехидно:
– Нету её, Явашка Говяшка! Нету! Тю-тю!
И вдруг едким дымом в глаза ему полыхнул.
А пока тот очи свои продирал, колдун из доспехов выпростался и, в орла обратившись, хотел уж было удрать. Да только Ваня за ногу его – хвать! На земельку воспарившего хищника возвертал и все крылья ему переломал.
А тот вдруг – блись! – медведищем обортился.
Заревел зверь страшно и Явана что было силы облапил. Хотел, волохатый гад, человека задрать, да только не та у него оказалась стать. Яваха тоже оборотня обхватил и стиснул в объятиях своих что было силы. И от чудовищного богатырского давления кости у медведя громко захрустели. Выдавил усилок расийский всю жизнь из медвежьей груди, а колдун, подлюга, вот что учудил: змеищей ядовитой из пасти трупа он выполз, на земельку свалился и хотел уже в норку скрыться, но Яваха и здесь гадючину упредил и в последний миг за хвост его ухватил. Выволок он на свет божий чёрную эту ленту да – об землю её, об землю, об землю!..
И до тех пор змею он бил, пока Хитларь снова в человека не обратился. Вывалился он из Явановой руки, лежит, хрипит и кровавые пузыри пускает. Явно, тварь позорная, подыхает...
Наклоняется тогда над чародеем умирающим Ваня и в последний раз его пытает:
– Где Борьяна?! Отвечай!
Гримасу злорадства Хитларь лежащий на харе изобразил, и в самое сердце Явана ответом он поразил:
– Убита она... Замучена... Стерва она ссученная... Ох была она хороша! Да у Двавла теперь её душа.
Всё дыхание у Вани от вести злой перехватило. Словно куклу тряпичную, издыхающего непоратора он схватил, взметнул над собою на вытянутых руках и что было силушки об землю им брякнул. И от того могучего удара волна землетрясения по степи побежала, разверзлась сама земная твердь и труп осквернителя веры в себя ввергла.
Вздыбленная площадочка в том месте лишь осталася.
Машинально её Ваня ногой притоптал, а потом к Сивке-Бурке шатаясь пошёл, за шею его обнял и заплакал.
Не было более жены его милой на свете, зря её Яван из гиблого пекла вызволял, зря она из чертовки сделалась человеком, всё-то, выходит, зря... Совсем тут Яванушка обессилел, и душа его, недавно ещё бурлящая, страшно опустошилась.
И тут вдруг воины оклемавшиеся толпищей огромной его окружают, и на колени пред ним они падают. Ну а затем из их среды воевода некий выдвинулся да и говорит:
– Славен будь Ра, бог предков наших! И видит сей Бог, правитель Яван, что переможила его сила светлая в сердцах наших навь смертельную. Пережёг Ра своим огнём целящим грязюку душевную, и поняли мы, что такое правда божественная, и что есть зло и добро для человеков. Изменились мы навсегда, Яван, и ждём от тебя приказа, как нам силушку нашу на добрые дела использовать. Приказывай нам, Правитель, – мы готовы на всё!
И как ни горько было на душе у Явана от осознания потери Борьяны, но выпрямился он, приосанился, согнал с лица неимоверным усилием воли боль душевного страдания и вот что воинам преображённым он отвечал:
– Много зла вы, вои небравыые, своим собратьям причинили. Нелюдьми вы даже стали, злую волю чертячью послушно выполняя и в кирпичи адские свои души позволив загнать. Ну да, слава Ра, преобразила вас правая сила, простила она дела ваши несправедливые и тем самым на новые, уже добрые дела направить вас порешила. Возвращайтесь в края, вами разорённые, павших с честью похороните, да ступайте себе назад, в Арию, и, по прибытии, порядки добрые там учредите. А кто захочет, может здесь оставаться и в краю этом жить-поживать, чтобы снова край этот расцвёл в трудах праведных. Поняли мой приказ, души воспрянувшие?
Громовым «да!» взгорланили арцы своё горячее с сим приказом согласие, а затем в стройные ряды они построились и пошли себе назад, в края, ими ранее оставленные. А Яван остался стоять там, словно замшелый камень, и черты лица его вновь омрачились печалью.
И тут вдруг слышит он – сви-и-и-ись! – свистнул кто-то вдали посвистом молодецким.
Поглядел туда унылый удалец и зрит, как некто огромными шажищами к нему чуть ли не летит и за один шаг по сорок сажён лихо отмахивает. А в руках скороход несёт какую-то ношу. И едва он поближе подскакал, как в этом ходоке невероятном Яван Боегора ярого признал. Ну а в руках его неслабых – родная мама! – покоилась жива-живёхонька его Борьяна.
Подбежал бегун стремительный к удивлённому витязю да и остановился. Бяшу улыбающуюся на ножки он ставит, сам тоже улыбается и Явану поклоняется.
– Поравита тебе, – говорит, – великий Правитель! Принимай, Яван, свою супругу спасённую! Хоть и помучена она слегка, да зато цела.
– Да как же это?.. – Яваха ничего не понимает. – Да как же так?..
– Меня на выручку её Велизар послал, – боярин сказывать продолжал и пальцем вниз указал. – Во! – сапоги-скороходы мне дал. Ух же они и проворные – чуть меня не угробили. А я, как сюда домчался, так до темноты переждал, а ночью во вражий стан пробрался и с Борьяниными палачами по-свойски разобрался. Украл Борьяну у Хитларя, ага. А иначе было нельзя. Нешто мы, Ваня, не рассияне!
Вот где радость-то великая настала. Кинулась Борьяна на шею Явану, целует его, визжит да крепко муженька обнимает.
– Ванечка ты мой дорогой! – вопила она в буйном восторге. – Как я рада, что ты живой! Любый ты мой герой! Народный спаситель! Милый амбал!..
А Яваха и слышать не хочет никаких похвал. А чего, говорит, я такого сделал-то? Ничего, мол, особенного. Я-де, заявляет, для того на белый свет и народился, чтобы за правое дело стоять – вот по предназначению своему и пригодился, факт.
Ваня и Боегора в объятия свои заключил, расцеловал его трижды по расейскому обычаю и в ноги за Борьяну ему поклонился. Отныне, говорит, ты навеки мне брат!
И поехали они все трое в обрат.
* * * * * * *
Ну что ещё про те времена рассказать-то?..
Расейская держава, бают, вскорости после того полностью восстановилася, и ещё тысячу лет простоял там если и не Золотой, то уж точно Серебряный Век.
Яван с Борьяною жили долго и счастливо, много детей они народили, всё красавиц писаных да могучих богатырей, а умерли, как сказывают, в один день. И вроде деяния поразительные Явановы уже давным-давно позабыты, и только в сказках народных про Иванов да Янов, Джованни, Джонов да Йоганов имя его ещё гремит, а всё ж таки не исчезает великий сын Ра из людской памяти...
Вот и сейчас, будто живой, в седой дали прошедших веков, на фоне солнца сияющего он стоит, на палицу свою верную опирается, рукою мощною машет и заветные слова нам сказывает:
– Поравита вам, потомки мои дорогие! Слушайте, что скажет вам расейский богатырь... Живите просто, радостно. Работайте не ленясь. Другим помогайте. Себя над прочими не возвышайте и лиха в алчности не стяжайте. Мудрёным законотворчеством не увлекайтесь – законы к кону всегда привязывайте. И от ига чертовского вы воспрянете! Сколько б оно ни было тяжело и долго, а всё ж таки оно кончится. Вспомните про то, что вы сыны Божьи, а не рабы Его и не твари ничтожные. Знайте, что мы – рассияне! Всегда мы верили в светлого Ра, а не в вывернутого наизнанку Ара, и никогда мы не были варварами. Да здравствует Вера наша великая! Да здравствует наша правь! И помните, дети мои, обо мне, о Коровьем Сыне Яване Говяде, которому по-человечески, а не по-чертячьи на Земле-матушке жить было надо. До свиданья, родные мои! И знайте – я не умер, я жив! Ничто во вселенной не пропадает, всё лишь меняется и по Ра стать старается. Я вернусь к вам ещё, но в новом качестве. Дерзайте же, сёстры и братья – над нами и в нас Сам Ра! Ура! Ура! Ур-ра-а-а-а-а-а!!!..
Как однажды на востоке
Солнце красное вставало.
Как оно лучистым светом
Тёмну землю озаряло.
Солнце встало – мрак лежит,
Он рассеян и бежит!
А Великая Природа
Вместе с радостным народом
К новой жизни восстают,
Славу Ра в душе поют:
«Ой ты, Батюшка Родной,
Жизни подаритель!
От безвидной темноты
Милый избавитель!
Ты свети на Землю-Мать,
Чтоб была бы благодать,
Чтобы жизни полнокровной
Не пришлось оскудевать!
Гори яро, ясно,
Чтобы не погасло,
И на Матушке-земле
Станет жизнь – прекрасна!»
Славься Ра ты наш, Отец!
Кто читал, тот молодец,
Ну а сказочке
К о н е ц
Список наших персоналий, кои в сказе роль играли
(по мере появления их в повествовании)
Прави́ла—царь державный Расиянья, мужичок без обаянья.
Царица Радими́ла – Правилина жена, собою не дурна.
На́виха – навья жречиха усердная, ведьма зело превредная.
Ода́рка – кухарка своевольная, судьбою недовольная.
Ява́н Говя́да – сын Ра Самого и Небесной Коровы, парень удалый и духом здоровый.
Гордя́й – сын Правилы с Радимилой, брат Яванов горделивый.
Смиря́й – тоже Ванин брат названный, неудатый разгильдяй.
Велиго́р – всего лишь раславский коровий пастух, эпизодическая в сказе фигура.
Корова – не скотина, а Дева Небесная, существо собою прелестное.
Свиною́дище – чудище странное, страшное и хитрое, посланец к Правиле от сил нечистых.
Дед Праве́д – святой человек природный, защитник и друг народный.
Рагу́л – местный опытный коваль, коий палицу сковал.
Грубово́р – злобный чёрт, циклоп-урод, ехавший через Смороду.
Хитрово́л – тоже Ванькин враг смышлёный на мосту-то на калёном.
Борья́на – девушка чудесная, Ванина жена, дочка Зорьки Ясной и Чёрного царя.
Порубежный паучище – чёрт истинный, в своём роде единственный.
Чудовищный лев – демон-людоедище страшный, Ваню нашего обезлошадивший.
Корчмарь – душегуб и завлекала, коий в свой капкан попал.
Главарь разбойников – громила, что с Ваней боролся, да не на того напоролся.
Князь Сама́р – дед без воли и без мочи, от чертей страдавший очень.
Чёрт-обормот – наглая борзая туша, сборщик местных грешных душ.
Харя – чёрт по имени Мурла́к, неудалый Ванькин враг.
Капитан парусника – муж неглупый и суровый, собеседник Ванин в море.
Спрутище – демон подводный, гроза океана, долю свою получивший сполна.
Царь Далевла́д – всех чистилищ амператор, Ванькин лепший корефан.
Пекельный бык – ярый адский углежор, Ваньшин к бою «тренажёр».
Царица Милоя́на – жена Далевладова верная, красивая тётка, но нервная.
Царевна Прия́на – деваха добрая, но неудачливая, в жертву пекельную предназначенная.
Царевич Далеви́д – парень смелый, тот что надо, сын-наследник Далевлада.
Пекельный Гриф – наглый чёрт, садист-нахал, кой несолоно хлебал.
Чёрный Царь – Пекла владыка и су́верен ада, главный хозяин свово Воролада.
Чудовищный Краб – тоже жертвы он алкал, да на Ваньку, гад, попал.
Ловея́р – чёрт-колдун и психопат, тайный сторож адских врат.
ДраконДивьявор – демон-отступник от чёрного дела, коий Явану поэму пропел.
Навья́на – чародейка, жрица нави, внучка Навихи коварной.
Дерево-упырь – душ беспечных опьянитель, мира нави хищный житель.
Дерево лесное – дух природный, тьмой омороченный, способ нашедший, как Ване помочь.
Сильва́н – леший грозный нелюдимый, ставший Ване побратимом.
Буриво́й – древний воин, витязь бравый, царь царей былой державы.
Делибо́рз – когда-то ленью обуянный паразит, который стал умельцем поразительным.
Давгу́р – невозможно охладевший ложной веры пылкий жрец.
Ужо́р – ненасытный объедала, бывший жадина и гад.
Упо́й – опивала сей бездонный засушил народ духовно.
Магу́рчик – птенец Великого Могола, возможный в будущем орёл.
Мого́л – сей птицы нет сильнее в мире – он Ване дюже пособил.
Гарпу́та – громадная орлица-мама, весьма хара́ктерная дама.
Криву́л – вельможа былой разжалованный, держатель жалкой брогарни.
Мордуха́рь – жадный хитрый полицай, погорел он – прямо вай!
Шкурвя́к – чин полиции поболе, избежавший жуткой доли.
Бравы́р – чёрт-бунтарь, несносный малый, смогший сделать небывалое.
Мерза́вл – претендент руки Борьяны, но боец не слишком рьяный.
Бегемова́л – поединщик за Мерзавла, агромаднейший амбал.
Управо́р – адский маршал, предстоятель, Ванькин ярый неприятель.
Тита́вр – поединщик Управора, чёрт высокий и здоровый.
Ужа́вл – данный Ване для услуг, чёрт без всяческих заслуг.
Двавл – главный жрец чертячьей веры, идеист и изувер.
Жирву́л – служка шикарнейшей из гостювален, коий ватагу в номер устраивал.
Чувы́рь – хам, нахал и генерал, но от Вани он удрал.
Жадия́р – важный злыдень из людей, Двавловский могурадей.
Обалда́вл – утончённейший вельможа, ищущий всё обезбожить.
Каргаве́лла (она же Укра́са) – пророчица очень ужасная, былая девица прекрасная.
Зараза́вл, Борова́р, Формови́л, Изуве́р, Цивилиза́вл, Жела́вл, Страхова́л, Народа́вл, Государа́вл, Релига́вл, Тирана́вр – подельники Двавловы, черти конченные, зла кураторы и заговорщики.
«Ангел Смерти» – существо зело загадочное, мучитель и гад безжалостный.
Рыжая главырша – чертовка эмансипированная, участница царского пира.
Никто – тот, кто вроде всё имел, да в Ничто он загремел.
Нахрена́вр – бравый спец махать мечами и спецназовский начальник.
Сия́на – девочка светлого Божьего Дара, коя Явану сей Дар показала.
Дарзвени́р – человек-орлан большой, певший сердцем и душой.
Нэра́о – великанский лев из Дара, несравненнейший силач.
Оссия́р – старичок грибоподобный и волшебник бесподобный.
Баба Ласка – очень добрая душа, с ребятнёй и без гроша.
Алья́на – внучка бабушки Ласко́вьи, девка видом будь здоров.
Лоботрясы-кулачата – зубоскалы и амбалы, кои полюшко вспахали.
Крутоя́р – староста с замашкой панской, прихлебатель оккупантский.
Прово́р – богатеев представитель, жадина и притеснитель.
Арда́р – арский стражник, вой хреновый, уморной боец с коровой.
Ярми́ла – он считал уж барыши, а взял и подвиг совершил.
Бодри́с, Яри́с и Недайма́х – то сыновья Ярмилины, они могли бы жить, да только вот пришлося им всем головы сложить.
Курча́та – был разбойник зело ярый, да отбы́л он в Сивоярь.
Раскуевские паломники – рассияне бывшие, душами оплывшие.
Прахо́й – жрец беспутной веры в Ара, толстопузая попяра.
Радави́л – князь раскуевский, подлец, коий свой нашёл конец.
Парень-гусляр – местный хлопец с сильной волей, верный дедовской к Ра моле.
Мило́ра – плясунья-красавица, гадам попавшаяся, жертва сожженья несостоявшаяся.
Боего́р – богатырь, маху было давший, в долгу пред Ваней не оставшийся.
Велиза́р – истый лекарь, вращ, правед и хранитель древних вед.
Сикишва́ль и Юще́нь – служаки арские у врат Раславских, Ваньку сначала не пропускавшие.
Укра́д – князь Раславы, оккупант, гад, садист и музыкант.
Арда́н – командир арейской рати, молодой такой нахал, да Яван на всю их банду взял и просто начихал.
Раненый гонец – страшной вести доставитель, мести праведной проситель.
Хитла́рь – непоратор, адский маг, Расиянья лютый враг.
Рейтинг: 0
476 просмотров
Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Новые произведения

