35. Как сила Ра зачертанцев покарала
1 декабря 2015 -
Владимир Радимиров

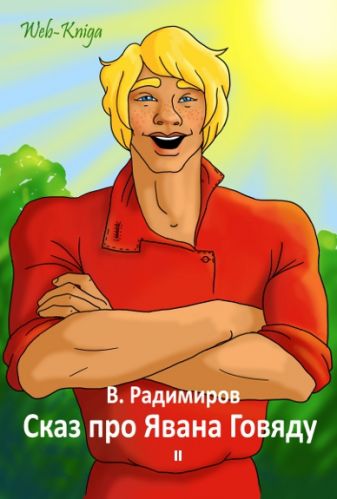
И в последний раз бросил он на суженую свою повинный взгляд, чтобы потом смежить навсегда очи, ибо не мог он смотреть, как будут изгаляться над Борьяной эти сволочи. Встретились их глаза на мгновение, и тягчайшего Яван не испытывал огорчения: мольба и вера в Борьяниных очах сквозила, и ощущение собственного бессилия богатыря до глубины души поразило.
И в эту минуту, когда свет небелый в замутнённом Явановом взоре уже почти померк, вдруг где-то сверху – сверк! – как будто солнца лучик кольнул в зрачок витязю замученному, и сей блеск нежданный сознание Яваново к себе привлёк. Скосил он глаза направо – ба! – да это же Праведов перстенёк! Вон он, на мизинчике посверкивает и о себе напоминает.
«Ух же я и балда тупая! – закорил себя Ваня безжалостно. – Да как я забыл о Праведовом даре!». И попытался он дедов подарок сковырнуть большим пальцем, только не вышло у него ничего: руки Ванины в цепях онемели и слушаться его не хотели. А палачи уже тела Борьяниного своими грязными лапами коснулись – вот-вот ножами по коже её полоснут...
Да в ту же минуту Яваха каким-то чудом извернулся, перстенёк с пальца стащил и на пол его уронил. И едва только звонкий металл о твёрдую плиту ударился, как Ваня о помощи взмолился.
– Дед Правед, избавь мя от бед! – он прохрипел. – Верни мне мою силу! Борьянину казнь останови! Помоги, Праведушка, помоги!!!
И не успел Яван слово последнее молвить, как раздался в чертоге разбойном колокольный звон. Словно где-то далеко-далеко колокольчики серебряные залились, и из-за пения их мелодичного всё движение во дворце остановилось. Все черти до единого точно застряли в невидимой тине; как статуи они застыли, и лишь глаза их вовсю вращались, непонимание и бешенство из себя излучая.
И посередь этой остановленной кутерьмы появился вдруг из дальней стены светящийся маленький силуэт.
То призрак был Деда Праведа!
Шествовал дедуля уверенно, росточком он был с аршин, а на уровне груди примерно нёс в руках он глиняный кувшин. И хоть был Правед полупрозрачный, кувшин нёс самый настоящий.
Подошёл Дед к клетке близко-близко, на Явана посмотрел с укоризной, головой покачал и словами неласковыми узника привечал:
– Эх, Яван-Яван, и впрямь ты бычок упрямый. Всё сам да сам... Зачем ранее меня не звал?!
Склонил богатырь голову свою виновато и не нашёлся чего сказать. Только Дед не распекать его прибыл, а спасать.
– Ладно, – сказал он утешающе, – чего уж теперь ворчать-то... На-ка лучше молочка испей. Парное оно, ей-ей!
Да на цыпки привстав, меж железных прутов кувшин просунул и почти к лицу Яванову посудину подсунул. Далее не достал из-за роста... Наклонил Ваня голову сколько мог, да и пригубил молочка чуток. И хоть только глоточек он глотнул, но такой прибыток силы в себе почуял, что мигом шею свою, к полу притянутую, и разогнул, ибо от этого прибытка лопнула цепь как нитка.
Попытался сходу Ваня и остатние цепи порвать, но не хватило у него мощи – те-то были потолще. Наклонился он тогда, чтобы ещё молочка хлебануть, а дедок-то невысокий, не может он толком до лица Яванова дотянуться... Но хоть голь и не мудра, зато на выдумки хитра. Захватил Ванёк зубами за край кувшина да мал-помалу, голову назад запрокидывая, содержимое и выдул. А потом башкой он мотнул и пустой сосуд через плечо швыранул.
Разбился глиняный кувшин на кусочки, а богатырь усилившийся тут как рванётся – все до единой цепи на его могучем теле и полопались.
– Ну, прощай, бугай! – развернулся тогда Правед. – Я своё дело сделал. Ты, брат, сам с врагами тут слаживай, а мне пора и на белый свет...
И к стенке будто поплыл, ногами едва пола касаясь. И когда он с Борьяной связанной поравнялся, то голову в её сторону повернул и на неё светлым духом дунул. И от того дуновения, с виду невинного, расползлись путы прочные на ней словно паутина. Ну а дедуля к стене припал да в то же мгновение и пропал. А все черти, как по команде, сразу отмёрли и прямо буром на освобождённых попёрли.
Да только, твари, опоздали – не на тех на сей раз напали!
Яваха о ту порушку уже толстенную свою клеть доламывал, а Борьяна волчком завертелась, как пантера зарычала – раз-раз-раз-раз! – и вся палаческая банда уже пластом близ неё лежала.
А тут и грозный Ваня на волю аки лев прянул. К палице своей, на полу лежащей, он метнулся – хвать её! – да в гуще врагов и развернулся. Полопались попавшиеся ему упыри, точно мыльные пузыри, а остальные в страхе неописуемом прочь отшатнулись, налево повернулись и чудовищами обернулись: кто ящером, кто грифоном, кто великаном да циклопом, а кто ещё каким лопом. И все с бронями, с булавами, с мечами – поди сладь тут со сволочами.
Но это может кто другой не сладил бы с гадами, только не Яван стало быть Говяда!
Такая в нём накопилась ярь на энти гнусные хари, что и не передать. Как врубился Ваня в гущу вражьей силы да как пошёл он кого ни попадя палицей крушить, так и стала вражья рать на глазах прямо таять. Маханул он направо – вот тебе и улица в рядах врага пролегла, налево вломил – переулочек прошибил, а вкруговую оружием размахался – площадка вокруг образовалася... А с другой стороны Борьяна меч вострый у кого-то отняла и всех без разбору им поражала. И так-то споро они вдвоём там повоевали, что очень скоро остатки недобитых врагов с позором бежали.
И остались на том буйном толковище только псевдоцарь Управорище супротив стального Явана, да подлый Двавл-змеище спроть воительницы Борьяны. Достигла битва та злейшая своего апогея, а желание сражаться у главных персонажей дошло до кульминации. Кто в схватке решающей проиграет – тот всё потеряет, а кто победит – славой будет покрыт!
Первыми сошлись меж собою Яван с Управором. Налетел Ваня на Главного Вора метеором и как почал его палицей разить да к стенке теснить, – а тот и растерялся, хотя аспидным своим мечом и зазиял. Ну а Явану до сверкания черноты и дела нету – видимо после путешествия в бездну приобрёл он к ней иммунитет.
А вслед за ними и Двавл с Борьяной оружие скрестили: Главный Змеище посохом своим свищет, а вояка Бяшка мечиной машет... Да только ушлый идеист не токмо на язык оказался речист, но и в воинском деле проявил себя сильно. Не сумела в сече умелая княжна против злодея устоять: с видимой лёгкостью он посохом чуток помахал, а потом как ткнёт ей концом под дыхало, и через пару мигов Борьяна на полу лежала да ртом воздух хватала.
Не стал Двавл время терять и Бяшку добивать – он поспешил в главный поединок вмешаться, дабы спасти увядшего братца. И удачно встрял в драку, тать: вышибил он подлым ударом сзади палицу из рук Явановых. Да, размахнувшись посохом грозно, черепушку чуть было ему не снёс. Только тот на этот трюк ловёхонек оказался и, под летящую посошину поднырнув, ногою в пашину княжине саданул. Моментально Двавл обмяк и на зад-то – шмяк. А тут уж и вот он – Управорка с подъятым мечом на Явана несётся – вот-вот его рубанёт-то!.. Однако и здесь усилка здорового выручила его сноровка: под ноги он врагу кувырнулся, и тот на Ваньку наткнулся. Мало от того столкновения ему не показалось: полетел чертяка через голову на пол и от удара с мечом расстался.
Тут уж Яваха не дал маху: быстрее быстрого он противника за ноги ухватил, над собой его раскрутил да как хряснет в сердцах об колонну. Дух поганый с того и вон! Даже колонну мощным ударом Ваня переломил и едва в сторону отскочил, как она вниз рухнула. Аж всё вокруг ухнуло.
И видит Яван, что цела ненаглядная его Борьяна; за живот ещё руками держась, на ножки она поднимается, кое-как клемается и со слезами на шею ему кидается.
– Миленький ты мой! – стиснула она крепко шею героя. – Живой! Живой!!! Уж и не чаяла я с тобой свидеться, думала – смертушка моя пришла, – а вот же мимо она и прошла, только крылышками раскалёнными задела.
Жарко поцеловал жену свою воинственную Яван, а потом глянул он по сторонам и её спрашивает:
– А где же подлюга Двавл?
– Где ж ему быть – сбежал! Хитрая змеюка знает свою науку: куснуть – и в кусты улизнуть.
– Гляди, Ванюша, – с изумлением она добавила и царскую корону, на полу валявшуюся, подняла, – это же отцова корона. Пуст, значит, царский трон!
– Хэ! – усмехнулся в ответ Яваха. – Злачное место, Борьян, подолгу пустым не бывает. Это на святые места охотников не хватает.
– Тогда власть земная по праву твоя, Ваня! – загорелись глаза у Борьяны. – Корону сию на голову водрузи – и ты царь всея Земли! В самом деле, Яван – это сколько же худа ты сможешь поправить, когда по прави начнёшь править! Лучше тебя на свете не будет царя!
И суёт Явану настойчиво символ всемирной власти.
Ну, Ваня корону ту взял, в руках её подержал, на ладони взвесил и полупоклон жене отвесил.
Да и говорит:
– Спасибо Бяша, за честь, но... не про меня сия лесть. По прави-то жить – не царям надо служить, а единому Богу, и царь в деле прави – не подмога. Скорее наоборот – тупеет под царём народ. Ну, рассуди, Борьянушка: из крохотного росточка великое дерево вырастает, а из слабого родничка полноводная река вытекает. Так и в мире: большее непременно из меньшего получается, а от великого да неправого постоянно куски откалываются... Поэтому и не возьму я высшую власть, ибо любому царству, как насильем и ложью построенному, надлежит пасть. И как там Украса предсказывала?.. Под ноги власть бросит, кто б его о том ни попросит? Так я и сделаю – от совести не отступлю.
И выпустил Яван корону из рук.
Полетел символ грозного могущества на пол, предвосхищая принципа власти грядущее падение, а когда произошло чистого злата и грязной половицы соприкосновение, то подвергся чертог невиданному сотрясению. Аж трещины широкие от места соударения побежали, могучие колонны угрожающе зашатались, а пласты отделки вниз упали.
– Бежим! – крикнула громко Борьяна и за руку потянула Явана.
Однако Яван бросился сначала колечко Праведово искать, а сыскавши его у клетки и на палец себе надев, молвил довольно:
– Нечего колечку райскому в адских юдолях оставаться – оно мне ещё пригодится!
И он палицу свою тож прихватил.
Кинулись они на выход, и едва лишь успели со двора выбежать, как с шумом и громом рухнула дворцовая крыша, а за нею и стены разрушились, и осталась на месте чертога безбожного груда руин в пыльных тучах.
Огляделись окрест супруги, а вся округа весьма обезлюдела или, если выразиться точнее, обезчертовела, ибо местные обитатели вдарились в бега. И вдобавок ко всему, какая-то у них случилась авария, и техника их чудесная из строя вышла: не летали летульчики, не ездили машины, огни в домах потушились, и ленты уличные обездвижились.
Припустили тогда наши герои в Борьянин дом, и вскоре стали им ошалевшие черти попадаться. В полной панике они с какими-то манатками в руках из домов выбегали и прочь тикали. Явана с Борьяной никто из них не узнавал и внимания на бегунов не обращал, ибо черти свои шкуры спасали. Толкотня, ор и ругань стояли везде невообразимые. Кое-где вспыхивали и потасовки с ярыми драками, ибо никто никому дорогу не уступал. За себя все стояли. Упавших не поднимали. Даже их топтали...
В общем, мрак!..
Приходилось и Явану кулаки в ход пускать и пинками и тычками дорогу себе расчищать. Палицей он не махал – и так справлялся с нахалами. Да и Борьяна от мужа не отставала: весьма изобретательно она ругалась и кулаком в хари совать не стеснялась.
На подходе к озеру ряды беженцев зримо поредели, а вскоре их поток и вовсе иссяк. Один лишь Ванька-босяк да Борьяна неуёмная достигли наконец голубого водоёма. Посередь озера высилась мрачная Двавлова пирамида, как и прежде очковитая, а зато Борьянина гостювальня не имела прежнего вида: ужасной она была и сплошь закопчёною. И ворота были растворены, точно рот у дома был разорван.
Побежали наши воители по мостку к их обители, внутрь зашли и страшную картину там нашли: на полу лежали порубленные тела. Делиборза Яван узнал, Давгура, великана Сильвана. Худые, худые дела...
– Эх, отважные мои ватажники, – загоревал Ваня, – положили вы головушки свои в схватке! А я в роковой час вас не спас – как квашня вишь расквасился.
А Борьяна ему и говорит:
– Не тужи сильно, Ваня, не пропали твои друзья без следа, а воссияли из ада восвояси. Семь светлых стрел я вижу, кои ввысь сверкнули после тел своих гибели. Так что живы они, но не в нави и яви ныне обретаются, а, выше поднимай, в обители светлой прави.
Удивился такой вести Яван:
– Как так семь? Пятеро их тут должно быть-то. Откуда ещё двое взялись?
– Буривоя чую я присутствие, пришёл он на помощь твоим ватажникам и смертью героя тут пал. А ещё и Бравыр к ним присоединился и тоже тут в битве погиб.
Склонил голову седую Яван и поклон низкий погибшим отвесил, а потом добавил уже значительно веселее:
– Эх, не верил я до конца в предательство Буривоя, вот не верил и всё! Ну а то, что и Бравыр к нам присоединится, стало для меня неожиданностью.
Раскаялся таки, неуёмный бунтарь, уразумел наконец, что надо идти по пути прави. Слава те Ра!
И за палицу решительно хватается.
– Пойду пирамиду чёртову крушить! – заявил он Борьяне. – И душемолку остановлю на фиг!
Да хотел было туда уже ломануться, но княжна его удержала и такие слова сказала:
– Не нужно, Ванюша, спешить да трудное дело вершить тщиться – а дай-ка я сперва возьму одну вещицу...
И оставив мужа у входа, наверх она дала ходу и там долго не задержалась: не успел Ванюха и ворохнуться, как шустрая егоза уже бежала обратно.
– А теперь пошли, – она меч со стены схватила. – На лодочке поплывём на остров пирамидный, и чё там да как – будет видно.
Так они и сделали. Вернулись на набережную, лодочку отыскали, в неё поскакали и в путь отчалили. Да пришлось им в пункт назначения с прибытием повременить, а то система самоходная приказала долго жить. Поэтому Борьяна на носу гребла руками, а Яван на корме палицей подгребал, и едва они к острову подплыли – осталось всего саженей тридцать, – как вот что приключилось: из-под земли возле пирамиды, словно некие волшебные грибы, поднялись вдруг устройства невиданные – боевых роботов рать. Выстроились истуканы в два ряда, а сами огромные, мощные, и у всех в клешнях огнемёты. Бессердечные, короче, машины: не струсят, не побегут, не дрогнут, и всё, что им прикажут – исполнят; подняли они свои огнемёты, и пальнут уже вот-вот...
А тут Борьяна возьми и выхвати из-за пазухи дудку да и заиграй на ней мелодию чу́дную. Громко и вдохновенно свирель волшебная в устах Бяшиных запела, и истуканы грозные тут же заколодели. Вырубилась вчистую железная рать, зато Яван с Борьяной весьма обрадовались – им-то лишних хлопот было не надо. Подгребли они к набережной, лодку оставили, на твердь сошли и меж рядов застывших машин к лестнице двинулись.
– Эй, вы! – вдруг окрик сверху послышался. – А ну стоять, где стояли, ангелы! Ни шагу вперёд – урою уродов!
А это, оказывается, удравший Двавл на площадке вышней появился и несвойственным для себя рыком разразился.
Остановился Яван, голову вверх задрал, на своего неприятеля глянул, «хэ!» сказанул и к лестнице шагнул.
– О Световор, господине вселенной! – воззвал адский жрец и посохом потряс остервенело. – Молю тебя, умоляю – покарай сих негодяев, убей адотатцев, не дай в мрачные мрачных им пробраться, испепели их, сожги!!!
Опять Яваха остановился и на кликуна сурово воззрился. И решил он с восхождением погодить, потому что любопытно ему стало, что далее будет происходить...
А ничего и не случилось: ни молния с неба не жахнула, ни гром не ахнул, ни огненный луч не полетел. Видно, Световор перуны свои метать не захотел, потому что, невидимый даже для Двавла, покров небывалый в этот миг простёрся над Яваном, и стало вселенскому Чёрту ясно, что Ра ему сына тронуть не даст.
Постоял озадаченный Двавл в позе театральной, постоял, а потом плечами пожал и затылок себе почесал. Вот же ещё, думает, и безобразие – ну нету с верхами связи!..
А тем временем Яван путь свой продолжил, и Борьяна за ним увязалась, на месте стоять не осталась. Увидал Двавл, что не подействовала его козырная магия, побагровел он от злости, как рак, и принялся сжатыми кулаками пред собою махать да чего-то бормотать непонятно. И от тех заклинаний отчаянных вырвались у него изо рта клубы чёрно-красного чада.
И на сей раз злодейское чародейство подействовало: высоко в небесах появились вдруг три огромных шара, которые вниз стали быстро опускаться и кровавым цветом наливаться.
– Яванушка, берегись! – воскликнула тревожно Борьяна и мужа за плечи обняла. – Это страшные шары – в них сила ада! Держись, Говяда!
И только она это промолвила, как Яваха на всякий пожарный палицу над собой поднял, и в то же мгновение три чудовищных молнии небо над ним прорезали, и все одновременно в палицу подъятую врезались.
И... и... в ней и пропали.
Без остатка волшебная палица силу зла в себя вобрала и, разгоревись неслабо, ладони Явану жечь стала. А он возьми её в песок и воткни – чтобы металл земля остудила. А из-под земли вдруг гул сильный послышался, потом только толк – тряхануло их нехило, и почва у них под ногами аж заходила.
Ну, Яваха ждать-то не стал, оружие из земли выхватил, другой рукой Борьяну подхватил и бегом к лодке припустил ради их спасения. А на острове уже бушевало землетрясение, будто на чертовскую силу ядовитую сама земля отреагировала обидою. И не устояла пирамида, содрогнулось вдруг прочное здание, рухнула золотая макушка вниз, и от удара об основание на мелкие кирпичи она развалилась. И основание вслед за макушкой стало трескаться да рассыпаться...
Не прошло и минуты, как на месте творения сего гордого осталась лишь кирпичей груда бесформенная. И эти кирпичи, из грешных людей сформированные, стали вдруг громко лопаться, нещадно притом дымя и воняя. А последней лопнула треугольная Жадиярова форма, и заблудшая его душа в другие веси ушла. Тут и ветерок подул как по заказу, и сдул с острова эту заразу. А на месте огромного здания лишь ровная площадка осталась, и только в самой её серёдке отверстие в земле зияло.
– Ого-го! – впечатлённый Яван обрадовался. – Вот так обвал! И вот тебе пирамида вечная, слепленная безупречно... Всего лишь обман адский.
И взявши ошарашенную Бяшу за руку, повёл он её к зиявшему провалу.
– Мне ещё кое-что доделать надо, – он ей сказал. – Не будь я Яван Говяда...
Подходят они к дырище, туда заглядывают – точно! – и в самом деле шахта подъёмника вниз куда-то ведёт, до дна вероятно. Покумекал Ваня, покумекал – что ж, делать нечего, – придётся ему в провал по канату спускаться, ибо иного пути не было. И палицу придётся здесь оставить – не в зубах же её тащить…
Наказал Яван Бяше у дыры его ждать, а сам за канат хвать – и стал спускаться. Лезет туда, лезет, спускается-спускается и слышит – гул ужасный снизу поднимается. Видно, питание автономное было у агрегата сего душеломного.
Наконец долез Яван до окаянного дна, пригляделся и видит – тот же кровавый свет исходил от окна, а сбоку поодаль – клетка была для приговорённых. Попривык Ваня к полумраку, посмотрел в ту сторону пристальней и диву дался, ибо сидел в ней один-единственный заключённый – бывший Царь Чёрный, а ныне карлик никчёмный, чёрной тоской удручённый.
– Ба-а! – воскиликнул Яваха. – Да никак это сам царёк! Ничего себе получилась развязочка... За мною должок, величество адское, ведь долг платежом красен!
И к клетке пошёл вразвалку.
А царёк его испужался, в комок сжался, сам фырчит, рожи корчит и своим безумным видом Ваньке башку морочит. Ну а наш богатырь пруты толстенные разогнул неторопливо, в клетку молча шагнул да паяца этого к себе за грудки притянул. Карлик знамо завизжал, Ванькин кулак обкусал, взвыл дико и даже обмочился. Видать взволновался, решив, что Яван ему мстить собрался.
Только Ваньша о мести и не помышлял, а, взяв за плечи вредного карлу, стиснул его слегка, от себя отстранил, посмотрел на стервеца с укоризною да и говорит:
– Ты меня давеча за тем посылал, чего в мире не знаешь. Так вот, Черняк, я тебя не обманул и это нечто добыл – с тем и назад вернулся. А теперь на́ – получай, царь, от мира подарок!
И, приблизив верещащего царька, крепко Ваня его обнял и какое-то время в объятиях подержал.
Сперва-то царишка задёргался отчаянно и забился необычайно, а потом понемногу затих, угомонился, ну а под конец операции и вовсе перестал он сопротивляться и, точно мертвяк, весь обмяк.
Отнял Ваня его от себя, глядь – а бывший царь горючими слезами плачет.
Поставил Яван карлу на ноги, а Черняк за лицо схватился руками, тяжко застонал и на колени пал. И понял Ваня, что проняло закоренелого чёрта насквозь, ибо вернулась в его сердце изгнанная оттуда совесть.
– О, Боже мой, о, Боже! – прорвались у царя сокрушённые слова. – Как я так мог?! Почему?! Зачем?! За что?! О-о-о!!!..
Даже у праведного Явана от вида горчайшего сего покаяния навернулась на очи слеза. Не ожидал он такое увидать, не мог себе и представить, что у этого от прави отступника, за Божью черту переступника никчёмная вроде для чертовского племени совесть так сильно душу проест. Ан нет! Оказывается, перед лицом совести бесчувственных и равнодушных нету, ибо не сыскать наверное ничего больнее, чем когда совесть в сердце заговорит у злодея.
– О, Боже мой, о, Боже! – совсем тут царька кручинушка скукожила. – Прости!.. Прости сына своего дурного! Дай мне возможность зло моё искупить, дай силы и разума из источника правды испить! О, Ра! Не могу больше, умира-а-а-ю...
И, оторвав ладони от лица своего, вознёс седой карлик их над собою с какой-то щемящей мольбою, а потом напрягся весь, перекорячился, и узрел поражённый Яван, что у кающегося старца от слёз едких ослепли глаза... Тут вдруг ветром на них повеяло жарким. Замер уродец коленопреклонённый, застыл, замолчал, а ветер огненный лицо ему иссушал...
Вот минута роковая пролетела, слёзы раскаянья испарились без следа, и на виду у Явана превратился в каменную статую жалкий и убогий старец, – и корчилась пред богатырём праведным окаменевшая мольба, и застыл на устах у статуи окаменевший крик.
И великий порыв в душе Явана возник. Поглядел он окрест пылающим взором и увидел кольцо от пробки. С твёрдостью неотвратимой подошёл молодец пересиленный к отверстию мучилища, захватил руками за тяжёлое кольцо и потянул его вверх. И столько силы в теле его мощном теперь кипело, что и представить Ваня не мог доселе. Всю тягу земную он кажись поднял бы, если бы ухватиться за неё ему дали.
И пошла пробочка окаянная, поддалася, силушке правой подчинилась – и с громким хлопком из дыры она выскочила. Бросило силача Явана наземь, и стало ему непередаваемо радостно.
Вот сидит он на пятой точке, переводит усталый дух, от трудов непосильных отдыхает и слышит вдруг, как чудовищная махина внизу остановилась, страшные скрежет и вой прекратились, и ударил из скважины, им отверзтой, поток светящихся теней, сопровождаемый тихим шелестом.
Долго ли, коротко сиё чудодействие длилось – трудно сказать. Или это от перегрузки ему помстилось? Кто знает...
Наступила совершенная тишина, и посмотрел Яван на всё окружающее, как после долгого-долгого сна. Как словно заново он родился... Разлилась в душе его такая благодать, такое в ней наступило спокойствие, будто какой-то давний-предавний долг, гнётший душу его, он теперь отдал. Встал очумелый богатырь на ноги, к окну стекловидному подошёл качаясь, вниз глянул и видит, что пустым-пуста стала страшная яма – агрегат сволочной оказался раскурочен, и разлетелись души пленённые прочь.
– Да не восстановится проклятая душемолка никогда! – с верой необычайной в душе Ваня прокричал. – Никогда! И нигде! Всё! Я сказал! Именем Ра!!!
И едва лишь проорал он имя Бога, как вздрогнул под ногами у него пол, и что-то зашуршало, будто в огромную ёмкость нечто текучее насыпалось... Да точно же – то ж был песок, невесть откуда там взявшийся и с невероятной скоростью в ямищу насыпавшийся. В самые короткие сроки он ёмкость бездонную заполнил и даже стекловидное окно вышиб вон.
Яваха-то сначала отскочил прочь, а потом к наполненной яме подошёл, взял песку полную горсть и стал из ладони его просыпать, на струи задумчиво глядя.
И в это время душераздирающий крик в благоговейное Яваново сознание проник и тут же сменился шумом схватки, стоном, хрипением – звуками страшного борения. Очнулся Яван, встрепенулся и барсом к канату метнулся. Да и полез, что было в руцех мочи, для оказания жене своей помощи. И быстро наверх он взобрался, как будто на руках туда забежал.
Выскочил из дырищи наш богатырище, глядь – огромный змеище Бяшу кольцами стиснул и с дьявольской силой её душил. Ну вот-вот жизни её лишит!..
– Ах ты, проклятый удав! – вскричал Яваха. – Ну, у меня погоди!
И с холодной ярью в душе на врага кинулся.
Ухватил Ванята ручищами клещеватыми удава и принялся методично узлы его тела расплетать. А удавище посопротивлялся-посопротивлялся, а потом поддался да на самого Явана перекинулся. Оплёл поперёк тулово его богатырское, жал-жал, тиснул-тиснул – норовил удавить героя, да только зря, ибо не с тем он, змеюка, связался. Не поддался ворогу Ваня, стал он как скала, литые мышцы напряг, за душившую его колбасу ухватился, просунул под неё свои ручищи, а потом – р-раз! – да напополам гада и разорвал, будто гнилую вервь.
Забился, задёргался поганый червь, в агонии заколотился, а Яваха тою порою окончательно от его колец освободился, поднял над собой тело извивающееся да об землю им брякнул.
Но едва лишь произошла тулова и земли стычка, как вылетел из змея здоровенный сыч – чёрный такой, глазищи красные – захохотал он ужасно и в небо шарахнулся.
Времени попусту не теряя, подхватил Ваня с земли камень, с плеча размахнулся да пулей в гада его метнул... Ну чуть-чуть не попал – промахнулся! А сычина в сторону шибанулся, дугу в воздухе описал, ещё громче захохотал и... пропал.
– Кто это был, а? – спросил Яван у поднимавшейся с земли Борьяны. – Вот же мерзкое существо!
– Двавл – вот кто!
Посмотрел Ваня задумчивым взглядом вдаль, головою покачал и такие словеса сказал:
– Ну что ж – выиграли мы у сего злыдня сражение, но не нанесли ему ещё поражения. Будут у нас схватки впереди. Ну, подлый Двавл – погоди!
А в это время с неба раздалось шипение старнное. Глянули Яван с Борьяной на пекельные небеса – мать честная! – а огромные шарищи собой-то перекалились и красными сделались, словно гигантские лампы. А потом только – бам-бам-бам! – все три сферы с невозможным грохотом взорвались и яркими брызгами вокруг разметались.
– Ложись! – не вяло Ваня взгорланил, и, свалив наземь Борьяну, телом своим её накрыл.
И, надо сказать, вовремя, ибо целый град раскалённых плевков по всей округе разлетелся. Даже озеро, будто сковородка, зашипело, остужая жгучих осколков жар, а в городе начался кошмарный пожар: все до одного здания бурно там занялись и языками пламени объялись. Даже на Явана с дюжину огненных пулек упало, да только вреда они ему не нанесли, поскольку шкура и бронь его спасли.
Ух и быстро же град горел! Ух и страшно пламень ревел! И все творения чертовского племени: роскошные дворцы, надёжные замки, высокие небоскрёбы и гордые башни – всё сгорело точно бумажное. Хорошо ещё, что на голом их острове нечему уже было гореть, а то и нашим влюблённым было бы не уцелеть... В общем, минуло минуток пять всего или семь – пустым-пустёшенько стало совсем, и лишь на горизонте гряда гор вздымалась. Ну совсем ничего от чудо-городищи не осталось: ни дыму, ни сажи, ни горсточки пепла даже. Лодочка их и та пропала, и стольного града – как не бывало.
Такое диво узрев, Ваня аж свистнул, а Борьяна руками всплеснула в недоумении, ибо в полном пребывала оторопении.
– Вот это пал! – Яван сказал. – Да-а... Не зря, значит, говорят, что всё лядащее не настоящее, а лишь мнящееся, и воистину мир наш – грёза. Пустота он для взгляда тверёзого.
Однако мудрованием сыт не будешь. И Яван с Борьяной не желали более на острове сём торчать, порешив до Борьяниного островка вплавь добраться, потому как поняли вдруг ясно, что остались в этом краю негостеприимном совсем одни.
Рейтинг: 0
476 просмотров
Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Новые произведения

