12. Как Яван из сладкого капкана выкарабкивался
14 августа 2015 -
Владимир Радимиров

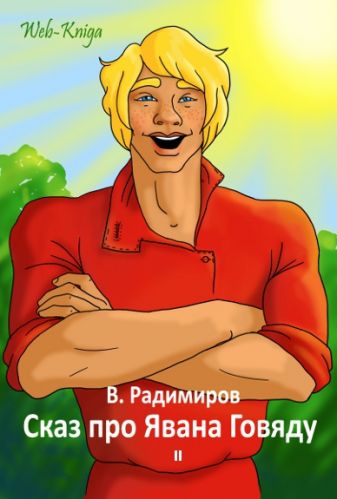
Долго ли, коротко ли почивал у себя Яван, то неведомо, да только снится ему странное сновидение. Ваньша во сне сам себе удивляется, ведь дотоле никаких снов он не видывал, апросто-напросто вырубался напрочь и всё. Это такая особенность в мире навьем наблюдалася: никаких тебе ночных грёз, ибо сама жизнь в местах сих невозможных больше на грёзу воплощённую была похожа.
А тут, значит, сон… И такой-то чудной, ну словно наяву всё происходит... Видит себя спящий витязь в некоем месте загадочном, не таком, как у Навьяны, а будто на белом свете где-то. Кругом него народец кучкуется в количестве немалом: и стар тут, и млад... Не только мужики с бабами, но и дети. Богатые и бедные... Кого только нету!
Судивлением умильным окрест себя Ванюша оглядывается и с великой радостью примечает, как все люди собравшиеся друг дружку привечают: один другому сердечно улыбается, кланяется соседу почтительно да крепко с ним обнимается. Нет вообще никого, кто бы хмурым там хаживал, скучал али других чурался. В доску просто все тут свои.
И понимает Ваня отчётливо, что это всё люди с родной его Земли, и такая чувствуется любовь меж ними, что невозможно и передать, – наяву такого нет поди и в мечтах.
И у Вани тоже в душе ликование. Так сильно он вдруг каждого ближнего человека полюбил, так досконально оценил его неповторимость, что понял отчётливо: не надо ему никакого бога более! «Нету никаких нигде грешников! – в голове у него уверенность долбилась. – Нету заблудших! Надо просто всем людям каждого встречного лучше понять, и сразу всё будет славно!.. И как я до такого простого понятия не додумался раньше – это же и есть вера настоящая!»
И подходит он к человеку некому, спиною к нему стоящему. С любовью братскою берёт его Ваня за плечо, легонько к себе поворачивает, и уж было в объятия его заключить намеревается, – да на месте поражённый и застывает. Ибо то корчмарь, им убиенный, стоит-ухмыляется, глазом своим тигриным щурясь да пастью щербатой щерясь.
– Здравствуй, свет Яванушка, дорогой ты мой дружбанчик! – отвесив поклонец Ване, гнусаво прохрюкал корчмарь. – А не желаешь ли часом на постельку баиньки? Постеля-то готова – сам стелил. Мягкая-я-я! Пух да и только. Х-хэх!
Аж отшатнулся Яван от гнусного призрака и невольно глаза прикрыл, чтоб не видеть более наглой этой хари. И слышит он, как разбойник навный смехом разразился издевательским. Опустил тогда руку Яван и глянул опять на мёртвого негодяя, словно ожидая, чтобы тот пропал и отправился к чёртовой своей бабушке, – но корчмарь торчал на месте, и не думая никуда отправляться. Даже наоборот, он ещё ближе к Ване придвинулся и, распростёрши ручищи свои огромные, заорал во всё горло:
– Обойми меня, витязь благородный! Будем на век братами с тобою, ага!
Яваха невольно от него попятился, а тот не отстаёт: прижал ручищи мохнатые к груди и заныл тоненьким голоском:
– Помилосердствуй, доблестный воин – я ж не по своей-то воле!..
Тут уж Яван не выдержал более, отпихнул он от себя ненавистный морок, и тот наконец растаял, только ещё какое-то время противный голос его из пустоты раздавался:
– Ишь, сосунок ещё выискался! Брезгует нами, понимаешь! К нему простые люди со всею душою, а он!.. Фу ты ну ты, какая цаца нарисовалася!
И невидимка громко расхохотался.
Повернулся Яван в замешательстве и хотел уж было куда глаза глядят бежать, а тут видит – старичишка навстречь ему семенит невзрачный. Идёт себе старичок, улыбается ласково, а в руке кружечку несёт с напитком дымящимся.
– Эй, телёночек! – обратился дедок к Явану. – Накось выпей чайку лечебного, сваренного по моему рецепту! Дюже, скажу, он полезный, не пожалеешь! Ей-ей, говорю, не пожалеешь! Хе-хе!
Потрясённый Ванёк вдруг Ловеяра коварного в старичке том узнаёт, но, словно завороженный, медленно кружку у него принимает, ко рту её подносит и... в сомнении останавливается.
– Ну чё стал-то, амбал? – насмешливо старичонка на него закричал. – Пей, соколик, пей – до дна пей, не тяни, – а лучше в себя чаёк потяни. Узнаешь тогда, как мы все тебя любим – ну прям до зарезу обожаем! Ха-ха-ха-ха!
Разгневался не на шутку витязь, да всю ту кружку с пойлом ядовитым в рожу гадкому старичонке и выплеснул, а сам повернулся, голову руками обхватил – и бежать пустился.
Долго бежал Яван, удаляясь от места того неприятного. И чем дольше он бежал, тем меньше у него любви к миру в сердце оставалось, и тем сильнее он к Ра любовью разгорался.
Наконец перестал он бежать, остановился, окрест глянул, а вокруг пустыня лишь голая раскинулась – никого и ничего не было рядом. С укоризною подумал тогда Яван: «Да как же я мог любить этих ничтожных людишек, жалких, подлых и мелких, кои копошатся на земле, словно куча червей, всё загаживая и всё вокруг пожирая! С какой ненавистью мы себе подобных уничтожаем, с какой страстью мучаем их и терзаем! Мерзкие, глупые, жадные, себялюбивые твари!..»
Слёзы горькие у Вани потоком из глаз побежали, смывая с лица жёлтую пустынную пыль. И сердце в груди у него забилось сильно-сильно. Зато теперь он наконец прозрел – прозрел к единому богу! С трепетом душевным он вдруг понял: есть лишь одна истая, праведная и нерушимая любовь – любовь к богу милосердному, всемерно пекущемуся обо всех своих творениях.
Посмотрел Яван вверх и вперёд пылающим взором – и о-о-о! – узрел Ра он там, ярче тысячи солнц воссиявшего! И вроде бы не так уж далеко он был, восхищающий к себе зовом неизъяснимым.
Умилился Ванюша до глубины души и страстно на зов этот могучий он потянулся. В экстазе почтительности уничижительной и покорности доверительной пал Яван на колени пред сим образом, а потом рухнул он ниц и пополз, благоговея, к Ра, стараясь приблизиться, насколько это было возможно, к объекту своего почитания.
Долго он полз вперёд, преисполненный страха божия, – аж даже приустал малость. Наконец не выдержал Ваня, остановился и обратил лицо своё грязное к пресветлому лику.
И вот же неожиданность! Ра вроде как удалился от него и собою померк. Что за диво такое?! Или это ему померещилось?
Опять уткнулся Яваха в песок горячий и с удвоенной прытью пополз к Ра. Полз-полз, полз-полз, и совсем уж из сил повыбился. Вновь тогда он остановился, к богу взор устремил – ба-а! – а Ра ещё дальше от него отдалился и ещё более светом своим умалился.
В недоумении полнейшем и с горечью в душе поднялся Яван с колен и растерялся тут уж совершенно. Такой жуткой минуты не испытывал он никогда. Показалось ему вдруг, что он единственный на белом свете только и существует, а всё остальное – лишь тени обманчивые да бескрайняя вокруг пустота... И в тот же самый миг, откуда-то изнутри, из самого сердца, кажись, дивный засиял ему свет, совсем даже не яркий, а тёплый, ласковый и родной, – и несказанно притом живой.
И голос, невероятно какой-то знакомый, тихий такой да спокойный, у него в голове вдруг зазвучал, прямо в оголённое Ванино сознание впечатываясь:
– О, сын мой возлюбленный – не гонись зря за целью призрачной! Ведь любовь вселенская и в едином живёт и во множестве! Единый Себя через множество любит, а множество лишь через единство себя полюбить сможет! Иного же не дано...
Тут свет мягчайший медленно меркнуть начал и вскорости полностью угас, а у Явана в ушах ещё долго эхом звучало: «Иного же не дано... Иного же не дано... Иного же не дано...» Покуда, наконец, и этот отзвук чудесный из мыслей его не исчез.
...Проснулся Яван на постели своей мягкой весь сплошь в поту лихорадочном. Сперва-то он лежал, словно олух, не помня как его зовут, и где он находится. Полежал он чуток, будучи в прострации, да с мыслями помаленьку и собрался.
И вернулась вдруг в сознание его память – вся память без остаточка, коя с рождения в нём отпечаталась!
Покумекал тогда мал-мало Ваня, то да сё в уме своём сопоставил, да к себе самому и обратился с такими словами:
– И какого рожна дорожка кривая тебя сюда занесла, а? Какой ты, к чертям, Яван Говяда, коли упился сладкого яда? И чего ты здесь лежишь, словно под ёлкою шиш? А ну-ка, гад – вста-а-ать!!!»
Да с постели катапультированно подскакивает.
С удивлением необычайным, точно впервые всё видит, огляделся ошарашенный витязь и на обстановку роскошную воззрился. Повращал Яван выпученными буркалами, икнул пару раз и принялся машинально по комнате шарить, шкуру львиную и палицу ища. В углах поискал – нету, в шкафах посмотрел – тоже нет. Всё кругом обшукал, а не нашёл ни фига, и среди поисков этих, этак случайно, глянул Ваня на зеркало, висевшее на стене. Он в то время как раз стоял на четвереньках, поскольку закоулочки осматривал последние.
И узрел Ванька в зеркале своё отражение, и даже сперва онемел. Право слово, видок у доблестного воина был ещё тот. Привстал Яваха с пола, приблизился к зеркалу-коверкалу на ватных ногах и вперился в своё отражение во все-то глаза. А из зазеркалья на него уставился... Не, не витязь неуязвимый. И не могучий богатырь. И уж не Ра сын-то!
Ферт пялился на Ваню смазливый. Ага! Волоса у этого повесы были длинные, в красно-малиновый цвет окрашенные, и даже в косички заплетённые; в обоих ушах у него по большой серёге висело в виде змей, причудливо изогнутых, по виду золотых и самоцветами украшенных; а на шее нечто вроде цепи лежало, или скорее ошейника, опять же из золота сделанного да из драгоценных каменьев. Ну и лицо возмутило Ваню не менее, а вернее мордень – всё табло его раскрашено было очень: и глаза, и брови, и губы, и щёки... Даже на подбородке массивном и на лбу широком и то посверкивали какие-то блёстки.
Оглядел себя Яван, словно не веря глазам: на пальцах его с ногтями цветными да длинными перстни массивные нанизаны, на плечах рубашка голубая из тончайшего материала накинута, а всё тело умащено было какой-то дрянью и до того сладко и приторно пахло, будто он был девицей-белоручкой, а не парнем могучим.
Чёрт-те что короче! Позор!
Взбеленился тут Яванище не на шутку. Размахнулся он, да так треснул кулачищем по зеркалу, что разбежались по нему трещин змейки. Исказилось изображение ненавистное, раздробилось и осколками на пол осыпалось. А Яван тигром разъяренным бросился в ванную и первым делом украшения с себя посрывал да в углы пошвырял. А затем наполнил он ванну водой горячей, плюхнулся туда, и давай себя мочалить...
Долго он там возился, но всю навную «красоту» с себя смыл. Расплёл Ваня косички затейливые, гребнем их расчесал, а власа-то длинные – аж до низа лопаток ему достали. «Ишь какие длиннющие вымахали! – удивился он. – Давненько видать я в этом «раю» чертячьем жизнь прожигаю! Вот те и три дня...»
Одел Ваня халат, причудливыми узорами расписанный, и вон из спальни вышел. Приходит в гостевую залу шагом размашистым и громовым голосом Навьяну призывает.
Не долго милаху кликал-то. Вот бежит и она, по виду весьма встревоженная. Сама, очевидно, только что со сна: в рубашечке лёгкой, сквозь ткань которой тела её очертания просвечивали, густые волосы гривою по плечам развеяны, а в глазищах вопрос проглядывается и явное недоумение.
– Что, что случилось, Ванечка? – остановившись и всплеснув руками, вопросила Навьяна. – Ты же сам на себя не похож прямо!
– Ты права, Навьяна! – гневно отвечал ей Яван. – Я и в самом деле не похож на себя ныне! Не иначе как слегка изменился...
Для убедительности руками он красноречиво в стороны развёл и продолжал уже несколько поспокойнее:
– В какую только сторону – вот вопрос! Я полагаю, что в непутёвую... А ты как считаешь?
И уставился на волшебницу нави тяжёлым взглядом стальных своих глаз.
Но Навьяна не смутилась нимало, взгляд Ванин с твёрдостью выдержала, а затем пожала плечами и уселась спокойно в кресло, а Явану на другое креслице указала, после чего Ваня, не сводя взора ярого с лица Навьяниного, присел тоже, на спинку откинувшись и ногу на ногу закинув.
– Ну так как же, Навьяна, – ещё раз спросил он, – нравится тебе мой видон?
– Да, – ответила та. – Я, Яванушка, полагаю, что всё идёт как надо, и чему быть суждено, тому быть и должно.
– Больно тёмно изъясняешься, – покачал головою Яван. – Это как же понимать тебя прикажешь?
– А так, милок-соколик, что я ведь тебя не неволила – ты сам у меня остался, добровольно. Разве, скажешь, это неправда?
– Хэ! И одурел я тоже добровольно от зелья твоего любовного?
– А разве тебе было плохо? Побойся, Вань, бога! Наоборот – хорошо, очень хорошо...
Вздохнул Яван, посмотрел на чаровницу сочувственно и тоном убеждённым молвил:
– Может быть это и так, только ваш навий «рай» – не для меня... Ухожу я, Навьяна!
– Но почему, Ваня, почему?! – с ноткой волнения душевного воскликнула волшебница. – Не понимаю я... Оставайся у меня и далее! Будешь в ладу вечно жить. На что тебе подлый и вредный мир?
Долго не отвечал Яван.
А потом глянул он Навьяне в глаза и такие слова ей сказал:
– Не по прави будет, Навьяна, чтобы сильный да знающий свой отдельный «раёк» для себя сколачивал, а на сирых и слабых с высокой башни плевал, несовершенство мировое презирая. Не для того нам мощь дана, чтобы себя лишь холить, а всех прочих в кабале неволить... Надеюсь, милая, ты чинить препятствия мне не станешь? А если станешь, то предупреждаю: зря это!..
Чародейка не отвечала. Закрыла она глаза свои, опахала, и словно там застыла. Задумалась глубоко, видно... Наступила тишина. Только птички пышнопёрые пели сладко где-то неподалёку, и ласковый ветерок шевелил Ванины волосы.
И тут вдруг – фур-р-р! – рядышком фонтанчик струйный прозрачной водой забил-зажурчал, и откуда-то, словно издалека, музыка струнная зазвучала, звуками своими чарующими сердце Яваново размягчая.
– Слушай, Навьяна, – прервал Ваня затянувшееся молчание. – Последний раз повторяю – мне ждать-то более недосуг – ухожу я!
А Навьяна, не открывая глаз, улыбнулась мягко да и отвечает ему загадочно:
– А отсюда нельзя уйти, Ваня – назад ведь дороги нету. Ну а если вперёд?.. Не знаю, дерзнёшь ли?
– Что за шутки ещё такие, Навка! – вскричал Яван чуть ли не в ярости. – Перестань говорить загадками!
– А я и не шучу, Ванюша, – всё так же спокойно продолжала та. – Ты же знаешь – я на вульгарный обман не способна. И к насилию грубому душа моя не лежит. Ну а если ты считаешь, что я тебе какое худо причинила, то можешь, не мешкая, в рожу мне плюнуть. Клянусь, не обижусь! А ежели, Вань, ты так не считаешь, то послушай, что я тебе скажу, в последний раз послушай…
Яваха на месте сидеть тогда остался и, очевидно, плевать в Навьянину рожу вовсе не собирался.
– Ну – я слушаю... – хмуро он сказал.
– Ты ныне, Вань, добровольно должен решение принять судьбоносное! – отчеканила Навьяно твёрдо.
– Да-а? Это какое же, интересно?
– А вот видишь кубок сей прелестный? – спросила его красавица и, открыв наконец прекрасные свои глаза, на сосуд рубиновый ему указала, стоящий на столике подле них.
– Вижу!
– Выпей, Яванушка, напиток перехода, только что мною для тебя изготовленный, – проворковала принцесса навья. – Выпей сей же час – и ты свой путь вновь обрящешь!.. Вот только вряд ли ты положению своему обрадуешься. Ну да на то воля твоя, и я тебе более не товарка.
Скривила Навьяна губы в горькой усмешечке и продолжала голосом странным:
– И признаюсь тебе напоследок, что полюбила я тебя, Яван Говяда! И в мыслях я, Ванюша, плохого тебе не пожелаю! Бабка мне сейчас внушает, чтобы я морок на тебя навела, но я того делать не стану, потому что... непонятный ты для меня человек, Ваня. Есть в тебе нечто... загадочное, что даже для меня остаётся тайной, и эта тайна надежду какую-то в душе моей рождает, светлую и далёкую, от коей сердце в груди ёкает... Пей, Ваня, пей и... прощай! Не свидимся мы с тобой более никогда.
Не ждал Яван от навьей волшебницы таковых слов сердечных. Глянул он удивлённо на прекрасную чародейку, а у ней из угла глаза слезинка выкатилась алмазная да скатилась, сверкая, по щёчке её румяной.
Схватил он тогда кубок бестрепетной рукою, подскочил на резвые свои ножки и хотел уж было выпить то зелье, не мешкая, да тут же и приостановился, затем подошёл решительно к Навьяне, и, приобняв деваху, в губы алые поцеловал её жарко.
Потом выпрямился наш витязь, взболтнул в кубке жидкость золотистую, очами засверкал и сказал:
– Прощай, Навьяна-краса! Спаси тебя Бог! Ура!
И выпил залпом зелье искристое.
Рейтинг: 0
624 просмотра
Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Новые произведения

