Циклы Кондратьева. Человечество Стоит на Пороге Глобальных Конфликтов, Мировых Войн и Революций. Часть 3 (незаконченная)
13 июля 2025 -
Перфильев Максим Николаевич

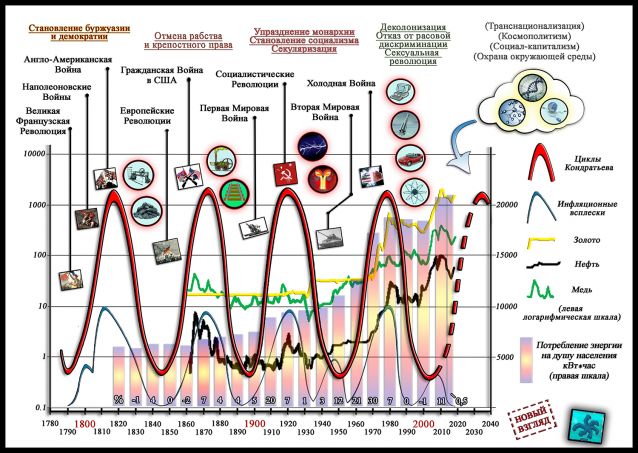
[Эта часть полностью не закончена. Когда она будет закончена - я не знаю. Поэтому публикуется, как есть. Однако основные выводы по ней сделаны и написаны. Также закончена следующая - четвертая - часть. Предыдущие части можно почитать у меня на странице]
Третья Волна [не закончено]
Первый Официальный Мировой Конфликт и начало Глобального Передела
Если во второй половине 19 века мир наблюдал множество мелких и средних конфликтов, то в начале 20 столетия все противоречия между странами вылились в один крупный – Первую Мировую Войну. Однако начать я бы хотел не с этого.
Становление Социалистического Движения на Западе
Советские коммунисты наивно полагают, что социализм был изобретен в России-СССР. Ага. Конечно. На самом деле социалистические идеи появились еще на заре капитализма, и изначально они были призваны уравновесить дисбалансы, диким капитализмом вызываемые. Еще в 16 веке английский государственный деятель Томас Мор написал книгу “Утопия”. В ней он подверг критике явления огораживания – когда землевладельцы, преследуя цели обогащения, превращали общинные пахотные земли в пастбища и начинали разводить на них овечек (шерсть приносила больше прибыли). Крестьяне при этом сгонялись с общинных земель и превращались в нищих, в лучшем случае в городских фабричных рабочих, вынужденных трудиться в довольно тяжелых условиях. Мору было очень жаль этих крестьян (знаменитое “овцы поели людей”). Правда, одновременно с этим несчастных, сжигаемых на кострах инквизиции, ему почему-то жаль было не очень. Так или иначе, в “Утопии” Томас Мор впервые описал социалистическое общество (пусть и со своими нюансами), а также поднял вопрос о защите трудящегося класса. В дальнейшем коммунистические идеи получили распространение в период Английской Революции в середине 17 века – их активно распространяли диггеры (копатели). Как видно, началось все не в России, а в наиболее развитой Англии. В России на тот момент времени даже не подозревали еще о том, что такие воззрения где-то вообще существуют. Позже коммунистические идеи отстаивались низшими слоями общества во время первой Французской Революции (рубеж 18-19 вв.). А в последующих революциях Франции в 19 веке уже имели место быть вооруженные восстания рабочих, приводящие к тысячам смертей. В России тогда еще даже не отменили крепостного права, никакого рабочего класса в стране, по сути, не было. А очень сложно отстаивать интересы тех, кого нет. Рабочие же на петровских фабриках и заводах были крестьянами, оторванными от земли – они не являлись свободными, они не нанимались на работу сами, они оставались зависимыми, и труд их был принудительным, в этом смысле они были не рабочими, а, скорее, крестьянами, насильно согнанными на производство.
Социалистические идеи появились на Западе. Впрочем, как и все остальное. Западная Цивилизация после Реформации стала центром мира. Россия лишь копировала оттуда различные элементы. Россия вообще за всю свою историю не изобрела ни одной идеологической концепции. Она всегда представляла собой карго-культ Запада – как в идеологическом плане, так и в культурном, и тем более в промышленно-технологическом.
К чему я об этом обо всем пишу? А вот к чему. Социалистические идеи нашли свое широкое применение во второй половине 19 в. и в начале 20 в. Борьба рабочих за свои права – это, безусловно, передел. Передел материальных ресурсов между рабочими и владельцами предприятий. А также передел между интеллектуальной интеллигенцией, распространяющей социалистические идеи и отстаивающей интересы рабочих – и правящей элитой. Первые звоночки этого передела прозвучали еще в начале 19 столетия. А к концу века они стали звучать отовсюду, причем все громче и громче. Это было повсеместное явление.
Однако в развитых западных странах существовали парламентские институты, и социалисты могли пропагандировать свои идеи, отстаивая интересы рабочего класса вполне легальным путем, через законодательные инициативы. На самом деле использовался как вполне легальный путь, так и не совсем легальный – в виде погромов, восстаний и кровавых бунтов.
Подобных вещей не избежала даже благополучная и богатая Америка. Например, в 1886 году в Чикаго забастовки рабочих, требующих установления 8-часового трудового дня, привели к полицейскому насилию – было убито несколько человек. Тогда еще активно использовались так называемые штрейкбрехеры – люди, подкупленные администрацией предприятия, которые должны были саботировать забастовку и свести ее на нет (короче, стачколомы). Произвол полиции вызвал недовольство и собрал большой митинг на Хеймаркет-Сквер. Там в результате провокации полицейских агентов произошла бойня: кто-то бросил бомбу, а полицейские открыли огонь по толпе, в итоге жертвами стали еще несколько десятков рабочих, и также было убито и пострадало несколько полицейских. Затем последовали правительственные облавы на анархистов и представителей других левых организаций. Вскоре состоялся суд. Американское общество особенно боялось и не любило анархистов. Поэтому некоторые из них были казнены. Другие были заключены в тюрьму. Характерно, что через пару лет власти освободили осужденных и официально принесли им извинения. А начальник полиции был обвинен в коррупции и провокации.
Однако этот случай в истории США не единственный. В 1914 году произошла бойня в местечке Ладлоу в штате Колорадо. В то время рабочие угольных шахт активно вступали в профсоюзы, чтобы бороться за улучшение условий труда. А условия труда и вправду были тяжелыми: рабочий день не нормированный, техника безопасности не соблюдалась, на производстве было много жертв. Угольные компании часто оказывались единственным работодателем в каком-нибудь небольшом городке или деревне (аналог наших моногородов). Они становились местными монополистами, которые полностью контролировали и рынок труда, и уровень зарплаты, и даже цены на продукты в магазинах. От администрации компании также зависели и жилищные условия рабочих. Деятельность профсоюзов сильно раздражала капиталистов. Ответом на стачки и забастовки становились выселения шахтеров из жилищ и силовые разгоны протестных акций. Для этого привлекали как полицию, так и различные частные детективные агентства (Пинкертон, кстати, в это время отличился), а иногда и национальную гвардию. Шахтеры брались за оружие, благо с этим в Америке всегда все было в порядке. В Ладлоу произошла перестрелка, жертвами которой стало 25 человек, причем погибло 2 женщины и 11 детей в результате пожара, убитыми оказались и четверо частных детективов. Событие спровоцировало еще более мощное выступление профсоюзов и шахтеров. В следующие полгода было сожжено несколько шахт, охранники на них были убиты, имущество разграблено, для наведения порядка пришлось вводить федеральные войска. Всего погибло 70 человек. Но, пожалуй, самым крупным конфликтом между шахтерами и владельцами угольных предприятий стала битва у горы Блэр в 1921 году: там произошло сражение 15-20 тысяч горняков, вооруженных огнестрельным оружием, с полицией, агентами и национальной гвардией. Последние даже использовали пулеметы и бомбы, которые сбрасывали с самолетов. Жертвами стали сотни человек. Все это, конечно же, освещалось в прессе и обсуждалось в обществе. События были резонансными.
Но в США имели место быть, скорее, локальные истории. Кроме того, в США, как и в Европе, существовали представительные органы власти, в которых социалисты могли законным путем проводить реформы. Например, первая социалистическая партия в США появилась в 1876 году и носила название Социалистическая Рабочая Партия Америки. Особых изменений в жизни общества она не успела совершить. В преуспевающих Штатах социализм до определенного момента не был популярен. Тем не менее, поднимались вопросы защиты трудового класса и образовывались профсоюзы. Кое-где были введены ограничения на продолжительность рабочего дня и установлена минимальная сумма оклада. Однако серьезные социальные реформы на федеральном уровне в Америке последовали только после Великой Депрессии – когда идеи социальной защиты стала отстаивать Демократическая Партия, вернув себе таким образом симпатии избирателей. Но зато реформы, которые провели американцы, были по истине впечатляющими. Правда, произошло это уже в 1930-ых гг. на понижательной фазе. А во время повышательной фазы в США, как видно, велась тяжелая борьба рабочих с владельцами предприятий. И это был очевидный передел.
В Германии первая социал-демократическая партия была вообще старейшей в мире и появилась она в 1863 году. Потом какое-то время она была нелегальной. Однако после упорной борьбы она окончательно получила законный статус в 1890 г., набрав на выборах в Рейхстаг почти 20% голосов. Партия занялась преобразованием страны, будучи активно поддерживаемой императором Вильгельмом II. Были приняты законы о пенсиях для рабочих, введены пособия на время недееспособности, а также установлена прогрессивная шкала налогообложения. В другой европейской державе, Великобритании, в 1884 году было основано Фабианское Общество – философско-экономическое течение социалистического толка. А в 1893 году была создана Независимая Рабочая Партия, которая позже влилась в Лейбористскую Партию. Во Франции на протяжении всего 19 века жизнь бурлила и переворачивалась. И к концу столетия социалисты стали приобретать все больший вес. Париж также столкнулся с последствиями Долгой Депрессии. Вообще, 1880-90-ые годы в стране отличались экономическим спадом и биржевыми крахами, большой резонанс в обществе вызвал Панамский Скандал – компания, участвовавшая в строительстве канала, обанкротилась, лишив денег многих французов. Поэтому народ стал испытывать все больше симпатий к социалистам. Их партии разрастались и получали голоса избирателей. В 1890-ых годах был принят ряд законов, ограничивающий и защищавший труд женщин и детей, а позже был установлен фиксированный рабочий день (но не 8-часовой). Таким образом, благодаря коммунистам, заседавшим в парламентах, в Европе на рубеже 19-20 веков проводились серьезные социалистические реформы. Это не что иное, как внутренний передел в самом начале повышательной фазы. Кондратьев определил датировку Третьего Цикла как раз с 1891 года. Именно с этого времени социалисты и добиваются принятия законов, защищающих трудящийся класс. Другими словами, в наиболее развитых странах большого кровопролития удалось избежать благодаря парламентским институтам.
Но стоит обратить внимание еще на одну вещь – на колониальную экспансию. Внутренний передел на Западе с одной стороны проходил более цивилизованно, а с другой стороны – толкал страны к внешнему переделу. Именно в первые десятилетия 20 века началась так называемая “Гонка за Африку” – соперничество между европейскими державами за африканские территории. До сего момента европейцы владели лишь небольшими прибрежными факториями на этом континенте. В начале 20 столетия процесс раздела Африки значительно ускорился, обострив геополитические противоречия. В дальнейшем это приведет к Первой Мировой Войне.
Положение Дел в Российской Империи
В отличие от Европы, в России не было никаких демократических институтов. Царь являлся абсолютным монархом (самодержцем) и вся законодательная инициатива исходила от него. Поэтому ни либералы, ни, тем более, социалисты не имели возможности продвигать свои идеи легальным путем, основная масса населения никак не могла отстаивать свои интересы. Все существующие проблемы в стране усердно замалчивались и кризисы не разрешались десятками лет. По этой причине наиболее горячие головы начинали подпольную борьбу с режимом. Даже либералы периодически вели запрещенную агитацию. А социалисты активно формировали боевые отряды, которые занимались террором, убийством чиновников и членов императорской семьи, а также грабежами и разбойными нападениями (называя это “экспроприацией”). Ситуация особенно обострилась на рубеже 19-20 вв. Откровенно говоря, террористические акты происходили и во Франции – там тоже кидали бомбы в чиновников, а президент Карно в 1894 г. был убит итальянским анархистом. Но все эти действия не имели таких огромных масштабов, как в Российской Империи. В более благополучных европейских странах они носили, скорее, единичный характер. В то время как жертвами русских Народников становились тысячи людей.
Россия в конце 19 века была поистине отсталой страной (впрочем, как и всегда). И ситуация в ней еще усугублялась аграрным перенаселением. Вообще, рост численности населения во второй половине 19 века был повсеместным явлением. Но в развитых странах он сдерживался урбанизацией – в городах люди, как известно, заводят меньше детей. Накануне Первой Мировой Войны в Европе и США в городах проживало уже от 40% до 60% всех граждан. В России же – только 15%. Безграмотные и закостенелые крестьяне, застрявшие в деревнях в своем старом укладе жизни, составляли основную массу населения Российской Империи (далее – РИ). Это было самое настоящее традиционное общество, интересы которого ограничивались лишь вопросами пропитания и размножения. Однако при резком росте численности деревенских жителей – сельскохозяйственные угодья, удобные для возделывания, заканчивались. Особенно тяжелым было положение в Центрально-Черноземном Регионе, в котором наблюдалось истощение почв, что в итоге привело к экологическому кризису. Годы 1889-1892 ознаменовались сильной засухой. А экспортоориентированная политика государства, стимулирующая вывоз хлеба из деревни, спровоцировала массовый голод, который унес жизни 400 тысяч человек. Россия стояла на пороге Мальтузианской Ловушки.
Очень часто приходится слышать, что перед Революцией в Российской Империи якобы наблюдался стремительный экономический рост. Однако при этом забывают о том, что данный рост был исключительно догоняющим. А развитие – сильно запаздывающим. Пропасть между Россией и странами Европы была огромной. На рубеже 19-20 вв. она постепенно сокращалась, но очень медленно. ВВП на душу оставался в несколько раз меньше, урбанизация была низкой, грамотность невысокая. Даже в процессе обработки земли использовались крайне устаревшие и неэффективные способы. Настоящей проблемой являлась чересполосица. Крестьяне, только недавно избавившиеся от крепостной зависимости, еще не успели полноценно включиться в свободно-рыночные отношения и почти не использовали в расчетах деньги. Нет ничего удивительного в стремительном росте экономики страны в тот период. Это был рост от очень низкой базы. В качестве современного примера можно привести экономику Индии – которая также стремительно растет, но значительная часть населения которой остается нищим. По факту темпы роста экономики России оказывались просто недостаточными, чтобы сдержать все негативные тенденции (аграрное перенаселение, экологический кризис в ЦЧР, наступающий голод, борьбу дворянства за власть с аристократической элитой). Даже промышленные предприятия еще не могли поглотить всю имеющуюся рабочую силу из деревни – индустриализация не поспевала за ростом численности населения, в итоге в городах наблюдалась постоянная безработица, было много бездомных и бродяг. Рабочий класс как таковой еще даже не успел сформироваться. Это обуславливало заниженную заработную плату и произвол работодателей.
В общем, внутренний передел в Российской Империи назрел уже давно. Причем этот передел касался как чисто материальных ресурсов (земли, хлеба, капитала), так и затрагивал самые чувствительные для царствующей династии вопросы – власть и управление государством.
В 1905 году грянула первая Революция. Она была достаточно масштабной. В городах проводились массовые демонстрации. Сотни тысяч рабочих на заводах устраивали стачки, общая численность бастующих доходила до 2 миллионов человек. Остановилось более половины предприятий страны. Электричество в Москве, на тот момент времени уже имевшееся, отключилось. Прекратилось железнодорожное сообщение. Начались вооруженные восстания, боевые дружины эсэров и РСДРП вели бои с полицией и армейскими частями, применялась артиллерия и пулеметы. В деревнях крестьяне также занялись грабежом и разорением помещичьих владений, уводили скотину и выносили зерно из барских хранилищ, иногда поджигая сами поместья. На флоте матросы поднимали бунты и захватывали броненосцы. В различных периферийных регионах активизировались национальные движения с требованием автономии или полного отделения (это происходит с любой империей). В итоге царь Николай II, испугавшись развала страны, да и просто не имея возможности подавить революционные выступления (значительная часть войск в это время вела войну на востоке с Японией) – решает пойти на уступки и издает свой знаменитый Манифест. Объявлялась свобода слова, свобода совести и свобода собраний. Отныне разрешалось создавать партии и профсоюзы. Назначались выборы в Государственную Думу. Давался старт назревшим социо-экономическим реформам. Либеральная оппозиция посчитала, что ее цели достигнуты (а зря) и устранилась от дальнейшей борьбы. Социалисты же продолжили восстание. Вскоре эти восстания, а также бунты крестьян в деревне были подавлены войсками и сошли на нет. Погибло от 10 тыс. до 20 тыс. человек (возможно, больше).
После Революции 1905-06 гг. ситуация в стране действительно изменилась. Положение рабочих стало немного лучше – им повысили зарплаты, перестали безнаказанно штрафовать, ввели страхование по болезни. Для решения проблем в деревне была запущена серия реформ Столыпина (крестьян стимулировали уходить в города, облегчили сделки с землей, помогали переселением в другие регионы, и самое главное освободили от выкупных платежей). Однако своих целей она не достигла. Столыпин утверждал, что ему нужно 20 лет, чтобы действие реформ проявилось в полную силу. Но этих 20 лет у Российской Империи не было. В мире назревал глобальный передел.
В Преддверии Первой Мировой Войны. Нарастание Напряжения
Африка
К началу XX столетия конкуренция между ведущими мировыми державами обострилась до предела. Это проявлялось во множестве мест на планете. Скажем, в разделе Африки участвовали практически все европейские государства: Великобритания, Франция, Германия, Италия, Португалия, Бельгия, даже находящаяся в упадке Испания. Колонизация Черного Континента европейцами шла уже давно. Тем не менее, до конца 19 столетия она носила весьма ограниченный характер. К 1870 г. белые люди контролировали только 10% африканской территории, в основном это было побережье, которое использовалось для установления торговых связей. С середины же 1880-ых гг., благодаря строительству железных дорог и созданию лекарств от тропических болезней, процесс колонизации резко ускорился. Индустриально развитым державам нужны были ресурсы, новые рынки сбыта и логистические пути (например, Суэцкий Канал или порты для остановки кораблей). К началу Первой Мировой Войны уже практически весь континент находился под властью европейцев, которые стремились захватить как можно больше земли. И тут вдруг неожиданно выяснилось, что африканский пирог слишком мал для удовлетворения аппетита всех геополитических игроков.
Ситуация осложнялась тем, что в 1871 г. на международную арену вышла новая империя – Германская. За несколько десятилетий она превратилась в четвертую экономику мира. Первой экономикой стали Соединенные Штаты Америки. Они отобрали это место у Великобритании, за счет протекционизма и решения внутренних противоречий в Гражданской Войне. Соответственно, Царица Морей, некогда господствующая на планете, превратилась в номер два. Номер три по объему экономики был Китай. Но он уже давно являлся не субъектом, а объектом мировой политики. Свою формальную позицию в списке он занимал только благодаря размерам. А по факту европейцы постепенно выпивали из него все соки. Другими словами, конкурентом для Великобритании он не являлся. Он был дойной коровой. Что касается США – то с ними англичанам связываться уже не хотелось. Лондон проиграл две войны за независимость Американских Штатов. А третью – когда в Штатах царила внутренняя смута – Лондон так начать и не решился. Ведь это потребовало бы логистических издержек в виде переброски через Атлантику достаточно крупной армии. Но момент был упущен. И теперь оставалось лишь наблюдать за тем, как США усиливаются и разрастаются. Обидно, что сказать. Но ничего не поделать. В конце концов, американцы пока еще придерживались Доктрины Монро. Поэтому лучше было их не трогать, чтобы они и сами, не дай бог, не полезли на чужой континент. А вот с Германией была совсем другая история: она стремилась доминировать непосредственно в Европе – то есть под боком. Она создавала мощный флот. И плюс ко всему интересы немцев с англичанами в Африке пересекались напрямую. Надо заметить, что Германия довольно поздно включилась в колониальную борьбу, что обуславливало агрессивность ее действий. Так что для Туманного Альбиона именно она и стала главным соперником. Еще одним дерзким игроком с запоздалыми имперскими амбициями оказалась Италия. Она объединилась в том же 1871 г. Однако была еще слишком слабой и недоразвитой, чтобы напрямую конфликтовать с великими державами – вроде Великобритании или Франции.
Вообще, сам процесс колонизации Африки, безусловно, сопровождался войнами, насилием и жестокостью, о чем следует упомянуть отдельно. Например, бельгийцы к 1885 г. установили соглашения с вождями племен, проживающих в русле реки Конго, и таким образом создали свою колонию, из которой можно было качать ресурсы. Территория Конго превратилась в личное владение короля Леопольда II и стала осваиваться бельгийскими предпринимателями. Местное население использовалось в качестве рабов при добывании каучука, а также слоновой кости. Людей принуждали трудиться откровенно варварскими и бесчеловечными способами, в том числе – отрубанием рук. Эти зверства были задокументированы и отмечены различными путешественниками из самой Европы, что вызвало большой скандал в обществе. Журналисты и писатели подключились к распространению информации о случаях массового террора в колонии. В результате в 1908 г. король Леопольд II под давлением парламентариев вынужден был передать Конго в ведение правительства. За те 23 года, которые он владел этой территорией, погибло по прикидкам около 4-5 миллионов человек, хотя точные данные неизвестны, т. к. учета населения не велось.
Другим примером является восстание в Судане в 1881 г. На тот момент времени эта страна находилась под влиянием Египта. А сам Египет был под контролем англичан, которые выкупили права на Суэцкий Канал. Некто Мухаммад Ахмад провозгласил себя Махди, то есть, ни много ни мало, а мусульманским мессией, после чего поднял бунт против египетских и британских чиновников. Поскольку он отменил налоги и создал теократическое государство, то его движение первоначально было успешно. Несмотря на то, что маххдисты были вооружены преимущественно копьями и мечами, египетские войска терпели поражения, даже некоторых британских генералов постигла неожиданная, но вполне насильственная смерть. Тактика повстанцев заключалась в том, чтобы не ввязываться в крупные сражения, а вместо этого водить армию врага по пустыне, пока не истощатся ее припасы. И это работало. Англичанам даже пришлось существенно скорректировать собственные действия, чтобы не повторять одни и те же ошибки по 10 раз. К 1885 г. они все-таки смогли ограничить пределы разрастания бунта, собственно, Суданом. Мятежная страна была изолирована и предоставлена самой себе. Это дало результаты. Мухаммад Ахмад вскоре умер от болезни. Его место занял его ученик Абдаллах ат-Таиша, усиливший централизацию власти и собравший вокруг себя новую аристократию. Однако ему пришлось столкнуться с большими экономическими трудностями, которые в итоге вылились в массовый голод. Это спровоцировало воинов на мародерства и грабежи, что сильно подорвало авторитет самого Абдаллаха и вызвало большое недоверие местных племен к его движению. Чтобы хоть как-то решить эту проблему, он принялся нападать на своих соседей. В частности, на Эфиопию, что обернулось большими человеческими жертвами. Также он готовился к новому вторжению в Египет. И в итоге в 1896 г. англичане вынуждены были начать против него новую военную кампанию. В этот раз они хорошо подготовились. Даже провели железную дорогу вдоль Нила, чтобы улучшить логистику. К осени 1898 г. британо-египетские силы подошли к Омдурману – столице государства Махди. И 2 сентября состоялась кровавая битва. Суданцы имели 2-кратное, а по некоторым сведениям даже 4-кратное превосходство в живой силе: 50-100 тысяч против 25 тысяч. Но англичане обладали подавляющей огневой мощью, на их вооружении стояли многозарядные винтовки, пулеметы и скорострельная артиллерия. Отряды Махди наступали ровным строем в виде полумесяца. А британцы выкашивали всю эту огромную массу людей новым современным оружием, при необходимости добивая кавалерийскими атаками. В итоге маххдисты были полностью разгромлены. Они потеряли около 12 тысяч человек убитыми и еще 13-16 тысяч раненными (возможно, больше). В то время как англичане потеряли всего 48 человек убитыми и 382 человека раненными. После сражения британские корабли с Нила обстреляли город Омдурман и вынудили его капитулировать. До конца года остатки армии Махди были рассеяны. Сам Абдулла ат-Таиша погиб. Таким образом, религиозное движение, провозглашавшее приход мессии, потерпело поражение. Британцы на пару с египтянами взяли Судан под свой протекторат. Чему, в общем-то, многие были рады, ибо маххдисты успели наворотить такого, что даже местные племена готовы были воевать против них. Всего с 1881 г. число погибших от этого восстания по разным оценкам составило 5-6 миллионов человек. Цифра, надо сказать, немаленькая. Особо отмечу, что произошли эти события на стыке понижательной и повышательной фазы (повышательная началась в 1895 г.).
Египет нужен был англичанам для контроля над Суэцким Каналом. Полноценной британской колонией называть его некорректно. Англичане просто потеснили там османских управленцев. Судан пришлось утихомиривать для обеспечения безопасности Египта. Но англичане распространяли свое влияние и на другие африканские земли, в частности, продвигаясь дальше от Судана на юго-восток – оккупируя современные Уганду и Кению, а также Нигерию на другом конце Континента. Особый интерес для британцев еще представляла южная часть Африки. Стоит заметить, что жизнь на Черном Континенте никак нельзя было назвать спокойной и безоблачной. Среди местных племен процветало рабство, и по уровню развития большинство из них находились где-то на стадии формирования феодализма со всеми вытекающими. В первой половине 19 в. некто по имени Чака создал на юго-востоке Африки свою маленькую Зулусскую Империю. Удалось ему это благодаря железной дисциплине и тирании. Фактически его государство было милитаристским и тоталитарным. Все мужское население в возрасте 20-40 лет мобилизовывалось. А воины должны были получать разрешение на вступление в брак. Внебрачные сексуальные связи, как и любые другие провинности, карались смертью. Завоевания Чаки унесли жизни 1,5 миллионов человек. И так эта империя всех задолбала, что Чаку порешили его же собственные соратники. Правителем зулу стал его единокровный брат Дингане. В общем, как видно, все те же яйца, что и в Средневековой Европе, только в профиль. Дингане ослабил тиранию Чаки. Но затем пришла новая напасть. Зулусов начали теснить потомки голландских поселенцев – так называемые буры (“boer” – по-нидерландски “фермер”). Иммигранты из Нидерландов облюбовали побережье Южной Африки еще в 17 веке. Затем к их любованию присоединились французы и немцы. Земли эти назывались – Капская Колония (столица Капстад). Во время Наполеоновских Войн сама Голландия была захвачена французами. За это англичане забрали Капскую Колонию себе (переименовав Капстад в Кейптаун). Причем они отменили рабовладение, которое там было очень сильно распространено. И в знак протеста многие голландско-французские поселенцы отправились на северо-восток (так называемый Великий Трек). А там они столкнулись с маленькой Зулусской Империей, которая была довольно агрессивна и никого не хотели принимать. Буры вполне успешно оттеснили местных имперцев. Зулу были вооружены в основном копьями и щитами из бычьей кожи. Шансов против голландских ружей у них было не много. В конце концов, Дингане был убит. А его брат Мпанде пошел на территориальные уступки европейцам. Но затем в постимперии Зулу началась феодальная грызня, то есть междоусобные войны. В третьей четверти 19 столетия правителем ослабленного, но пока еще независимого государства стал Кечвайо. И вот в это время в регион снова пришла рыба покрупнее – Великобритания. Причем именно пришла. Так как за счет индустриализации она умела и плавать, и ходить по суше (благодаря шарнирным механизмам). Победить эту рыбу одними традициями было невозможно. К тому времени английские купцы смогли продать зулусам некоторое количество ружей. Но войско все равно по большей части оставалось скрепоносным. В 1879 г. состоялась Англо-Зулусская Война. Ну, как война. Войнушка. Англичане сперва терпели поражения, однако быстро собрались и в итоге победили, что неудивительно. Как и любой другой народ с имперскими амбициями, зулусы достали некоторых своих соседей, поэтому британцам помогали местные жители. В английской армии негров было не меньше, чем, собственно, англичан. В общей сложности погибло 10 тысяч человек. Англичане поначалу заключили с вождями племен договора. Но те опять скатились в междоусобную борьбу, и потому пришлось все это полуфеодальное образование ликвидировать, забрав его под свой прямой контроль. Зулусы поднимали восстания вплоть до 1906 г., но это уже было бесполезно.
Одновременно с зулусскими землями британцы также отнимали территории у буров. Как уже было отмечено, сначала они присвоили себе Капскую Колонию за то, что Голландия в Европе позволила Франции себя захватить. Поскольку англичане отменили рабство, составлявшее основу бурской экономики, то буры эмигрировали на северо-восток, оттеснив зулусов. Но и туда за ними снова приперлись англичане. Часть буров согласилась быть под властью Лондона. Другая же часть ушла еще дальше на север, основав там в 1850-ых гг. Оранжевое Свободное Государство (по наименованию реки) и Трансвааль. Буры постоянно воевали с местными племенами за границы своих земель. С местными племенами за расширение Капской Колонии воевали и британцы. Впрочем, некоторым племенам лучше было бы не воевать совсем, а сразу сдаться европейцам и принять над собою их рациональное управление. Например, племена коса довоевались до того, что из их числа вышла какая-то экзальтированная девушка под именем Нонгкавусе, которая стала всем рассказывать о грядущем восстании духов предков, и что для победы над британцами нужно было уничтожить все посевы и скот, а потом просто ждать. Коса так и сделали. Перебили 400 тысяч голов скота. И в итоге ничего не произошло. Только сами коса вдруг начали умирать от голода (как неожиданно). Их народность сократилась со 105 тысяч человек до 27 тысяч. А потом пришли британцы, которым коса уже особенно-то сопротивляться и не могли. Вот так вот незаурядно воевали негры. Но это лирическое отступление.
В 1860-70-ых гг. в этих районах были открыты залежи алмазов и золота. Британцы стали думать, как подобраться к бурским землям и даже предприняли определенные поползновения. В Оранжевое Государство и Трансвааль хлынули английские рабочие, которые начали приобретать там собственность, тем самым усиливая влияние Лондона. В 1877 г. британцы аннексировали Трансвааль, находящийся в ослабленном финансовом положении. Однако в 1880 г. буры восстали, и произошла первая Англо-Бурская Войнушка. Воевать с бурами – потомками голландских переселенцев – это было не с зулусами и коса развлекаться. Буры одевались в маскировочные на африканском пейзаже цвета, в то время как англичане наряжались в ярко-красные мундиры. В итоге последние потерпели поражение. Буры получили широкую автономию с внутренним самоуправлением, только иностранные договоры заключались с оглядкой на Лондон. Общее число погибших не достигло и 500 человек.
Однако британцы не прекратили своих поползновений на бурские территории. Их аппетиты еще больше возросли с открытием новых золотых рудников. Теперь ползучую коммерческую интервенцию осуществляла компания “Де Бирс” Сесиля Родса. И вскоре в Трансваале британцы завладели уже 80% недвижимости. Лондон требовал предоставить своим подданным такие же экономические и политические права, какие были у местных буров. Но те отказывались. Германия, тоже подключившаяся к колонизации Африки, предложила бурам свою помощь, намереваясь таким образом ослабить влияние Великобритании. Таким образом, на Континенте стало возрастать напряжение, которое неизбежно отражалось на обстановке в Европе. К 1899 г. англичане сконцентрировали на границе с бурскими государствами войска. Те в ответ призвали англичан отойти обратно. Но переговоры ни к чему не приводили. И 11 октября 1899 г. началась вторая Англо-Бурская Война.
Границу перешли именно буры, то есть формально боевые действия начали они. Их маленькие государства не обладали полноценной армией. Но многие мужчины были вооружены и неплохо умели стрелять. Из регулярных войск у них были артиллерийские. Причем на вооружении имелись тяжелые орудия, несколько десятков пулеметов, а также скорострельные 37-мм пушки Максима. Преимущество британцев заключалось в том, что они все-таки могли перебросить на континент большую армию. Но для этого требовалось время. А буры, между тем, рассчитывали на восстание в уже захваченной британцами Капской Колонии. Этот расчет оправдался лишь отчасти. Поначалу буры смогли захватить или взять в осаду несколько приграничных британских городов: например, Ледисмит, Кимберли и Мафекинг (недалеко от Пицане). Кое-кто из Капской Колонии даже перешел на их сторону. Однако общие силы буров не превышали 83 тысяч человек. В то время как британцы к декабрю уже собрали 120 тысяч. Получив численное преимущество, они принялись освобождать свои города. Весной 1900 г. британцы уже вошли с боями в пределы Оранжевого Свободного Государства (ОСГ) и Трансвааля. К июню была захвачена столица Трансвааля – Претория. К осени в войне наступил очевидный перелом, силы буров терпели поражение. Однако сдаваться потомки голландцев не собирались. Они решили начать против своих врагов партизанскую борьбу. Британцы столкнулись с нарушением коммуникаций и нападениями неуловимых отрядов. Теперь даже 250 тысяч солдат не могли обеспечить контроль над территорией. Тогда британцы тоже решили сменить тактику. Они создали систему блокпостов и заграждений из колючей проволоки, ограничив передвижение буров. А также занялись уничтожением хозяйства – разрушением домов и сжиганием посевных площадей. Женщин и детей при этом согнали в концентрационные лагеря, чтобы они не могли оказывать помощь упорно сопротивляющимся мужчинам. Условия в концлагерях, конечно, были не очень хорошими. Буры умирали тысячами. К тому же англичане стали проводить рейды вглубь их территории, используя малые кавалерийские группы и бронепоезда. В итоге к маю 1902 г. вооруженные партизаны вынуждены были сложить оружие.
По условиям Феринихингского Договора территории Трансвааль и ОСГ поглощались Великобританией. Но буры получали широкие права автономии. Все участники боевых действий амнистировались. Лондон возмещал убытки, нанесенные фермерам, и еще оплачивал долги. Голландский язык разрешалось использовать в школах и судах. В отдельном пункте прописывалось, что африканцы (негры) смогут получить избирательные права только после установления бурского самоуправления.
Англо-Бурская Война была не самым большим конфликтом. Но борьба враждующих сторон оказалась весьма упорной. Концентрационные лагеря, построенные британцами, стали эффективным и рациональным, но в то же время жестоким инструментом. Содержащиеся в них родственники партизан часто получали недостаточное пропитание, в результате чего умирали от истощения. Всего за 2,5 года боевых действий погибло от 46 до 75 тысяч человек. Из них: британцев – 26 тысяч. Буров: около 6-8 тысяч комбатантов, и еще 26 тысяч женщин и детей в концлагерях. А также, вероятно, 14-20 тысяч негров. Нужно ли жалеть буров? Пожалуй, да. Но в то же время эти люди были рабовладельцами. А британцы, поглотив их территории, отменили рабство, что является позитивным моментом. В 1909 г. из Капской Колонии, Наталя, Трансвааля и ОСГ был образован Южно-Африканский Союз. В годы Второй Мировой Войны он начал выходить из-под контроля Лондона. И в 1961 г. – на повышательной фазе следующего Цикла – окончательно получил независимость, переименовавшись в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Потомки буров создали систему апартеида, по сути, установили расовую сегрегацию, ограничив чернокожих в политических, экономических и других правах. Это исчерпывающе говорит об их моральных принципах и частично отвечает на вопрос “Нужно ли их жалеть?”. Буры, являясь в некоторой степени прогрессивным Западным обществом колонизаторов, смогли построить более-менее успешное и рациональное государство. Однако они были менее прогрессивным обществом по сравнению с британским, и в этом отношении чем-то напоминали плантаторов Американского Юга.
Пока Великобритания захватывала новые территории на юге Африки, Франция окучивала северо-западное побережье Континента. И чем активнее шел процесс, тем сильнее становились аппетиты. Английский предприниматель Сесил Родс вообще хотел бы соединить оккупированные египетские территории с Капской Колонией, проведя от Каира до Кейптауна железную дорогу. Таким образом, британские владения протянулись бы с севера на юг широкой Красной Линией (так и называлась). Но у французов были планы протянуть свою линию: с запада на восток – от Сенегала до Джибути. Рано или поздно они уперлись бы в Красную Линию англичан. То есть на карте в перспективе вырисовывалось пересечение интересов двух конкурирующих держав. Другой проблемой для железной дороги Родса стали экспансионистские планы Португалии. В Лиссабоне тоже готовили свою линию: от Анголы до Мозамбика – она проходила бы южнее и была не такой протяженной. Британцы оказали дипломатическое давление на Португалию, заставив ее отказаться от планов соединить свои владения на западном и восточном берегу. Этот инцидент 1890 года получил название: Англо-Португальский Кризис.
Но все же главным препятствием для реализации проекта Родса оказалась Германия, которая вклинилась как раз поперек британской Красной Линии в районе современных Танзании, Бурунди и Руанды. Немцы завидовали своим более расторопным конкурентам, и думали над тем, как лучше включиться в колониальную борьбу. Еще в 1884 г. Берлин собрал у себя представителей европейских государств, чтобы установить правила игры. Раздел Черного Континента должен был проходить разумно и с соблюдением порядка, чтобы не допустить столкновений. На конференции договорились уведомлять друг друга о будущих претензиях на те или иные земли. А претензии предписывалось заявлять только по факту оккупации. Все это должно было снизить градус напряжения. Но выработанные принципы на деле соблюдались не всегда.
Так или иначе, Германия в 1885 г. начала потихоньку занимать территории современной Танзании. К тому времени их нельзя было назвать совсем бесхозными. Кое-что контролировал местный занзибарский султан Баргаша ибн Саид. Он имел арабское происхождение и решил повозмущаться. Но вскоре к берегам Танзании приплыли немецкие корабли, и султан возмущаться перестал (ну, разве что только ворчать продолжал себе под нос). Однако в 1888 г. возмущаться принялись местные плантаторы, подстрекая к тому и местное население. Эти уже целое восстание подняли. Они просто немецких кораблей не видели. Берлин быстренько собрал войска и направил их на подавление бунта. В итоге к 1889 г. голоса недовольных притихли. А самого громкого из роптателей немцы повесили. В 1890 г. немцы и англичане заключили Занзибарско-Гельголандское Соглашение. В соответствии с ним Берлин возвращал себе контроль над островом Гельголанд в Северном Море у побережья Германии (утраченный по итогам Наполеоновских Войн), а в Африке закреплял за собой Танзанию и еще Намибию на юго-западном побережье. Взамен Лондон получал контроль над Кенией, а также возможность провести железную дорогу через побережье Танзании. Однако для самой железной дороги этот вариант, как можно догадаться, не являлся оптимальным. В дальнейшем отношения Берлина и Лондона испортились, Соглашение было расторгнуто, и дорога осталась незавершенной.
Между тем, французы в 1898 г. все-таки подошли к британской Красной Линии. Любители лягушачьих лапок умудрились занять Фашоду – населенный пункт на реке Нил (сейчас это город Кодок в Юж. Судане). Англичане ранее предупреждали, что считают русло Нила зоной своих исключительных интересов, и чтобы, соответственно, никто, на эти территории глаза свои не бросал. Поэтому Лондон потребовал от Парижа объяснений. А там, в Париже, некоторые горячие головы предложили даже объединиться с Германией, лишь бы только ничего не отдавать. Но воевать с самой сильной морской державой французы все же не решились. Да и союзничество с Берлином выглядело каким-то противоестественным. Поэтому спор, в конце концов, решился в пользу англичан. Кризис получил название по населенному пункту – Фашодский.
В 1904 г. Франция и Великобритания заключили между собой серию соглашений, фактически поделив сферы влияния в Африке, а также в Азии и Америке. Ключевым регионом, конечно, была Африка. В Америке речь шла лишь об отказе французов от западного побережья острова Ньюфаундленд, который не представлял большого интереса. Таким образом, страны уладили все свои колониальные разногласия, и решили вместе дружить против Германии, военная мощь которой вызывала все больше беспокойства. К тому времени Париж состоял в военно-политическом союзе с Россией. А Лондон сотрудничал с Токио. Надвигающаяся Русско-Японская Война ставила оба государства в непростое положение. Однако Лондон и Париж решили в русско-японских разборках не участвовать, что допускалось договорами. Как бы там ни было, а Германия, рассчитывающая на многовековую вражду французов и англичан – потерпела политическое поражение. Теперь в африканской гонке ей становилось все сложнее находить взаимопонимание со своими конкурентами.
Между тем, Франция довольно успешно решала свои разногласия с другими едоками черного пирога. Заключив соглашение с Великобританией, она также сумела договориться с Италией и Испанией. С Римом Париж договорился о разделе Туниса и Ливии. Ранее эти территории принадлежали Османской Империи, а теперь: Тунис отходил Франции, а Ливия – Италии. И больше никаких взаимных претензий. С Мадридом Париж поделил Марокко: испанцам самое северное побережье и южную часть северо-западного, а французам все остальное. И, вроде, все были довольны. Но тут в Марокко решил приплыть немецкий кайзер Вильгельм II. В марте 1905 г., находясь в Танжере, он заявил, что готов помочь марокканскому султану отстоять свою независимость, и даже предложил заключить оборонительный союз. Главы европейских государств потеряли дар речи. Франция и Германия оказались на грани войны. Момент был выбран как нельзя более подходящий. Россия в то время получала на Дальнем Востоке люлей от наглых японцев, и существенной поддержки своему союзнику оказать не могла. В Париже началась паника. Для разрешения этого кризиса в январе 1906 г. в Испании была созвана Альхесирасская Конференция. А на ней подавляющее большинство стран оказались на стороне Франции. Великобритания и Россия уже имели с ней союзнические отношения. К тому же Великобритания контролировала Гибралтар, и немцев поблизости видеть не желала. Италия готовилась к войне против Османской Империи в Ливии, рассчитывая на помощь Парижа. В итоге Германию поддержала одна только Австро-Венгрия, которая тоже опоздала к колониальному разделу мира (встретились два одиночества). Между тем, британцы на всякий случай послали в Гибралтарский Пролив свой мощный флот. И Берлин вынужден был отступить. Он добился лишь отсрочки на 5 лет в процессе установления французского протектората в Марокко.
Спустя 5 лет кризис повторился. Весной 1911 г. в Марокко вспыхнули беспорядки. Под предлогом защиты своих граждан Париж ввел войска в марокканский город Фес. В ответ на это Берлин отправил в портовый город Агадир свою канонерскую лодку “Пантера”. Северо-западное побережье Африки вот-вот готово было превратиться в арену войны колониальных держав. Но в действительности Германия не так уже и хотела завладеть Марокко. Она готова была отдать его Франции целиком, но требовала себе какую-нибудь компенсацию. Поначалу речь зашла о всем французском Конго. Однако вскоре в конфликт вмешалась Великобритания, и Берлин уже готов был согласиться лишь на часть французского Конго. В итоге эту сравнительно небольшую часть он и получил, присовокупив ее к своим территориям в экваториальной Африке (Камерун). Немецкому обществу приобретения показались обидно незначительными. Поэтому в Германии поднялась агрессивно-патриотическая волна озлобления на Великобританию и, собственно, Францию. Радикалы требовали большего. В самой Франции тоже воспылали ненавистью к Германии, припомнив ей захват Эльзаса и Лотарингии. Ну, и в английской прессе запустился маховик антигерманской пропаганды, распространителям которой не сильно-то и приходилось напрягаться, чтобы вызвать к немцам какие-нибудь негативные чувства. В общем, все ненавидели Германию, а она в ответ ненавидела всех. Только Австро-Венгрия, скромненько стояла в стороночке, не зная даже, что и сказать. Шел 1911-ый год. Совсем немного оставалось до развязывания кровавой Мировой Войны.
Африка большая, и каждый ее регион имеет свои особенности. Вероятно, европейцам легче всего было колонизировать те земли, до которых цивилизация не доходила. Но вся северная половина Континента – та, что граничит с ЕврАзией – испытала на себе влияние ислама. Это вносило свои коррективы. В конце 1890-ых гг. на территории Африканского Рога начало образовываться государство дервишей – религиозных мусульманских фанатиков, ведущих полукочевой образ жизни. Их лидером был Саид Мохаммед Абдилле Хасан. В молодости он пережил глубокое потрясение от осознания успешности миссионерской деятельности западных проповедников. Распространение христианства он посчитал прямой угрозой своим скрепам, и решил начать борьбу с иноверцами и европейцами. Существует история о том, что поводом к настоящей войне послужил некий забавный инцидент. Британские солдаты продали Хасану пистолет, а своим командирам сказали, что Хасан у них пистолет украл. Британский вице-консул написал по этому поводу Хасану оскорбительное письмо. Тот рассвирепел и объявил всему живому газават в тыщадевятсотдевяностодевятой степени. Шутки шутками, но Хасану оказывали поддержку Османская Империя и Германия, что вызывало дополнительное раздражение Великобритании. В 1898 г. дервиши сумели захватить Буръо – крупный город на территории Британского Сомали. Разобраться с религиозными фанатиками вызвались эфиопы, которые тоже подпадали под газават, ибо являлись православными. Они организовали экспедицию против дервишей и угнали у них множество верблюдов. Хасан в ответ напал на эфиопов и угнал у них еще больше верблюдов, чем те угнали у него. А затем он снова напал на эфиопов и угнал у них еще больше верблюдов. С уверенностью можно сказать, что, как минимум, в угоне верблюдов Хасан действительно преуспел. Эфиопы явно терпели поражение. Поэтому за дело вынуждены были взяться серьезные дяди: британцы и еще итальянцы, которые тоже поблизости ошивались. Однако дервиши оказали упорное сопротивление. Настолько упорное, что до начала Первой Мировой Войны разобраться с ними так и не удалось. Хасан построил вокруг своих владений мощные крепости. Только в 1920 г. англичане додумались разбомбить эти крепости самолетами. К тому времени Государство Дервишей стало распадаться. Объединенные с большим усердием племена решили, что собственные интересы важнее священной войны с иноверцами. Тем более что сам Хасан уже давно превратил эту войну в банальную борьбу со своими личными врагами. В итоге дело его потерпело крах, а сам он умер от гриппа. В 1920 г. британцы заняли столицу дервишей Талех и наконец-то разогнали весь этот курятник.
В ходе колонизации Африки, отдельные страны, как это ни странно, сумели сохранить свою независимость. Таковой была Эфиопия, располагающаяся на Сомалийском Полуострове. В этом государстве с древнейших времен широкое распространение получило христианство. И основной религией, в общем-то, являлось православие. Англичане с середины 19 века думали, как лучше подобраться к Эфиопии. Император Теодрос II объединил разрозненные провинции, установил централизованное правление и сделал страну сильной. Однако, поддавшись на провокации, в гневе заключил британских граждан в тюрьму, предоставив Лондону повод для объявления войны (в 1867 г.). Британцы Эфиопию, можно сказать, захватили. Причем сразу же в один присест. Теодрос II покончил с собой. Но удержать эту африканскую империю за собой британцам не удалось, т. к. расходы оказались чрезмерно большими. В конце столетия Эфиопию возжелали итальянцы. Но итальянцы – это, как известно, не британцы. К тому же эфиопам свою поддержку (в том числе оружием) решила оказать Россия. Казалось бы: где Россия и где Эфиопия. Но, видимо, ключевое значение здесь имела религия. В итоге любители спагетти потерпели сокрушительное и позорное поражение. В Битве при Адуа их общие потери превысили 15 тысяч человек. А всего за два неполных года (1894-1896 гг.) только убитыми итальянцы потеряли 12 тысяч (их соперники – 17 тысяч). В конечном счете, Риму пришлось признать суверенитет Эфиопии, да еще и выплатить ей контрибуцию, что стало просто нонсенсом. Это ж надо! В период колонизации Черного Континента европейское государство платит контрибуцию африканскому государству. Вот такие вот неудачливые колонизаторы были эти итальянцы. Они попробуют захватить страну во второй раз уже после прихода к власти Бенито Муссолини (в 1930-ых гг.). Ну, а пока сконцентрируют свои усилия на колонизации побережья Африканского Рога, и будут в этом чуть более успешны (сама Эфиопия выхода к морю не имела).
Впрочем, не все так плохо было у юных империалистов с Апеннинского Полуострова. Еще в 19 веке Рим положил свой глаз на Ливию. Африканская страна располагалась прямо под Италией. Но была одна проблема – она принадлежала Турции. К началу 20 столетия на Турцию всем стало начихать. Италия, заручившись нейтралитетом европейских держав, начала борьбу за свой кусок Черного Пирога. Вторжение в Ливию выставлялось как необходимость. Видите ли, в Стамбуле не заботились о простых ливийцах, держали их в нищете и порабощении. Оно, в общем-то, даже в чем-то было правдой. Османская Империя не была способна превратить ранее захваченные территории в цветущий оазис. И все же с пропагандой итальянцы явно переборщили. Примечательно, что на тот момент времени Италия уже входила в так называемый Тройственный Союз (от 1882 г.), объединявший ее с Германией и Австро-Венгрией. И хотя на карте этот Союз выглядел красиво, но в реальности он был так себе. Теперь появился еще один повод для разногласий. Берлин был недоволен действиями Рима в Ливии, так как немцы сотрудничали в военно-технической области с турками. Но все же активного противодействия Италии никто не оказал. Вторжение на африканское побережье началось 28 сентября 1911 г. Захват Триполи с последующей высадкой десанта прошел сравнительно легко. Но дальше начались проблемы. Турецкая армия, к тому времени далеко не самая боеспособная, стала оказывать сопротивление, привлекая к этому местные иррегулярные силы. К концу года продвижение итальянцев затормозилось. Турки сумели одержать несколько локальных побед. Но инициатива все же была на стороне захватчиков. К тому же они имели численный перевес (100 тысяч против 28-40 тысяч). Сражения велись на суше, на море, и в воздухе. Весной 1912-го года итальянцы принялись обстреливать турецкие позиции в проливе Дарданеллы. Это привело к закрытию пролива. Почти две сотни коммерческих судов застряли в Мраморном Море. Это ударило, в том числе, по российской торговле. Лондон уговорил Стамбул на время открыть проливы для торговых судов, а Рим попросил не использовать эту ситуацию в своих целях. Стамбул согласился, и тут же обнаружил в Мраморном Море прорвавшиеся итальянские военные корабли. В мае любители спагетти захватили остров Родос (сейчас принадлежит Греции), а затем и другие острова Архипелага Додеканес. Итальянцы впервые в истории применили авиацию в боевых целях: они проводили бомбардировки турецких позиций с самолетов и дирижаблей, также велась воздушная разведка и фотосъемка. Летом 1912 г. Албания и Македония подняли антитурецкие восстания. А в сентябре уже начались Балканские Войны, которые еще больше ослабили Османскую Империю. К тому времени мира хотели уже все. В том числе и сама Италия, которая изначально не рассчитывала на затяжную войну. Также забеспокоились европейские державы. В частности, Австро-Венгрия опасалась освободительных движений в зависимых от нее землях. А во Франции население выступило с осуждением итальянской агрессии. В итоге стороны пошли на заключение мирного договора в Лозанне. В соответствии с ним Порта даровала Ливии автономию и выводила свои войска. Италия же, приступив к оккупации территории, обязалась вывести войска с островов Додеканес (в реальности это произойдет лишь в 1940-ых гг.).
Число погибших в этой войне вряд ли превысило 20 тысяч человек: 3-7 тысяч потеряли итальянцы и 14-18 тысяч турки. Вроде бы, Рим добился того, чего хотел. Но в действительности неуклюжая колониальная экспансия Италии представляет собой ярчайший пример деструктивного империализма. Правительство потратило на войну в 2-3 раза больше денег, чем планировало. Отношения с членами Тройственного Союза – Германией и Австро-Венгрией – были испорчены, что, по сути, привело к его развалу (в первоначальном виде). Боевые действия вызвали недовольство и членов Антанты. Сама по себе Ливия на тот момент времени не представляла большой ценности (нефть еще не нашли). После ухода турок там начались восстание местных племен, которые пришлось подавлять силой и жестокостью. В конечном счете, африканский берег превратился для любителей спагетти в настоящую головную боль. Утихомирить племена удалось только к середине 1930-ых гг. Но потом началась Вторая Мировая Война. И в ходе нее Италия, в конце концов, потеряла контроль над Ливией.
От колонизации Африки у Италии, кажется, было больше проблем, чем пользы. Эта страна опоздала к разделу Черного Континента. Все самое лучшее уже успели себе забрать Великобритания и Франция. Они и стали ядром Антанты. В антагонизме к ним стояла Германия. Ее экспансия на Черном Континенте была куда более успешной, чем забавные потуги Италии. Но все-таки она вступила в африканскую гонку тоже достаточно поздно. И, конечно же, в процессе колонизации немцы с местным населением особо не церемонились. Негров сгоняли с земель, порабощали и постоянно ущемляли в правах, если таковые вообще у них имелись. Это закономерно приводило к восстаниям. Так, например, в январе 1904 г. в Юго-Западной Германской Африке вооруженное сопротивление поднял Самуэль Магареро – вождь племен гереро, который до этого сотрудничал с немецкой администрацией. Инсургенты перебили более 100 немцев, среди которых были женщины и дети, а раненых солдат подвергли пыткам. В ответ на это из Берлина был вызван дополнительный корпус во главе с генералом Лотаром фон Трота, который занялся подавлением бунта. Против хорошо оснащенной и тяжеловооруженной немецкой армии у гереро, конечно, не было шансов. Хотя они и владели винтовками. Но немцы владели артиллерией и пулеметами, а также имели железную дисциплину. В Битве при Ватерберге 11 августа племена потерпели полное поражение. Трота вытеснил их в пустынные восточные земли, и организовал преследование. Примечательно, что восставших сопровождали их семьи. Поэтому в пустыню также бежали женщины и дети. Большая часть из них в итоге умерла от истощения. Многие были настигнуты и убиты. Кое-кому удалось укрыться в британских землях. Но те, кто не успел уйти от немецких солдат и не был убит на месте – те были согнаны в концлагеря и превращены в каторжников. Трота, по сути, настаивал на полном истреблении гереро. Однако в Берлине решили, что прагматичнее использовать выживших в качестве рабочей силы, что и было сделано. В итоге погибло около 65 тысяч представителей гереро (80% племени) и еще около 10 тысяч представителей нама (половина племени). В 1980-ых гг. ООН признала эти действия Германии геноцидом.
В июле 1905 г. вспыхнуло восстание уже в Восточной Германской Африке. Здесь местное население поднялось против репрессивных законов и повышения налогов. Немцы использовали эти земли для выращивания хлопка. Мятежники начали сжигать плантации, нанося ущерб колонизаторам. Но затем рациональности европейского человека негры, как это часто случалось в Африке, противопоставили магию и языческие обряды. Некто по имени Нгвали Кинджиктиль создал культ Маджи-Маджи. Его последователи использовали “святую воду”, которая должна была защитить от пуль и снарядов – буквально разжижить их. Этого, конечно, не произошло. Пули и снаряды вполне успешно разрывали плоть и наносили смертельные ранения инсургентам. Для подавления восстания немцы, в том числе, принялись сжигать посевы мятежников и отравлять их колодцы. В итоге все это привело к гибели примерно 75-300 тысяч человек.
Истребление африканского населения, безусловно, является проявлением жестокости и бесчеловечности. Но колонизация Черного Континента европейцами также имела для туземных жителей и положительные последствия. Например, Западный человек, сумевший победить тропические болезни, принес вместе с собой современную медицину и научил негров гигиене. Другим важным достижением была отмена рабства на большей части захваченной территории. Некоторые европейские страны, конечно, сами порабощали африканцев. Но две крупнейшие колониальные державы – Великобритания и Франция – все-таки стремились рабство ликвидировать. В итоге на оккупированных англичанами и французами землях сотни тысяч освобожденных рабов смогли вернуться к себе домой. Рабство процветало в Африке с глубокой древности. И только европейский человек смог отменить эту порочную практику. Хотя полностью искоренить рабство не удалось до сих пор. Но в любом случае процесс был запущен. Европейцы, колонизировавшие Африку, также улучшали инфраструктуру, прокладывали дороги, возводили мосты, строили современные больницы. Например, мост у водопада Виктория, соединяющий между собой Замбию и Зимбабве, был построен англичанами в 1905 г., и он до сих пор является единственным железнодорожным путем сообщения между двумя странами. Еще одним важным следствием колонизации стало повышение грамотности местного населения. Европейцы подарили африканцам современные технологии, что повысило общий уровень выживаемости и защиты общества. До прихода европейцев местные племена совсем нельзя было назвать миролюбивыми. Они точно так же вели между собой постоянные войны, истребляя друг друга, порабощая и творя жестокости. Но повышение уровня образования и новые технологии Запада позволили племенам объединиться в большие государства с более рациональными и совершенными системами управления. Любое развитие происходит через преодоление стрессовых ситуаций. Современные Западные страны достигли такого уровня развития, что перестали воевать друг с другом. Они друг с другом сотрудничают и находят взаимовыгодные схемы партнерских отношений. Африка постепенно движется в этом направлении. И хотя до уровня Запада ей еще очень и очень далеко. Но столкновение с европейцами, перенимание их технологий и получение их знаний – значительно ускорило процесс развития.
Все это, конечно, не оправдывает жестокое обращение с туземцами и не отменяет преступлений, совершенных белым человеком. Но, возвращаясь к главной теме, стоит заметить, что истребление местного населения все-таки являлось локальным событием. В масштабах всего мира последствия были не очень большими. Куда важнее было то, что европейские державы в процессе раздела Черного Пирога постоянно сталкивались между собой (что и было проиллюстрировано). До определенного момента времени большой войны удавалось избегать. Но напряжение постепенно нарастало, и противоречия становились все сильнее. Взаимное недовольство друг другом накапливалось. Германия, которая слишком поздно начала колониальную экспансию, чувствовала себя обделенной. И свои захватнические устремления она решила реализовать непосредственно в ЕврАзии. Таким образом, Гонка за Африку, стала прологом, своего рода прелюдией к по-настоящему крупному конфликту. И таких прелюдий по всему земному шару было несколько.
Азия
Линия противоречий между крупнейшими державами проходила не только по Черному Континенту. У индустриально развитых государств существовали разногласия и в отношении павшего Китайского Дракона. Одним из отражений этих разногласий стала Русско-Японская Война. Как раз во время нее произошла Революция 1905 года. Впрочем, начать, наверное, следовало бы не с этого. А с обозначения на карте Тихоокеанского Региона нового серьезного игрока с имперскими амбициями. Это была Страна Восходящего Солнца, возвышение которой стало неожиданностью как для России, так и для всей Европы.
Японо-Китайская Война 1894-95 гг.
Дело в том, что Япония во второй половине 19 в. умудрилась провести у себя модернизацию армии и экономической системы. В стране запустилась индустриализация. Усилившись, Токио захотел выйти из изоляции, в которой добровольно находился многие годы. Проще говоря, настало время для территориальной экспансии. В первую очередь японцы обратили свой взор на китайские земли. В 1894 г. они оккупировали Корейский Полуостров, находящийся под контролем Пекина. Затем они с боями вторглись непосредственно в Поднебесную. Заняли Ляодунский Полуостров и некоторые города на Шаньдунском Полуострове. Китайская армия терпела поражение на суше и на море. И в итоге в 1895 г. Пекин вынужден был пойти на заключение позорного Симоносекского Договора. Он предполагал передачу Токио острова Тайвань, архипелага Пэнху (рядом), Ляодунского Полуострова, и еще выплачивание огромной контрибуции (в размере 30% от японского ВВП), кроме этого Корея становилась независимой и напрямую попадала в сферу влияния Токио. Но Россия, Германия и Франция решили, что для маленькой дерзкой Японии это будет слишком жирно. Поэтому Ляодунский Полуостров был оставлен под юрисдикцией Китая, который в 1898 г. частично сдал его в аренду России. Николаю II нужен был незамерзающий порт на Дальнем Востоке, и он его получил (Порт-Артур). Также Россия добилась права на строительство Китайско-Восточной Железной Дороги через Маньчжурию. В свою очередь Германия получила значительную часть Шаньдунского Полуострова, тем самым присоединившись к колониальному разделу Поднебесной. Токио, естественно, обозлился. У него из-под носа фактически увели его собственное завоевание. К тому же российская железная дорога в Манчжурии должна была пройти слишком близко от Корейского Полуострова, что создавало новые угрозы. В общем, Япония затаила обиду как на Германию, так и на Россию.
Ихэтуаньское Восстание 1898-1901 гг.
Японо-Китайская Война 1894-95 гг. унесла от 15 тысяч до 40 тысяч жизней. Не очень много. Но она, по сути, ознаменовала собой рост напряжения между крупными геополитическими игроками, а также между промышленно-развитыми государствами. Китай не являлся промышленно-развитым, однако был очень крупной страной. Дележ его территории провоцировал конфликты как между индустриальными державами, так и внутри него самого. Вообще, Поднебесная к тому времени находилась в весьма плачевном состоянии. Поражение от англичан во время Опиумных Войн на повышательной фазе предыдущего Цикла привело к мощнейшему Восстанию Тайпинов. Его подавили. Но после этого положение дел в Империи Цин только ухудшилось. Теперь уже маленькая Япония отщипывала кусочки от большого Китая. А уж европейцы и вовсе дербанили его, как только могли. Фактически шла ограниченная колонизация Поднебесной, что, естественно, вызывало недовольство населения. У колонизации, были, конечно, и плюсы. Но китайцы считали, что минусов было больше. Страну заполонили христианские миссионеры, распространяющие свою религию и свои обычаи. Иностранные торговцы приносили с собой новые технологии, которые оказались более эффективными, из-за чего местные работники, задействованные в оказании традиционных услуг, становились ненужными. Скажем, прокладка железных дорог лишила средств к существованию различных носильщиков и перевозчиков. К тому же нередко строительство сопровождалось разрушением домов и уничтожением полей. На рынках и базарах Западные товары начинали теснить предметы кустарного производства. Это приводило к отмиранию народных промыслов и разорению ремесленников. Ситуация ухудшилась после демобилизации солдат, которые пополнили армию безработных. Но с проблемами сталкивались не только простолюдины. На фоне общей деградации экономики и социальной сферы политическая жизнь также становилась неспокойной. Между элитами начиналась борьба за власть. В 1886 г. вдовствующая императрица Цыси, исполняющая обязанности регента, передала бразды правления государством в руки молодому императору Цзайтяню (также – Гуансюй), который достиг совершеннолетия. Но Цзайтянь, осознавая отсталость Китая в современном мире, захотел провести модернизацию. Цыси не одобряла реформы. И тогда реформаторы решили избавиться от нее. Однако Цыси опередила их и сама совершила государственный переворот. В 1898 г. Цзайтянь был отстранен от власти. Но спокойствия это не принесло. К тому времени в Китае уже давно распространялось тайное движение ихэтуаней. Они выступали против колонизации, засилья европейской культуры и Западных технологий, и требовали возвращения к древним традициям. Поскольку они уделяли большое внимание физическим тренировкам и практиковали кулачные бои, то англичане прозвали их боксёрами.
Первые небольшие выступления начались еще в 1897 г. А в ноябре 1899 г. лидеры движения призвали к восстанию всю страну. Впрочем, ореол действия бунтовщиков ограничился столичным регионом и близлежащими провинциями. Но и этого было достаточно, чтобы напугать императорскую аристократию. Цыси поначалу поддержала Ихэтуаней. Она разделяла их ненависть к Западной Цивилизации. Однако “движение праведного кулака” вскоре переросло в беспорядки, а в рядах восставших зазвучали политические лозунги. Китайцы не любили правящую династию маньчжуров. И народное недовольство могло превратиться в попытку свержения власти. Тем не менее, Цыси смогла заключить с восставшими перемирие. Она просто перенаправила их агрессию на иностранцев, заставив отказаться от внутриполитических претензий.
Русские и британцы первыми осознали масштабы надвигающейся катастрофы. Они физически присутствовали в разных регионах Китая. Но их сил для подавления восстания оказалось недостаточно. К 1900 г. движение боксёров уже насчитывало до 200 тысяч человек. Вскоре начались нападения на европейские концессии. Белых людей вырезали. А христианские храмы сжигали и разоряли. В июне восставшие вошли в Пекин и взяли в осаду Посольский Квартал, в котором находилось много европейских граждан. Осада продолжалась два месяца и сопровождалась многочисленными попытками штурма. Среди иностранцев погибло 75 человек, и еще 170 было ранено. Параллельно восставшие учинили массовую расправу над китайскими христианами. Но прорвать оборону Посольского Квартала европейцев так и не смогли. В августе к ним на помощь подошли основные силы Западных держав.
Интервенцию осуществили наиболее крупные индустриальные государства: Великобритания, Россия, Германия, Франция, Австро-Венгрия, Италия, США, а также Япония. У всех у них были коммерческие интересы в Китае. Но пока их войска добирались до Поднебесной, ихэтуани успели захватить еще несколько городов и казнить десятки, если не сотни европейцев. Также были осуществлены нападения на Харбин, в котором русские прокладывали железную дорогу (КВЖД). Вся построенная инфраструктура при этом уничтожалась. А в июле был обстрелян уже, собственно, российский приграничный город Благовещенск, после чего русскими были истреблены тысячи проживающих в городе мирных китайцев. В июле союзники начали полноценное вторжение. В ответ на это императрица Цыси призвала на защиту отечества регулярную армию, которая оказала восставшим поддержку. Впрочем, действия китайской правительницы были хаотичными и непоследовательными. Она одновременно демонстрировала свою благосклонность ихэтуаням и в то же время заискивала перед иностранцами. Вероятно, это объясняется страхом как перед теми, так и перед другими.
Как бы там ни было, но 13 июля союзники взяли Тяньцзинь, который предварял дорогу на столицу. Затем интервенты с боями подошли к Пекину. И 14 августа начался штурм города. Императрица Цыси вместе со свергнутым Цзайтянем бежали на юго-запад вглубь страны. Переговоры с оккупантами по каким-то причинам начаты не были, равно как никто не позаботился об организации полноценной обороны. В итоге в течение двух дней силы союзников захватили столицу, после чего она была подвергнута разграблению. На севере тем временем русские войска начали занимать Маньчжурию, переходя на другой берег Амура. Когда Цыси убедилась в том, что ихэтуани, вооруженные в основном мечами и копьями, не способны эффективно бороться с иностранцами – она приказала собственной армии подавить восстание. Затем были начаты переговоры с интервентами.
В конечном счете, Восстание Ихэтуаней обернулось для Китая серьезными потерями, загнав страну в еще большую экономическую и социальную яму. По Заключительному Протоколу Поднебесная обязалась: выплатить внушительную контрибуцию (16 785 тонн серебра); принести извинения семьям убитых дипломатов; казнить предводителей бунтовщиков; предоставить иностранцам право возвести от столицы до побережья 12 опорных пунктов; допустить оккупационные войска для защиты посольских миссий; запретить все сообщества, агрессивно настроенные против иностранцев; срыть форты Дагу (Тяньцзинь); прекратить сбор налогов; и возвести христианские памятники. Также в Китай запрещалось в течение двух лет поставлять оружие. Осознав отсталость своего государства, императрица Цыси занялась реформами. Однако они сильно запоздали и уже не смогли предотвратить обрушения страны в полномасштабный внутренний передел (подробнее об этом в другом разделе).
Что касается количества жертв, то в ходе восстания было убито 32 тысячи китайских христиан и 200 европейских миссионеров. Военные потери России составили 300 человек, Японии – более 600, остальные страны потеряли десятки убитыми. Китай же потерял тысячи комбатантов. А общие потери оцениваются в 100-115 тысяч человек.
Русско-Японская Война 1904-05 гг.
Совместное подавление Боксёрского Восстания, вопреки ожиданиям, не привело союзников к примирению. Япония продолжала рассматривать Россию и Германию как своих прямых конкурентов, мешающих ей делить китайский пирог. Но если оккупация Россией Маньчжурии сама по себе не вызывала большого недовольства, то вот за безопасность Кореи в Токио переживали не на шутку. В 1901 г. японский представитель поехал в Петербург на переговоры. Его предложение было следующее: “Маньчжурия – России, Корея – Японии”, с соответствующими гарантиями. Но русский император Николай II не желал усиления японцев на Корейском Полуострове, поэтому выкатил ряд условий. Среди них были: ограничение численности и времени пребывания японских войск в Корее; а также свободное прохождение русских судов через Цусимский Пролив (между Японией и Кореей, если точнее – то между Японией и островами Цусима). Дело в том, что у самой России в Корее на реке Ялу (приграничье) имелись лесные концессии, которые Петербург хотел использовать для дальнейшего проникновения на Полуостров. В общем, стороны к взаимопониманию не пришли.
Не желая долбить головой русскую стену, правительство Японии взяло и заключило союз с Великобританией. Этот союз предполагал существенную помощь в случае войны той или другой стороны с двумя и более противниками, война же с одним противником предполагала нейтралитет. Фактически англичане позволили Японии разобраться с Россией в одиночку без вмешательства других держав. Лондон беспокоился за свои колонии в Азии, поэтому с настороженностью смотрел на российскую экспансию, желая притормозить ее. Но в то же время начинать крупную войну без весомого повода Туманный Альбион не хотел. К слову сказать, между Россией и Францией тоже был заключен военный союз, но он предполагал взаимную помощь в случае нападения Германии и Италии на Францию, либо Германии и Австро-Венгрии на Россию. Так что в конфликт с Японией Франция вмешаться никак не могла.
Вероятно, боевых действий между армиями Петербурга и Токио на Дальнем Востоке можно было бы избежать. Но министр внутренних дел Плеве всячески способствовал развязыванию конфликта со Страной Восходящего Солнца. Он даже якобы утверждал, что “маленькая победоносная война” позволит предотвратить революцию. В свою очередь Япония тоже мечтала проучить Россию, отомстив ей за Ляодунский Полуостров. Да и Корею она ни с кем делить не собиралась. Таким образом, к войне стремились обе враждующие стороны. И Петербург, и Токио постоянно шли на обострение ситуации.
В апреле 1903 г. Россия по заключенному ранее договору должна была вывести свои войска из Маньчжурии. Но, начав уже вывод, она потребовала от Китая закрыть регион для иностранной торговли. В Пекине с этого слегка прифигели. А Великобритания, США и Япония выразили России протест, одновременно посоветовав Пекину ни на какие дополнительные условия не соглашаться. В мае Россия решила потроллить уже саму Японию. Она перебросила на реку Ялу своих солдат, переодетых в гражданскую одежду, которые начали фактически строительство военной базы. Летом переброска войск ускорилась через Транссибирскую Магистраль. Японии все это надоело, и она решила уже, наконец, начать войну. США и Великобритания поддерживали.
На первый взгляд Россия была больше и мощнее, ее население в три раза превышало население Японии. Но в действительности на Дальнем Востоке людей проживало очень мало. Количество войск там составляло всего 150 тысяч человек, причем основная масса была задействована в охране границы и ключевых объектов. Россия готовилась к войне. В частности, достроила Транссиб. Но его пропускная способность оставалась низкой – 30-тысячный корпус ехал от Москвы до Кореи целый месяц. То есть перебросить большую армию на основной театр военных действий в короткие сроки было невозможно. Еще не менее важным являлось качественное превосходство японского оружия над российским. Например, Страна Восходящего Солнца располагала достаточным количеством пулеметов, которых было не очень много у русских. Также и на флоте: японские корабельные орудия били дальше, а снаряды несли в себе больше разрушительной силы. С модернизацией армии Токио помогали англичане.
Япония начала войну 9 февраля 1904 г. с атаки на Порт-Артур и корейский порт Чемульпо, в котором находились русские корабли. Бой у Чемульпо закончился победой японцев, после чего началась их высадка на Полуостров. С Порт-Артуром же все оказалось куда сложнее. В первый день победа японцев выглядела не столь однозначной, хотя несколько сильнейших российских кораблей было повреждено. Однако установление блокады порта заняло время, и об успехе всей операции можно было отрапортовать лишь в мае месяце. К тому времени на минах успел подорваться и затонуть броненосец “Петропавловск”, команда которого – 650 человек – почти полностью погибла, включая вице-адмирала Макарова.
После высадки на Корейском Полуострове японцы вторглись в Маньчжурию. Сама высадка прошла весьма успешно и практически не встретила сопротивления русских. Потери у японцев были только в кораблях в результате морских сражений. В мае 2-я Японская Армия выдвинулась в сторону Порт-Артура, по пути занимая Ляодунский Полуостров. Русские отступали. И в июле Порт-Артур оказался в осаде. Она продолжалась около 5 месяцев. Японцы своей дальнобойной артиллерией наносили существенный урон как защитникам крепости, так и находящимся в порту кораблям 1-ой Тихоокеанской Эскадры. Эскадра пыталась прорваться во Владивосток, но у нее это так и не получилось. Равно как и провалилась попытка деблокады извне. В итоге в январе 1905 г. русские после успешного штурма японцами ключевой высоты вынуждены были капитулировать. 1-ая Тихоокеанская Эскадра к тому времени была почти полностью уничтожена. Впрочем, сами японцы за время осады и штурма понесли потери в живой силе несопоставимые с русскими войсками (до 110 тысяч убитыми, раненными и умершими – против 31 тысячи убитыми и ранеными, и еще 23 тысяч пленными).
Тем временем, в Маньчжурии в конце лета и осенью состоялось два кровопролитных сражения: при городе Ляоян и на реке Шахэ. В первом японские потери оказались выше российских (24 тысячи против 19 тысяч), а во втором, наоборот, русские потеряли 40 тысяч человек против 25 тысяч японцев. Но в любом случае оба сражения закончились отступлением русских на север к Мукдену, что, по сути, было поражением.
Поскольку Япония была островным государством, то российскому флоту представилась возможность действовать на ее морских коммуникациях. Русские корабли в течение 1904 г. постоянно досматривали японские торговые суда на предмет военной контрабанды. Часть судов захватывали или уничтожали. Операции проводились как в Тихом Океане, так и вблизи Африканского Побережья (например, в Красном Море у Суэцкого Канала). Один раз даже захватили британский пароход “Малакка”, что вызвало международный скандал и чуть было не привело к вступлению Великобритании в войну. Самой же успешной операцией русских кораблей стало потопление конвоя Хитати-Мару, состоящего из 3 транспортных судов (погибло 1400 человек). Подобные действия, по сути, представляли собой ограниченную морскую блокаду. Что наряду с морскими сражениями в Восточной Азии, наверняка, оказало определенное влияние на стоимость товаров. Индекс Цен США, Великобритании и Франции начал расти в 1895 г. Как раз в это время стало нарастать и напряжение между ведущими державами. В Азии произошла Японо-Китайская Война, Восстание Ихэтуаней с последующим подавлением, и Русско-Японская Война. Хотя по своим масштабам она не могла привести к значительному повышению цен. Настоящий рост произойдет уже во время Первой Мировой Войны.
Капитуляция русских в Порт-Артуре позволила японцам перебросить войска с этого направления в Маньчжурию. Для недопущения этого русские устроили кавалерийский набег на портовый город Инкоу, через который проходили железнодорожные пути. И хотя город был подожжен, его телеграфные и телефонные линии перерезаны, а два поезда сошли с рельс, но общий итог всего рейда оказался не очень впечатляющим. Пламя пожара осветило местность и позволило японцам вести прицельный огонь по противнику. Атака же русских конников на укрепленные позиции и вовсе привела к большим потерям. А затем отступающий русский отряд еще чуть было не окружили в ходе преследования. В итоге из 7000 кавалеристов 408 было убито и ранено. А японцы, быстро восстановив ж/д сообщение, все равно смогли осуществить переброску войск из Порт-Артура.
В конце января русские войска попытались перехватить инициативу и пошли в атаку в районе Сандепа (чуть южнее Мукдена). Они даже имели некоторый успех. Но главнокомандующий Маньчжурской Армией Куропаткин, посчитав понесенные потери слишком большими, а риски слишком высокими, на 4-ый день боев остановил наступление.
К февралю русская армия сконцентрировалась на юге от Мукдена, защищая город и проходящую рядом железную дорогу от прибывающих японских войск. Обе стороны готовились перейти в наступление. Но первыми атаку начали воины Страны Восходящего Солнца, 19 февраля. Силы были примерно равны: 280-290 тысяч у русских и 270 тысяч у японцев. Последние применили обманную тактику: целую неделю японцы давили на восточный фланг русских, заставив Куропаткина перекинуть на это направление дополнительные силы с западного фланга, и тем самым ослабить его, а 27 февраля японцы нанесли мощный удар в западный русский фланг. Не выдержав натиска, солдаты 2-ой Маньчжурской Армии (генерал Александр Каульбарс) стали отходить назад. К 3 марта генерал Ноги решил обойти западный русский фланг, чтобы зайти своему противнику в тыл и перерезать ему железнодорожное сообщение. Русская армия, завернувшись своеобразной дугой вокруг Мукдена, начала постепенное отступление. Однако 8 март ее положение стало катастрофическим: 1-ая Армия генерала Куроки прорвала восточный фланг русских, в результате чего уже потребовалась спешная эвакуация на север. Но в окружении осталась 15-тысячная группировка, которая отступала в беспорядке и панике, пытаясь прорваться по узкому коридору, и в итоге большая часть ее вынуждена была просто сдаться. Общие потери русской армии составили 90 тысяч человек (8705 убитых). Победа очевидно была за японцами. Но их потери также оказались большими, составив около 70 тысяч при 15900 убитых. Дальнейшее наступление выглядело рискованным, ибо ресурсы Страны Восходящего Солнца банально иссякали. На ее счастье в самой России началась первая революция.
Россия терпела поражение, но настоящая катастрофа для нее была еще впереди. В мае состоялось известное Цусимское Морское Сражение. Когда Порт-Артур был взят в осаду – из Балтийского Моря вышла 2-ая Тихоокеанская Эскадра. Плыла она, конечно, долго, и помочь осажденным не успела. Но, соединившись с 3-ей Тихоокеанской Эскадрой, она решила прорываться во Владивосток, чтобы забрать оттуда Сибирскую Флотилию, и всем вместе навалять наглым японцам у Кореи. В общей сложности около 40 российских кораблей прибыли к Цусимскому Проливу 27 мая. Но японцы уже ожидали и нетерпеливо начищали до блеска свои орудия. Адмирал Хейхатиро Того по опыту предыдущих морских боев предполагал, что русский флот будет состоять из множества разнородных кораблей и торговых судов с отличной друг от друга скоростью. Двигаться они будут в кильватерных колоннах (цепочкой друг за другом), и вся колонна будет иметь скорость, соответствующую самому медленному кораблю. Честно говоря, это не отвечало задачам прорыва. Вице-адмирал Зиновий Рожественский ошибочно думал, что японцы не решатся атаковать его флот. Однако вышло иначе – его колонны оказались уязвимыми для мобильных отрядов Хейхатиро Того.
Днем 27 мая началось Цусимское Сражение, которое обернулось катастрофическим поражением России на море, и позже превратилось в имя нарицательное. Об этом следует рассказать поподробнее. Две кильватерные колонны русского флота (в левой – боевые корабли, в правой – торговые суда) были замечены японцами еще ночью при прохождении Островов Гото. Крейсер “Идзуми” вел наблюдение. Утром с запада появились японские боевые отряды, одним из которых командовал Того Младший. Но главные силы Хейхатиро Того выдвигались с Корейского Полуострова. Они зашли с северо-восточной стороны от русских колонн, пересекли их линию курса, а затем японский адмирал совершил свою знаменитую “Петлю Того”. Он произвел очень опасный разворот – для того, чтобы встать на параллельный курс к западу от противника с возможностью постоянно обгонять его. Во время разворота японские корабли были весьма уязвимы для русского огня. Но адмирал Рожественский не успел воспользоваться удачным моментом (нужно было ускорить ход и приблизиться к противнику). Его флагман произвел первый выстрел только после того, как японцы уже развернулись и приготовились к нападению. Их ответный огонь сразу же нанес русской эскадре ощутимый урон. Положение усугубило маневрирование Рожественского, который повернул всю колонну вправо. Это привело к тому, что первые пять сильнейших броненосцев приняли на себя всю тяжесть боя и оказались под мощным обстрелом, в то время как следующие за ними корабли, не успевшие повернуть, имели ограниченные возможности для атаки. Свою роль сыграло и превосходство японской артиллерии, а также выучка моряков. Дело в том, что российские снаряды имели грубые взрыватели, они порой не могли сдетонировать даже при попадании в корабль, в то время как японские снаряды детонировали при попадании в воду. Это позволяло осуществлять более эффективную пристрелку с дальнего расстояния, т. к. взрыв на воде был хорошо заметен. Первые выстрелы были пробными. Исходя из места падения снарядов – делалась корректировка. И далее японцы уже накрывали свою цель мощным огнем. Как правило, целью становился головной корабль противника. Эта тактика прекрасно работала. В самом начале боя российский флагман “Князь Суворов” получил достаточно сильные повреждения рулевого управления, загорелся и стал плавать по кругу. Находящийся на нем адмирал Рожественский оказался тяжело ранен. Другой флагман – “Ослябя” – вообще вышел из строя, накренился на левый борт и затонул. Эскадра на какое-то время осталась без командования.
Броненосец “Император Александр III” попытался увести колонну на север. Но адмирал Того развернул свои главные силы и открыл огонь по русским кораблям уже с левого борта. “Император Александр III” загорелся и вынужден был остановиться. Командование на себя принял броненосец “Бородино”. Тем временем, правая колонна с торговыми судами, а также прикрывавшими их крейсерами и миноносцами по приказу Рожественского тоже свернула на восток. Она оказалась значительно южнее и подверглась нападению 4-го боевого отряда Уриу и 3-го боевого отряда Дева. Участь ее была незавидной. К этому моменту исход сражения в общих чертах уже был понятен. Хотя русский флот еще сопротивлялся. Более того – появилась возможность выйти из битвы с минимальным уроном. Левая колонна во главе с “Бородино” после мощного обстрела взяла курс на юго-восток, а главные силы японцев ушли на запад. В результате противники разминулись и какое-то время не видели друг друга в тумане. Однако основной задачей русского флота был прорыв к Владивостоку. Поэтому “Бородино” снова сменил курс на север, а японцы развернулись и поплыли обратно на восток. Около четырех часов дня противники сблизились и начали обстреливать друг друга. Корабли с обеих сторон получили серьезные повреждения. В том числе и флагман адмирала Того заимел пробоину в угольной яме. Поскольку японцы опять подходили к русской колонне слева и спереди, то “Бородино” свернул вправо и снова ушел на юго-восток. Противники во второй раз потеряли друг друга из виду. Только флагман Рожественского, из последних сил плетущийся позади колонны в сопровождении защищающих броненосцев, продолжал получать удары от японского отряда. В конце концов, защищающие броненосцы начали с него эвакуацию офицеров.
Пока “Бородино” делал огромную петлю, пытаясь спасти остатки эскадры – южнее японцы топили русские транспортные суда, идущие в сопровождении крейсеров. Крейсера пытались отстреливаться, и за счет своей манёвренности много раз уходили из-под огня неприятеля. Однако полноценную защиту транспортникам обеспечить они не могли. Вскоре две потрепанные русские колонны, разминувшиеся в самом начале боя, встретились. Торговые суда, оставшиеся на плаву, скрылись за левым бортом броненосцев, и все вместе они поплыли, наконец, во Владивосток, подвергаясь обстрелу. Но японцы не собирались так просто отпускать своих противников. Они обогнали русский конвой с правой стороны, вышли вперед и снова дали мощный залп из орудий. “Император Александр III”, вернувшийся в строй и плетущийся в хвосте колонны, получил на этот раз критические повреждения, перевернулся и затонул. Все 867 членов экипажа погибли. Произошло это между 18:00 и 19:00. А после 19:00 критические повреждения получил и ведущий колонну “Бородино”. На его борту произошел взрыв и начался сильный пожар, в результате чего он также вскоре опрокинулся и ушел под воду. Из 866 человек спастись удалось только одному матросу, которого японцы подняли из воды. Тем временем, далеко на юге, флагман Рожественского, сильно отстав от колонны, был окружен вражескими миноносцами и тоже потоплен, погибло 935 человек. После 19:00 адмирал Того приказал прекратить огонь. Наступали сумерки. Последний выстрел сделал русский броненосец “Сисой Великий”, он попал во флагман вице-адмирала Камимуры, но снаряд не разорвался.
Состояние 2-ой Тихоокеанской Эскадры было плачевным. Взявший было на себя командование броненосец “Орел” с разорванными и выведенными из строя орудиями едва держался на плаву. Его заменил “Император Николай I”. Остальные русские корабли имели повреждения разной степени тяжести.
Однако с наступлением вечера сражение полностью не закончилось. В темноте тяжело было вести артиллерийский огонь. Поэтому на охоту вышли японские миноносцы, которые должны были добить торпедами русские броненосные корабли (из-за своих больших размеров они становились подходящей мишенью). Японские же броненосцы покинули Залив, чтобы не мешать. В этот момент произошло одно из самых странных и неприятных событий. Ведущий русскую эскадру на север адмирал Небогатов, когда заметил приближение вражеских миноносцев – резко свернул на юго-запад. Это внесло дезорганизацию в движение и полностью нарушило строй. Адмирал Энквист, возглавлявший отряд крейсеров и транспортников, судя по всему, не понял, что происходит. Он также резко развернулся влево и отдал приказ крейсерам следовать за ним на полном ходу. Адмирал Небогатов буквально через полчаса снова развернулся на север и лег на прежний курс. А вот адмирал Энквист так и ушел на юг в другом направлении, уведя за собой большую часть крейсеров и транспорта. Причем скорость он задал такую, что некоторые подбитые крейсера, нахлебавшиеся воды, просто отстали и потерялись. Впрочем, и адмирал Небогатов улепётывал с места сражения, позабыв о своих боевых товарищах. Несколько броненосцев из-за сильных повреждений двигались слишком медленно, и к тому же не могли ориентироваться в темноте. Они стали легкой добычей для японских миноносцев.
По сути, российский флот, вошедший в Залив 27 мая, распался на части и в основной своей массе рассеялся. Каждый корабль постигла своя участь. Один был затоплен. Другой сдался врагу. Третий ушел в неизвестном направлении и пропал. Команда четвертого высадилась на берег ближайшего острова, после чего была пленена японцами. И так далее. Основной отряд Небогатова, ушедший далеко на север, казалось, имел возможность спастись. Однако он тоже не сумел добраться до Владивостока. Утром его с разных сторон окружили японцы и начали обстреливать с дальней дистанции. Русские броненосцы не могли ответить огнем, т. к. их артиллерия банально не доставала до противника, половина же орудий была и вовсе выведена из строя, к тому же заканчивался боезапас. В таком безвыходном положении адмирал вместе с командиром флагмана “Император Николай I” приняли решение сдаться.
В конечном счете, флот Рожественского был разгромлен. Спастись удалось очень немногим русским кораблям. Всего два миноносца и один крейсер разными путями дошли до Владивостока. Еще один крейсер выбросился на берег в 300 км от заветного города, затем он был взорван запаниковавшим командиром, а экипаж пошел пешком. Несколько кораблей смогли уйти в Шанхай или на Филиппины, где команда была интернирована (разоружена до конца войны). Общие потери русских в живой силе составили: 5045 человек убитыми, 6016 взятыми в плен, более 800 ранено, еще около 2000 интернированы. Из 38 кораблей 21 был уничтожен (затоплен, взорван и т. д.) и 7 захвачено. Потери же японцев составили: 117 человек убитыми и 538 ранеными, 3 небольших миноносца потоплены, еще несколько кораблей получили повреждения.
В общем-то, после такого войну можно было заканчивать. Но Россия пыталась еще выпендриваться. Предложение о мире, переданное через американского президента Теодора Рузвельта, в Петербурге если и не отвергали, то принимать явно не спешили. Тогда японцы просто взяли и вторглись на остров Сахалин. Российский флот в Тихоокеанском Регионе все равно был разгромлен. Так что помешать было некому.
Сахалин был самой настоящей чёртовой дырой. Основную массу населения там составляли каторжники и ссыльные, вместе с надзирателями. Именно их и решено было мобилизовать для защиты территории. Боеспособность их была, конечно, не на высоте. Но больше там никого не было. Разве что охотники еще иногда похаживали по лесу. Но они при объявлении о мобилизации из леса решили не выходить. Были там еще моряки с крейсера “Новик”. Они чинили свое подбитое судно после боя, произошедшего в Желтом Море в августе 1904 г. Когда им сказали, что вот, видите ли, надо остров от японцев защитить – они собрались и ушли пешком во Владивосток (прям по воде). Короче, с обороной восточных рубежей Империи все было как-то не очень. В общей сложности собрали около 7000 тысяч человек – тех самых каторжников, которым объявили амнистию. Для приличия им прислали немного артиллерийских орудий и пулеметов. И еще с “Новика” пушки сняли (матросы-то все равно ушли).
Японцы высадились на остров 7 июля. Было их 14 тысяч – в два раза больше, чем защитников. Командир “Новика” с оставшейся частью матросов попытался воспрепятствовать высадке. Но после новых попаданий в и так уже подбитый крейсер – решил его затопить, от греха подальше. Вооруженные каторжники под начальством офицеров избрали партизанскую тактику. С ее помощью они сопротивлялись примерно три недели. Сильно посмешили японцев, но умудрились организовать парочку засад. Погибло их самих за это время 180 человек. А сколько японцев погибло – неизвестно. Видимо, еще меньше. В конечном счете, часть каторжников решила сдаться в плен, а другая часть опять же сбежала на большую землю. Собственно, на этом боевые действия и закончились.
В этой злополучной войне у российской армии одно поражение следовало за другим. Ситуация осложнялась внутренними проблемами в самой стране – начиналась первая Революция. Рабочие заводов останавливали предприятия. В городах на улицах шли настоящие бои. В деревнях крестьяне жгли помещичьи усадьбы. Бунтовали матросы на флоте. А на землях национальных окраин разрасталось движение за автономию. В общем, империя, взрывалась изнутри. Но и Япония тоже воевала на грани своих возможностей. Ее экономика была истощена. Поэтому мира хотелось обеим сторонам. Тем более что Россия проигрывала не очень много, если вынести за скобки удар по ее имиджу на мировой арене. Теоретически она могла еще продолжать боевые действия. Но ее финансы уже трещали по швам. Расходы на войну приближались к 2,6 млрд. рублей, что превышало размер годового бюджета в 2 млрд. р. При этом понесенный ущерб составил еще 4 млрд. р. Однако положение Японии было хуже. Она ставила на карту очень многое, и ее экономика могла в любой момент надорваться. Одновременно и людские ресурсы России были значительно больше. Она потеряла убитыми около 50 тысяч человек против 80 тысяч солдат своего противника. Правда, при этом еще более 70 тысяч русских томились в японском плену. Но в рамках мобилизации можно было обеспечить 4-кратное превосходство в живой силе. Основной же проблемой оставалась логистика – требовалось перебрасывать войска на восток через всю страну. А тем временем революционеры уже чуть ли не готовились к свержению власти в столице. В итоге Петербург принял предложение Токио начать переговоры.
По договору, заключенному в американском Портсмуте, Россия уходила с Ляодунского Полуострова, передавала Южно-Маньчжурскую Дорогу (часть КВЖД) и признавала право Японии на Корею. Также она вынуждена была отдать южную часть Сахалина. Изначальные аппетиты Страны Восходящего Солнца были выше: она претендовала на весь Сахалин, а также дополнительно требовала выдачи всех интернированных российских судов и еще контрибуции – но вот эти ее желания остались неудовлетворенными. А неудовлетворенность, как известно, страшная сила. Японские граждане, считающие условия мирного договора слишком мягкими, устроили в Токио беспорядки, в результате которых погибло около двух десятков человек. Очевидно было, что Страна Восходящего Солнца просто пышет империалистическими амбициями. В следующие 40 лет она будет стремиться захватить побольше китайской земли и тихоокеанских островов, пока не наткнется на успокоитель в лице Соединенных Штатов Америки.
Что же касается России, то она оказалась унижена. Во всем мире только и говорили о том, как впервые за много столетий европейская страна потерпела поражение от азиатской. Выше уже отмечалось, что министр внутренних дел Плеве хотел “маленькой победоносной войны” для сдерживания революции. Но все произошло с точностью до наоборот. Война оказалась не очень маленькой и совсем не победоносной. А революционеры в 1905 году воспользовались боевыми действиями на Дальнем Востоке и слабостью режима для разжигания народного недовольства. В итоге царская власть потерпела и внешнеполитическое, и внутриполитическое поражение. Но на самом деле это было лишь начало краха Российской Империи. Вся слабость ее системы вскроется во время Первой Мировой Войны.
Персия (тоже ведь Азия)
Не только на Дальнем Востоке, но и на Ближнем сталкивались лбами индустриально развитые страны. Причем параллельно с этим в мире разрасталось социалистическое движение, которое поднимало революционную волну. Два этих процесса – борьба за сферы влияния и борьба за политические права – в некоторых местах пересекались, взрываясь яркими красками и создавая причудливые ситуации. Одним из таких мест являлась Персия, в которой смена Парадигм оказалась насущной необходимостью. Но прежде, чем переходить к описанию событий, следует кратенько рассказать предысторию, чтобы понимать, в каком состоянии пребывала страна накануне Первой Мировой Войны.
В 16 веке Россия (Русское Царство) начала проникновение на Кавказ. Чтоб застолбить место, был построен укрепленный Терский город, в котором ошивались казаки и прочие бандиты, промышлявшие разбоем. Интересы Москвы неизбежно соприкасались в данном регионе с интересами Османской Империи, различных местных княжеств, а также Персии, то бишь Ирана, что закономерно породило длительную конфликтную ситуацию. Периодически между крупными державами и мелкими ханствами происходили локальные войны.
В начале 17 века Петр I уже организовал в Персию полноценный поход (сразу после того, как одержал победу в Северной Войне со Швецией). Он намеревался проложить путь из Индии в Европу, через который можно было бы вести торговлю. Предполагалось, что этот путь станет возможным благодаря некой мнимой реке, текущей через Иран и впадающей в Каспийское Море. Военный поход в целом был успешен, Россия захватила большие территории у западного и южного побережья Каспия. Но коммерческие планы реализовать не удалось. Никакой реки, соединяющей Индию с Каспийским Морем, как оказалось, не существовало. А все прибрежные территории пришлось вернуть Ирану в 1730-ых годах.
Продвижение в Азию продолжалось и при Екатерине II вплоть до самой ее смерти. Однако с другой стороны – с юго-востока – к Персии подходили англичане, которые еще в 18 веке приступили к активной колонизации Индии и постоянно порывались установить свою власть в Афганистане. Впервые столкновение интересов Лондона и Петербурга произошло во время Наполеоновских Войн. Русские осуществляли свою экспансию в Закавказье, присоединяя одно за другим местные феодальные ханства, и, в конце концов, подошли к северным границам Каджарского Ирана. Можно сказать, даже вторглись в них. Тегеран считал (и не безосновательно), что Россия хапнула себе немного лишка, завладев исконно персидскими землями, правители которых объявили о своей независимости в период хаоса и нестабильности империи. Каджарское государство было хрупким и стремилось к децентрализации, но царствующая династия пыталась сдержать этот процесс, собирая по кусочкам отколовшиеся когда-то княжества. Приход русских в такой непростой период времени стал большой неприятностью. В ходе последовавшей войны 1804-13 гг. Петербург получил контроль над значительной частью территории современного Азербайджана, а также утвердил свою власть над Грузией и Дагестаном. Действия России при осаде городов привели к массовому бегству местного населения вглубь Ирана. Британцы, опасаясь дальнейшего продвижения русских, начали поддерживать Каджаров. Пока была необходимость в создании коалиции против Наполеоновской Франции, Лондон старался не провоцировать конфликт. Но после победы над Наполеоном английская Корона приступила к более активным действиям. Впоследствии именно это соперничество двух держав за регион и получило название Большая Игра.
В 1820-ых годах Тегеран захотел вернуть себе утраченные земли. Англичане обещали помочь деньгами и оружием, обязались обучить войска и модернизировать иранскую армию в соответствии с современными реалиями. Лондон подстрекал шаха к более агрессивным действиям. И в июне 1826 г. персы начали войну. Поначалу их продвижение было успешным, русские части вынуждены были отступать и сдавать крепости. Местные жители, за исключением армян, присоединились к кампании по освобождению от гнета России. Но к началу нового года генералы Ермолов и Паскевич сумели перехватить инициативу и перешли в контрнаступление. В итоге русские снова одержали победу. По Туркманчайскому Договору под контроль Петербурга переходили еще некоторые ханства, в том числе Восточная Армения. Как можно догадаться, армянские христиане, испытывающие гонения со стороны мусульман, радовались этому событию. Они получили право уйти из иранских земель на более безопасную для себя российскую территорию. Но кроме них особой радости больше никто не испытывал. Для России был установлен благоприятный торговый режим и предоставлена возможность держать военный флот на Каспийском Море. Позиции Великобритании ослабли. Но она продолжила оказывать культурное и политическое влияние на Персию. Из-за унизительного поражения в иранском обществе зрело недовольство, напряженность в отношениях не спадала. И в результате в 1829 г. разъяренная толпа разгромила в Тегеране русское посольство, перебив охранявших его казаков. Всего погибло 56 человек, в том числе небезызвестный писатель и по совместительству дипломат Александр Грибоедов.
К середине 19 века ситуация несколько изменилась. Россия захватывала среднеазиатские территории, обходя Каспийское Море с востока (Казахстан и Туркмению) и, соответственно, приближаясь к северо-восточным границам Персии. Великобритания, колонизировавшая Индию, хотела сделать Афганистан буферной зоной, которая бы положила предел русской экспансии и в то же время не допускала бы прямого соприкосновения России с индийскими границами. Но Тегеран желал прибрать афганские земли к своим собственным рукам, ссылаясь на то, что они исторически входили в сферу его интересов. На этой почве возник конфликт, переросший в англо-персидскую войну 1856-57 гг. Англичане защищали Афганистан от посягательств Ирана. И теперь уже Петербург подстрекал его правителей к агрессивным действиям против Лондона. В итоге победу одержал Лондон, и его отношения с Тегераном испортились.
Таким образом, видно, что Персия, находящаяся в упадке, вынуждена была постоянно терпеть поражения от России и отдавать ей свои территории. В то же время Великобритания, хоть и оказывала помощь, но существенно сдерживала амбиции персидских шахов и ограничивала их в свободе действий, не давая возможности продвигаться в других направлениях. Как Петербург, так и Лондон имели на Тегеран большое влияние. С одной стороны в Иране происходила модернизация по Западному образцу, строились европейские школы и университеты, перенимались технологии, из-за границы привлекались специалисты. С другой стороны иностранцам предоставлялись концессии и монополии на различные торговые операции. Во второй половине 19 столетия англичане владели в Персии железными дорогами (которые сами же и построили), они устанавливали пошлины на импорт/экспорт продукции и в значительной степени контролировали финансовую систему страны. Некогда великая азиатская империя подпала под власть европейских держав и стала разменной монетой в их геополитических играх. При этом внутри государства царила коррупция и произвол аристократии. Казна была отягощена большими внешними долгами. Правящая Каджарская династия уже не особенно заботилась о благосостоянии народа.
К началу 20 века в Персии обозначился четкий запрос на перемены. Собственная мелкая буржуазия (торговцы и ремесленники) оказались лишены рынка сбыта своих товаров. Они были недовольны политикой государства. В их среде зарождалось национально-освободительное движение, представители которого считали своим долгом бороться с засильем иностранцев. К ним присоединились некоторые религиозные лидеры, разделяющие их взгляды на ситуацию в стране. Также в плачевном состоянии пребывало и вечно страдающее крестьянство, которое стремилось любым способом улучшить свое положение. Все эти категории населения готовы были поддержать отдельные либеральные помещики, желающие разделить власть с правящей аристократией. Семья шаха, и так не пользовавшаяся симпатиями простых иранцев, все больше утрачивала свой авторитет. В декабре 1905 г. в Тегеране произошло событие, которое стало последней каплей в чаше народного гнева, и подобно маленькой искре оно разожгло пламя пожара. Столичный губернатор отдал приказ об унизительном наказании для купцов – бить по пяткам тех, кто поднимает цены на импортный сахар. Это спровоцировало волну массовых протестных демонстраций. В то же время в случае серьезной угрозы протестующие старались укрыться в безопасных местах – в мечетях или на территории иностранных посольств, куда был воспрещен вход вооруженных солдат. Происходящее в Персии трудно было игнорировать как власти, так и мировому сообществу. Демонстранты, громко шагающие большими толпами по узким улицам, требовали отставки ряда чиновников, устранения из правительства иностранных советников, реформирования судебной системы. А впоследствии зазвучали призывы к принятию Конституции и созыву меджлиса, то есть парламента, который бы контролировал вопросы торговли, финансов, промышленности и системы распределения концессий. Таким образом, отставшее в развитии общество, понахватавшись прогрессивных идей у Запада, вооружилось новыми Парадигмами и начало свою борьбу.
Через год больной Мозафереддин-шах вынужден был пойти на уступки и подписал отдельные положения Конституции. Теперь Персия превращалась в парламентскую монархию. Мужчины старше 25 лет, обладающие определенным материальным достатком и социальным статусом, получили право голоса на выборах. Однако буквально через несколько дней шах то ли с расстройства, то ли просто от старости помер. На трон взошел его сын Мохаммед Али-шах, который испытывал на себе влияние российского агента и потому был настроен по отношению к протестующим очень агрессивно. Он решил, что лучший парламент – тот, который сидит в тюрьме (с таким проще договариваться). В общем, начались первые столкновения демонстрантов с войсками. К концу 1907 г. радикалы уже вовсю убивали правительственных чиновников. В Тебризе (Тавризе) бунтующие захватывали ключевые объекты инфраструктуры – почту, телеграф, склады с оружием. Наибольшего успеха восставшие добились именно в северных провинциях – Азербайджане и Гиляне. Здесь работали профессиональные революционеры из России. В Москве и Петербурге в это время, как известно, тоже было неспокойно. Левые группировки космополитического характера активно пытались свергнуть монархию и там, и тут.
В начале 1908 г. на шаха было совершенно покушение (в карету кинули бомбу). Но оно оказалось неудачным. И летом Мохаммед Али принял окончательное решение арестовать членов парламента. Их не спасло даже укрывательство в мечетях. Мечети бомбили из артиллерии. Ничего святого у Каджарской династии за душой не осталось. Началась гражданская война.
К удивлению властей, отряды революционеров проявили себя как искусные бойцы и добились немалого успеха. К концу 1908 года город Тебриз был полностью захвачен. Представители бывшей администрации сидели в тюрьме или были убиты. Многотысячные войска шаха не смогли вернуть город под свой контроль и начали длительную осаду, блокировав подвоз продовольствия. Однако восставшие благодаря своему рациональному обращению с гражданским населением приобретали у него все больше симпатий. К началу 1909 г. против шаха бунтовала уже вся Персия. Весной в направлении Тегерана выступили различные племена и революционные группировки. И, в конце концов, летом столица была захвачена. Мохаммед Али скрылся в российском посольстве, а потом и вовсе уехал из страны. Он объявлялся низложенным. На престол возводился его 11-летний сын Султан Ахмад, который, естественно, контролировался регентами. Меджлис при этом возобновлял свою работу. Казалось бы, Революция победила.
Однако не все было так просто. Англичане и русские, обычно соперничающие между собой за влияние в регионе, умудрились в этот раз найти общий язык. Они быстро поняли, что корову, которую они совместно доят, скоро либо зарежут, либо доведут до истерики и эмоционального истощения. Еще в 1907 году между Лондоном и Петроградом было заключено соглашение, в соответствии с которым Иран делился на три зоны: северная – которая отходила России, южная – которая отходила Великобритании, и центральная – которая оставалась как бы свободной, но туда могла зайти Германия. При этом Афганистан признавался исключительной территорией британских интересов. Достигнутые договоренности положили конец Большой Игре и легли в основу будущего союза (Антанта). А уже в 1908 г. в Персии были обнаружены запасы нефти, что превращало ее в стратегически важный регион.
Тем временем, новое иранское правительство пригласило в страну американского финансиста Моргана Шустера с его командой специалистов. Они должны были решить головоломку под названием: “Как расплатиться с долгами и при этом остаться независимыми”. Шустер энергично приступил к выполнению своих задач и вскоре приобрел большую власть. Но его способы изыскания денежных средств неожиданно вступили в конфликт с российскими интересами. Требования Петрограда отправить находчивого американца в отставку были отклонены меджлисом. Соответственно, в 1909 г. Россия, воспользовавшись, как предлогом, случаями нападения на своих подданных какими-то местными бандитами – начала вторжение в зону своего влияния. К 1911 г. восстания в северных регионах Ирана были подавлены. Лидеры революционеров повешены, сопротивляющееся местное население перебито. Работа меджлиса приостанавливалась, его старый состав был разогнан.
Таким образом, Россия и Великобритания подавили национально-освободительное движение в Персии. Хотя с определенными изменениями пришлось считаться. Старый шах Мохаммед Али так и не смог больше вернуться на престол. Абсолютная монархия была свергнута, и полностью игнорировать Конституцию было опасно. Парламент тоже периодически пытался напоминать о своем существовании. В общем, неизвестно еще, как бы ситуация повернулась в будущем. Но буквально через 3 года революция в Персии плавно вольется в события Первой Мировой Войны, что внесет свои существенные коррективы. Об этом будет рассказано уже в другом разделе.
Европа
Накануне Первой Мировой Войны напряжение копилось не только в колониальных зонах Африки или Азии, но и прямо на границах европейских государств. Франция жаждала реванша за тяжелое поражение в войне 1870-71 гг. и намеревалась вернуть себе Эльзас и Лотарингию. Германия же считала себя обделенной в колониальной гонке и теперь уже хотела не только новых территорий Франции, но и российских земель. В итоге Франция заключила с Россией военный союз, чтобы совместно противостоять немецкой угрозе (кстати, в том числе, поэтому в Россию в большом количестве потекли французские инвестиции).
Тем временем между Великобританией и Россией продолжалась Большая Игра, что грозило вылиться в новую Крымскую Войну. Но у Великобритании с Германией, кажется, было больше точек столкновения, чем с Россией (африканские территории, борьба за рынок сбыта товаров конечного потребления, стремление Германии построить мощный флот). В итоге англичане достигли соглашений с русскими в территориальном разделе Азии: Афганистан оставался британским, Тибет ничейным, Персию делили пополам (ну, почти). Англия присоединилась к союзу Франции и России.
Для самой России такой расклад оказывался, скорее, благоприятным. Ведь у нее уже давно существовали серьезные разногласия с Австро-Венгерской Империей – стремясь установить свою протекцию над малыми славянскими народами, Россия вызывала у Габсбургской Династии явное раздражение. В свою очередь Австро-Венгрия, треща по швам, как истинная лоскутная монархия, пыталась всеми силами удержать разъезжающиеся в разные стороны национальные образования в ее составе. И активность России в славянских вопросах ей была совершенно ни к чему. Поэтому, оставив свои старые обиды на Берлин, она вступила с ним в геополитическое сотрудничество. Других союзников у нее не было.
Располагавшаяся рядом Турция тоже пребывала не в лучшем состоянии. Она, как и ее европейский сосед, испытывала процессы распада. Некоторые территории, отваливающиеся от Турции – подбирала Австро-Венгрия. Так, например, она аннексировала Боснию и Герцеговину, что вызвало протест Сербии и недовольство России. Этот инцидент в 1908 г. получил название Боснийский Кризис, и он чуть было не привел к большой европейской войне. Но на тот момент времени столкновения удалось избежать. Россия смирилась со своим политическим фиаско в данном вопросе. Наряду с поражением в Русско-Японской Войне это ударило по ее престижу и оставило неприятный осадок.
Вообще, у России существовала масса противоречий с ее западными соседями. Некоторые мыслители считают, что Николаю II нужно было заключить союз не с Францией и Великобританией, а с Германией – чтобы вместе воевать против англичан. Однако вряд ли это было возможно, да и смысла в этом содержалось бы не очень много. Разногласия с Британской Империей касались только азиатских территорий и не являлись неразрешимыми. Эти разногласия удалось ликвидировать сравнительно легко. Санкт-Петербург и Лондон не вторгались в сферу жизненно важных интересов друг друга. Русские не имели такого уж большого желания продвигаться в Индию. Англичане в свою очередь довольствовались достигнутым и не претендовали на земли Туркменистана и Узбекистана. Нефтеносные же области Персии получилось разделить между собой. Для оккупации территории Персидского Залива британцам, скорее, нужно было решать вопросы с Турцией, с которой отношения все равно испортились. Османская Империя выглядела дряхлой и слабой. Ее значение как перевалочной зоны на пути в Индию снизилось с открытием Суэцкого Канала (в 1869 г.). Поэтому Лондон ради раздела ее наследия готов был даже предоставить русскому флоту проход через Черноморские Проливы. Намного более острые противоречия были у России с Германией. План Шлиффена, подготовленный в 1905-06 гг., предполагал ведение боевых действий одновременно на западе и на востоке: сначала немецкие войска, воспользовавшись медлительностью русских боевых частей и несовершенством русской инфраструктуры, должны были молниеносным ударом захватить Париж, а затем – перейти к захвату украинских и белорусских земель. Об этом плане, в общем-то, было известно. Поэтому Россия поспешила заключить соглашение с Великобританией. А с Францией у нее противоречий не имелось в принципе. Зато было много противоречий с Австро-Венгерской монархией (описаны выше). И еще больше с Османской Империей – ее многовековым врагом. Конфликт с Портой был обусловлен в первую очередь статусом Черноморских Проливов, его разрешение влияло на экономическое развитие страны. Также немалую роль играло опять же стремление помочь славянским и православным народам, притесняемым Стамбулом.
Что же касается самой Турции, то ее к началу XX столетия пинали все, кому не лень. Даже Италия, откровенно говоря, не самая развитая держава (да и держава ли вообще?) умудрилась оторвать кусочек от некогда грозной мусульманской империи. Как уже упоминалось, в сентябре 1911 г. воинственные римляне с оружием в руках вторглись в Ливию, находящуюся под управлением османов, и к октябрю 1912 г. смогли убедить султана Мехмеда V, что эта североафриканская страна ему не нужна. Ну, а пока шел процесс убеждения, свои доводы против турецкого величия решили представить еще и балканские страны. При активной поддержке Петербурга Сербия, Болгария, а также Греция и Черногория заключили между собой несколько договоров, которые в совокупности вылились в Балканский Союз. Вообще-то, Россия планировала, что Союз будет противостоять Австро-Венгрии. Но он быстро принял антитурецкую направленность. Османская Империя на протяжении нескольких веков притесняла и подавляла христианские народы, которые умудрилась захватить в период своего наибольшего могущества. Теперь, когда ее власть стала ослабевать, христианские народы решили припомнить ей все нанесенные обиды. В течение 19 века страны участницы Союза уже получили независимость от Стамбула. Но османы продолжали контролировать некоторые земли Балканского Полуострова, на которых проживало еще немало болгар, сербов и греков. Они хотели бы полностью изгнать османов из Европы. Россия при этом тоже рада была поучаствовать в уничтожении своего старого врага. А вот Великобритания уже не собиралась вставать на защиту Турции. У нее теперь были другие интересы. Так что Порта оставалась один на один со своими противниками.
Балканские Войны
Силы союзников превышали турецкие силы, сконцентрированные на Балканском Полуострове. Соотношение было: 632 тысячи солдат против 445 тысяч. Болгария планировала в середине октября 1912 г. потребовать от Турции предоставления автономии македонцам. В Стамбуле от такой наглости должны были бы по замыслу, конечно, прифигеть. Но пока союзники в предвкушении потирали руки – Черногория (самая маленькая и задиристая), не выдержав, уже 8 октября напала на турецкие позиции. Причем напала так удачно, что тысячи турецких солдат вскоре сдались в плен. В итоге Турция прифигела дважды: сперва от нападения Черногории, а потом уже от ультиматума Болгарии. Порта не была готова к войне. Ее мобилизация проходила со скрипом. А войска были недостаточно хорошо вооружены. Поэтому действия союзников с самого начала оказались весьма успешными. Например, 23-24 октября между турецкой и сербской армиями состоялась двухдневная Битва под Кумановом (западный фронт). Несмотря на то, что турки имели численное превосходство (180 тысяч против 120 тысяч) и обладали инициативой – они проиграли сербам, оставив на поле боя 156 артиллерийских орудий. Примерно в эти же дни болгары на восточном фронте силами в 150 тысяч человек провели Лозенградскую Операцию, заставив турок отступить из города Кыркларели. А в конце октября и начале ноября была проведена Люлебургазская Операция, в ходе которой с боями был занят город Люлебургаз. Также в ноябре был осажден Адрианополь (Эдирне), в котором заперлись 70 тысяч солдат. Этот город имел ключевое значение, т. к. через него проходили железнодорожные пути, в том числе, идущие на запад. А мощная крепость и несколько линий обороны делали его штурм довольно сложной задачей. Осада продолжалась до марта 1913 г. Но за исключением адрианопольского гарнизона турецкие войска по большей части бежали, явно не выказывая желания воевать. Таким образом, восточный фронт Османской Империи сыпался. Впрочем, и на западе дела обстояли не лучше. Сербы занимали город за городом: сначала Скопье, затем Велес, потом Прилеп. Конечно, нельзя сказать, что турки только и делали, что отступали. Командиры пытались оказывать сопротивление. Но получалось у них это не очень хорошо. К середине ноября сербы уже заняли Манастир. На этом фронте продолжала держаться только турецкая крепость Шкодер, которая располагалась непосредственно у Черногории недалеко от побережья. Союзники не смогли ее сразу захватить, и поэтому решили просто взять в осаду, обойдя ее укрепления. Крепость падет в апреле 1913 г.
Ситуация для османов осложнялась тем, что с юга наступление начала греческая армия. И продвигалась она, хоть и с боями, но все же довольно стремительно. В ноябре греки свернули на восток и пошли в сторону порта Салоники. Уже 8 числа город капитулировал. Таким образом, вся Македония оказалась отрезана от связей со Стамбулом. Это позволило грекам перенаправить силы на запад региона, чтобы полностью освободить его от власти Порты. К концу месяца западная турецкая армия, по сути, была разгромлена. В декабре у пролива Дарданеллы греческий флот вступил в морское сражение с турецким флотом (Битва при Элли). Греция одержала победу, что заставило османов убраться из Эгейского Моря. В январе 1913 г. чуть западнее произошло Сражение при Лемносе, которое окончательно отбило у турецких моряков желание удаляться от своих Проливов. Действия греческого флота привели к нарушению морских коммуникаций Османской Империи.
Главной угрозой для Турции продолжала оставаться болгарская армия. Ее победоносное шествие к Стамбулу было остановлено только на перешейке (точнее – на западном мысе) в районе Чаталджи. Далее открывался прямой путь на столицу. Но вначале требовалось преодолеть сильные укрепленные позиции. Генерал Радко Дмитриев, не дожидаясь подвоза осадной артиллерии, решился взять их сходу. Штурм проходил 17-19 ноября, был очень упорным, но безуспешным. Турецкие броненосцы имели возможность подходить к мысу как со стороны Мраморного Моря, так и со стороны Черного Моря. Они вели обстрел по наступающим болгарским войскам, которым к тому же приходилось преодолевать болотистую местность. В итоге Радко Дмитриев потерял около 15 тысяч солдат, но пробить эту линию обороны так и не сумел. Стороны вынуждены были заключить перемирие и начать переговоры.
Великие державы – такие как Великобритания и Франция – желали прекратить войну. В боевые действия могла вступить Австро-Венгрия, которая опасалась усиления балканских государств, поддерживаемых Россией. Под властью Вены находились некоторые земли со славянским населением. И панславянский национализм, переходящий в ирредентизм, был совершенно ни к чему Габсбургской Монархии. Например, такой регион как Воеводина имел преимущественно сербское население, и он граничил непосредственно с Белградом. Триумфальная победа Сербии над Турцией с дальнейшим наращиванием вооружения – могла подстегнуть сепаратистские настроения в Воеводине, что напрямую угрожало целостности Австро-Венгрии. И чтобы не допустить такого развития ситуации, Вена могла поддержать Стамбул, оказав ему военную помощь. А это уже чревато было перерастанием локальной войны в глобальную.
Однако переговоры в Лондоне, проходящие в декабре 1912 г., так ни к чему и не привели. Османская Империя не желала отдавать свои территории. Европейские державы даже вынуждены были сделать коллективное обращение к Порте, чтобы та пошла на уступки странам Балканского Союза. Наконец, в январе 1913 г. в переговорах наметился какой-то прогресс. Но тут произошло нечто неожиданное. В тот самый момент, когда турецкое правительство обсуждало вопрос завершения войны, в зал заседания ворвались военные офицеры из националистической партии и совершили государственный переворот. Некоторые министры были убиты. Другие арестованы. Новая власть отказалась обсуждать территориальные уступки странам Балканского Союза.
Вообще, о том, что происходило внутри Турции в этот период времени, стоит рассказать отдельно. Османская Империя, существенно отстав в своем развитии от Европы, уже не первое десятилетие теряла вес в мировой политике. Она слабела в военном и экономическом отношении. Все больше территорий выходило из-под ее контроля. Это заставляло турецкую элиту переосмысливать эффективность применяемых моделей управления. Западные идеи либерализма и демократии, которые были в новинку для Порты, приобретали среди интеллигенции все большую популярность. Интересоваться ими начинали даже члены королевской семьи. От этого привычная борьба за власть становилась только ожесточеннее. В 1876 г. заговорщики-реформаторы свергли одного нерадивого султана и поставили другого (его племянника). В скором времени свергнутый султан – Абдул-Азиз – был найден мертвым с перерезанными венами (как бы суицид). Но и второй – Мурад V – несмотря на большие надежды, оказался недееспособен: от нервного перенапряжения и пристрастия к алкоголю он сошел с ума. Чему, кстати, немало поспособствовала череда убийств как заговорщиков, так и членов королевской семьи. В общем, пришлось привести к власти брата Мурада V, а именно – Абдул-Хамида II. Но с этим носорогом оказалось даже еще больше проблем. Заговорщики – так называемые “новые османы” – рассчитывали, что он сделает систему более либеральной и демократической. Начать следовало с принятия Конституции. Однако Хамид сопротивлялся несколько месяцев, и принял документ лишь к концу года. Впрочем, исполнять он его все равно не собирался. В 1877 г. началась война с Россией. Она оказалась крайне неудачной. Турция потеряла Сербию, Румынию, Черногорию и значительную часть Болгарии. Но своему народу султан сообщил, что всех переиграл (многоходовочник). В любом случае про Конституцию можно было на время забыть. Когда же боевые действия закончились – Хамид ее просто отменил, одновременно запустив маховик репрессий против тех, кто привел его к власти. После этого Империя твердо встала на траекторию усиленной деградации. Экономика разрушалась, налоги шли не в казну, а в карманы жуликов, финансы разбазаривались. И в 1882 г. страна объявила себя банкротом, попав в зависимость к иностранным кредиторам. Ну, а чтобы злые языки не думали критиковать султана, была развернута сеть внутренних шпионов, которые следили за несогласными, занимались доносами и укрепляли тиранический режим Хамида. В начале XX столетия Турция уже откровенно скатывалась в адовую бездну. Ее торговля сокращалась и приходила в упадок, а коррупция достигла таких размеров, что за взятку можно было обойти любой закон. Дошло до того, что чиновники и военные – опора любого деспотического режима – перестали получать жалование.
Но хуже всего пришлось христианскому населению. Абдул-Хамид II создал в стране атмосферу национальной и религиозной нетерпимости. Как раз во время его правления произошло несколько случаев геноцида армян. Массовые погромы совершались при поддержке Порты. Убивали мужчин, женщин и детей, причем порой весьма жестокими способами, например, заживо сжигая в храмах. Количество жертв за 1895-96 гг. составило по некоторым оценкам 300 тысяч человек. Армяне сопротивлялись, периодически вступая в вооруженные бои. Также они пытались привлечь внимание европейцев, призывая великие державы взять их под свою защиту. В августе 1896 г. члены социалистической партии Дашнакцутюн захватили в Стамбуле Оттоманский Банк с иностранным участием, потребовав прекратить политику геноцида и начать проведение реформ. Но это лишь обернулось новыми кровавыми погромами в Стамбуле. Западные политики просили Абдул-Хамида II предоставить защиту армянам. Даже готовили военную интервенцию, что помогло частично остановить насилие. Однако кардинального решения проблемы не последовало. Франция и Германия имели в Турции свои интересы. Великобритания же не хотела чрезмерного усиления России, а сама Россия опасалась независимости Армении. Поэтому армяне оставались один на один с мусульманской тиранией. Многие вынуждены были эмигрировать в Россию, Европу и США. Наиболее радикальные объединялись в группы и нападали на турецких чиновников. По мере приближения к пику повышательной фазы Цикла напряжение между народами нарастало. Весной 1904 г. армяне подняли восстание в области Сасун, которое, несмотря на определенный начальный успех, все-таки было подавлено. А в 1905 г. на Абдул-Хамида II было совершено покушение: взорвавшаяся бомба убила 26 человек, но не причинила султану вреда. Во время Первой Мировой Войны конфликт выльется в массовый геноцид армян.
Христианские народы при Абдул-Хамиде II жили в настоящем аду. Однако его правление в целом вело к упадку всей страны. Военные офицеры, положение которых было еще не самым плохим, понимали всю деструктивность правления султана. Дело в том, что именно армии он уделял особое внимание, поэтому постарался обеспечить служилым людям хорошее образование с привлечением европейских специалистов. Просвещенные солдаты понабрались “тлетворных” Западных идей. Основали националистическую партию “Единение и прогресс”. И задумали свержение тирана.
Офицеры, организовавшие заговор, назывались младотурками. В июле 1908 г. они подняли по всей стране восстание, которое было поддержано даже народами в европейской части Османской Империи. Фактически армия отказалась подчиняться султану, а его личная гвардия была удалена из Стамбула. Хамид вынужден был вспомнить о Конституции 1876 года, снова достать ее из пыльного ящика и сделать вид, что присягает ей. Однако сдаваться он был не намерен и продолжил сопротивляться. В последующие месяцы шло противостояние между султаном и младотурецкими политиками. Каждая сторона пыталась назначить на министерские должности своих людей. А, между тем, народ, поддержавший Революцию, не видел ее быстрых результатов, и поэтому начинал разочаровываться. В конце концов, в апреле 1909 г. солдаты подняли контрвосстание: они ворвались в здание парламента, разгромили его и перебили более 80 человек. Абдул-Хамид II, конечно же, поддержал такую инициативу. Поскольку в Турции тогда действовал собственный Румийский Календарь, то событие получило название “Инцидент 31 марта”. Вооруженных сторонников султана было около 30 тысяч (ядро). Но младотурки тоже пока еще продолжали пользоваться поддержкой населения. На следующий день на похоронах убитых произошла стихийная акция протеста, закончившаяся кровавыми столкновениями с полицией. И лидеры младотурок решили перехватить инициативу. Они призвали своих сторонников из числа военных, находящихся в европейской части Турции, выдвинуться на Стамбул. Им удалось мобилизовать 100-тысячную армию, которую они назвали: Армия Действия. И, судя по всему, симпатии народа были на ее стороне. Свою поддержку выразили даже некоторые македонские революционеры, боровшиеся за независимость. В последующие дни в османской столице произошли бои между частями, верными султану, и его противниками. В итоге младотурки победили. Абдул-Хамид II со своей свитой оказался блокирован в собственном дворце и отрезан от внешнего мира. Через некоторое время он вынужден был пойти на уступки и отречься от престола. На его место посадили его покладистого брата Мехмеда V.
Как видно, Османская Империя на рубеже XIX и XX столетий переживала тяжелейший кризис. Ее в прямом смысле слова лихорадило. Национальные окраины стремились отделиться, а кресло султана шаталось и подпрыгивало. Именно в 1908 г. во время ослабления власти Абдул-Хамида II Болгария, еще формально находящаяся под контролем Стамбула, объявила о своей полной независимости. В этот же год Австро-Венгрия окончательно забрала себе Боснию и Герцеговину. И вот в таком замечательном положении Турция вынуждена была отражать скоординированный удар своих бывших балканских вассалов.
Младотурки попытались провести некоторые реформы, надеясь остановить развал Империи. Но в ней веками все строилось на терроре и лжи. Преобразовать эту систему оказалось невозможным. Она была ненавистна как малым народам, так и простому населению. Поэтому либеральные послабления лишь выпустили на свободу энергию недовольства. И эта энергия оказалась разрушительной. Испугавшись ее, младотурки сами перешли к репрессиям. Но сворачивание демократических реформ означало дальнейшее закостенение и деградацию. Другими словами, Османская Империя больше не могла существовать ни в каком виде. Она конфликтовала с самой эпохой, наступившей в новом XX столетии. Отчаянные метания младотурок уже не могли спасти ее.
В 1911 г. свой кусок от турецкого пирога сумела откусить Италия. На фоне такого поражения от партии “Единение и Прогресс” откололась группа энтузиастов, которая создала свою собственную партию – “Свобода и Согласие”. Она стояла на более либеральных позициях. И пока итальянцы пинками гнали османских солдат из Триполитании, члены новой партии умудрились совершить переворот, подвинув младотурок с политического олимпа. Но в конце 1912 г. зубами уже защелкали страны Балканского Союза. Они принялись отжирать территории, которые Турция ранее завоевала себе по праву агрессора (надо сказать, сомнительное право). Члены партии “Свобода и Согласие” оказались в сложной ситуации. Поначалу они не собирались идти на уступки Западным державам. Но положение было действительно тяжелым. Поэтому все-таки решили начать обсуждать перспективы потери европейских земель. Как раз в момент обсуждения в Стамбуле 23 января 1913 г. члены “Единения и Прогресса” во главе с Энвер-пашой устроили свой переворот, поубивав некоторых министров капитулянтского правительства. Таким образом, переговоры были сорваны, и вскоре военные действия возобновились.
Но положение Порты было отчаянным. К февралю 1913 г. Балканский Полуостров почти полностью был занят европейскими войсками. На фронте оставалось три главных очага турецкого сопротивления. Это укрепленные линии в Чаталдже перед столицей, город Адрианополь и город Шкодер – оба находящиеся в осаде. Понятно, что Чаталджа имела ключевое значение. Прорыв этой линии позволил бы выйти к Константинополю. Также было бы неплохо захватить Галлипольский Полуостров и ликвидировать на нем береговые батареи. В этом случае греческий флот смог бы войти в Мраморное Море. Но турки защищали данные участки с особенным упорством, даже периодически переходя в контрнаступление.
Куда лучше дела у союзников обстояли с осажденными городами. Первым в марте пал Адрианополь. Болгары провели массированный обстрел 24 и 25 числа. Под прикрытием этой бомбардировки пехота незаметно подкралась к передовым позициям противника. Чтобы остаться незамеченными, солдаты обмотали оружие и обмундирование тканью (для уменьшения блеска металлических частей). Рано утром начался штурм турецких окопов, которые были захвачены после упорного рукопашного боя. На следующий день была взята и крепость города.
В свою очередь Шкодер осаждали преимущественно черногорцы, которым помогали сербы. Но любые попытки штурма оканчивались неудачей. Поэтому город был просто блокирован. Чтобы поскорее завершить войну, Великобритания потребовала от Черногории снять осаду с города. Ответ был отрицательный. Тогда англичане вместе с австрийцами, итальянцами и немцами вошли на кораблях в Адриатическое Море, начав блокаду черногорского побережья. Но маленькая гордая нация не отступилась от своих намерений. В конце концов, черногорцы своего добились. После долгих переговоров 23 апреля турецкий гарнизон покинул город. Черногорский король Никола Петрович I лично поднял над ним флаг своей страны. Правда, вскоре вмешалась Австро-Венгрия, которая потребовала передачи Шкодера великим державам, пригрозив своим вступлением в войну. Поэтому флаг Николе Петровичу пришлось спустить обратно.
В течение мая продолжалась окопная война. В это же время шли переговоры. И 30 числа в Лондоне был выработан текст мирного соглашения. Османская Империя лишалась практически всех своих европейских территорий. Они переходили под контроль стран Балканского Союза. Порта удерживала за собой только Константинополь с окрестностями. Также на карте появилось новое государство – Албания (преимущественно мусульманское). Жители этого региона с 1909 г. при поддержке Черногории и Австро-Венгрии поднимали вооруженные восстания, пытаясь добиться независимости от Турции. Великие державы удовлетворили чаяния албанского народа. Поэтому Сербия так и не получила желаемого выхода к морю. Город Шкодер вошел в состав Албании (как бы).
Однако страны Балканского Союза, после того, как добились фактического изгнания Турции из Европы, сами не смогли мирным путем поделить собственные завоевания. София проталкивала идею так называемой Целокупной (Великой) Болгарии. Сербия стремилась выйти к морю. Черногория хотела расширить свою прибрежную зону и поглотить Албанию. Греция тоже намеревалась прирастить к себе новые территории. В общем, каждая страна претендовала на кусок соседа. Основным регионом взаимного пересечения интересов стала Македония. Грызня за нее велась еще с конца 19 в. Например, болгары и греки периодически нападали друг на друга. В конфликте также участвовали обе православные церкви, которые усиливали разделение и взаимную ненависть двух народов. А еще в 1885 г. прошла небольшая 2-недельная войнушка между Болгарией и Сербией – по случаю присоединения Софией Восточной Румелии. Откровенно говоря, на Балканском Полуострове скучно никогда не бывало. Теперь же – после свержения османской власти – весь регион превратился в одну сплошную аква-дискотеку с мордобоем. И смех, и грех.
Когда отсталые народы оказываются неспособными решить свои разногласия рациональным способом – этим всегда стремятся воспользоваться народы более развитые. Австро-Венгрия и Германия решили развалить Балканский Союз, так как он был создан Россией и был направлен изначально против Вены. У Берлина к этому Союзу тоже имелись претензии. Германия стремилась проникнуть на восток и, в частности, финансировала строительство железной дороги от своей столицы до Стамбула и далее на Багдад. Поэтому ей было ни к чему ослабление Турции и усиление балканских государств. Влияние Турции в Европе желательно было бы сохранить. В соответствии с этим дипломаты двух немецких империй начали подстрекать своих сербских, греческих, черногорских и болгарских коллег, чтобы те активнее боролись за спорные территории. Фактически Вена и Берлин разжигали среди них межнациональную вражду, стремясь усилить и без того серьезные противоречия. Ирредентизм и радикальный национализм всячески поощрялись. В Сербии, такая идеология была особенно популярна.
Здесь про Сербию необходимо написать отдельно. Офицеры военной разведки в этой стране создали тайную и весьма влиятельную националистическую организацию “Черная Рука”. Боевики, входящие в нее, осуществляли внутренние перевороты, убивали членов королевской семьи, всячески терроризировали представителей гражданской власти. “Черная рука” фактически стала чем-то вроде государства в государстве. И для этого были свои причины. Ее основатель – Драгутин Димитриевич – являлся зачинщиком заговора 1903 года. Тогда группа офицеров убила короля Александра Обреновича I и его морганатическую супругу. Откровенно говоря, Александр сам напросился. Монархом он был никудышным и делами государственными не интересовался. Зато его отец Милан I технично использовал его для установления в стране диктаторского режима. Ранее его собственное неудачное правление привело к полной дискредитации королевской власти, спровоцировав покушения на его жизнь. Поэтому Милан в 1889 г. вынужден был отречься от престола в пользу сына и уехать из Сербии. Все последующие годы он проводил в кутежах и постоянно клянчил деньги у Белграда, угрожая своим возвращением. А когда его сыночек Александр взошел на трон – он начал манипулировать им ради восстановления собственной власти. Правление Александра сопровождалось постоянными политическими кризисами. Он весьма усердно трудился над тем, чтобы уронить престиж династии Обреновичей еще ниже. Особое неприятие вызвал его брак с придворной дамой низкого поведения по имени Драга Луневица, которая была старше его на 15 лет, уже была разведена, и явно в супруги ему не годилась. Заделавшись королевой, она занялась проталкиванием на государственные должности своих родственников. А позже и вовсе шокировала народ имитацией беременности. В общем, семейка была та еще. Настолько они всех достали, что в 1903 г. офицеры устроили заговор, и сладкую парочку вместе со свитой порубили в капусту. Причем буквально. Тело Драги было изуродовано. Этот случай привел Европу в ужас. На трон взошла другая династия – Карагеоргиевичей, которая являлась конкурирующей. Зачем я все это описываю? Чтобы показать, какие большие черти водились в маленькой Сербии. Государство это было очень нестабильным. На него оказывали влияние Австро-Венгрия со своей стороны и Россия с другой. Как раз после убийства одиозных Обреновичей ориентация во внешней политике сменилась на пророссийскую. Это важно знать для понимания обстановки в регионе. Напряжение между геополитическими игроками перед Первой Мировой Войной копилось постепенно. И неудивительно, что в такой стране как Сербия военные офицеры создали тайную террористическую организацию националистического толка, образовав свое теневое правительство. Этих людей достаточно легко было рассорить со своими соседями. Чем, собственно говоря, Вена и занималась, пытаясь развалить пророссийский Балканский Союз.
Впрочем, боевые действия все же начали не сербы, а болгары. Именно они разработали план, когда еще только велись переговоры союзников с Турцией. Лондонское Соглашение было подписано 30 мая. А уже в июне София стала перебрасывать свои войска на запад – к границам Сербии и Греции. Австро-Венгрия всячески подталкивала царя Фердинанда к агрессивным действиям, обещая даже свою поддержку.
Ночью 29 июня болгарская армия без объявления войны перешла сербскую границу. В тот же день вечером началось наступление и на Грецию. В первые пару суток продвижение было успешным. Болгары вышли к побережью Эгейского Моря и захватили Салоники (Фессалоники). Однако уже 2 июля союзники смогли переломить ситуацию в свою пользу. Болгары стали попадать в окружение и начали отступать. Салоники были освобождены. А у Килкиса и Лаханаса (на север от Салоник) состоялось два сражения, в которых греки одержали победу. К середине июля греки освободили Серру, а затем и Драму. А также сделали высадку в Кавале. Греческое наступление велось и на северном направлении. Поэтому вскоре болгары уже вынуждены были обороняться на тех территориях, которые смогли оккупировать по итогам войны с Османской Империей. В частности, греки заняли Струмицу. А 8 июля началась серия сражений в Кресненском Ущелье (на пути к Благоевграду). Бои были достаточно кровопролитные. Но в целом удачные для греков. За 10 дней они смогли пройти Ущелье и, оттеснив противника, занять Благоевград. Открывалась дорога на Софию. Король Константин I намеревался пойти прямо на столицу, и вообще хотел бы уничтожить Болгарию как государство. Но сербы, вытеснив агрессора со своей территории, не поддержали эту инициативу. Они достигли своих целей, и не желали тратить лишние ресурсы.
Между тем, в войну вступили Румыния и Турция. Они преследовали свои корыстные цели, желая воспользоваться ситуацией. Румыния хотела отжать у своего соседа на восточной границе Южную Добруджу. Она подумывала об этом еще во время Первой Балканской Войны. И вот теперь представилась такая замечательная возможность. Что касается Турции – то она стремилась вернуть себе хотя бы часть утраченных территорий. Так что 12 июля Энвер-паша, не спросив согласия султана Мехмеда V (кого вообще интересовало его мнение?), приказал выдвинуться к Адрианополю. Буквально через пару дней, 14 июля, началось вторжение и румынской армии, причем с двух сторон: с восточной – для занятия Южной Добруджи и с западной – по направлению к столице. Болгария оказалась в очень тяжелом положении. Все войска были сконцентрированы на юго-западе – против греко-сербско-черногорской армии. Поэтому румыны достаточно легко прошли до Софии, остановившись от нее всего лишь в 12 километрах. Турки тоже времени зря не теряли. Древнейший город Адрианополь они считали для себя чуть ли не сакральным. Вернув его, они пересекли старую болгарскую границу и приступили к ограблению местного населения.
Тем временем, греческий король Константин тоже продолжал лелеять планы по занятию Софии. Хотя его премьер-министр Винизелос эти планы не поддерживал. А 15 июля болгары провели контратаку, в результате которой смогли серьезно потрепать греческие войска. Тогда король, посовещавшись со своими генералами, решил все-таки заключить мир. Ну, а болгарскому царю Фердинанду, в общем-то, больше ничего другого и не оставалось. С учетом румынской и турецкой интервенций речь теперь уже просто шла о сохранении независимости страны.
В августе в Бухаресте был заключен договор, по которому Болгария теряла часть территорий, отвоеванных у Османской Империи. Эти территории отходили, соответственно, Сербии и Греции. Также София уступала Румынии Южную Добруджу. Отдельно с Турцией в сентябре был заключен Константинопольский Договор: Порта вернула себе часть утраченных земель, включая город Адрианополь. Таким образом, София, обратив оружие против недавних союзников, лишилась значительной доли своих приобретений. Хотя выход к Эгейскому Морю смогла удержать. В общем, авантюра Фердинанда I на пользу государству не пошла. Впрочем, винить в агрессии одну только Болгарию было бы несправедливо. Сербия и Греция в разжигании конфликта тоже постарались. Просто у них ума хватило первыми не начинать.
Балканские Войны унесли от 140 до 220 тысяч жизней. Первая война была, конечно же, более смертоносной. В ней Турция и Болгария потеряли по 30-35 тысяч человек, примерно столько же или меньше оказались суммарные потери остальных участников. Потери во второй войне примерно в 1,5-2 раза меньше. Велась она около месяца. Больше всего людей погибло у Болгарии и Сербии – по 18-20 тысяч.
Особо следует заметить, что во время Балканских Войн шли боевые действия на море. Также применялась в качестве инструмента воздействия блокада побережья и турецкого пролива Дарданеллы. Это могло оказать определенное влияние на товарные цены, хотя вряд ли оно было значительное. Все самое интересное будет происходить позже.
Главным негативным последствием Балканских Войн оказался рост напряжения, причем как между странами, находящимися на Полуострове, так и между крупными державами, сражающимися за свое влияние на нем. Австро-Венгрия и Германия, стремившиеся расколоть Балканский Союз, добились своей цели. Но теперь они желали уничтожить Сербию, которая невероятно усилилась по итогам обеих войн. В свою очередь Сербия еще и радикализировалась. Ее террористическая организация “Черная Рука” приобретала все больший вес как внутри государства, так и за его пределами. В планах ее основателей было объединение всех южных славян – в том числе и тех, которые проживали на территории Австро-Венгрии. “Черная Рука” активно сотрудничала с подобной террористической организацией “Млада Босна”, которая действовала в Боснии и Герцеговине. А Босния и Герцеговина совсем недавно была оккупирована австрийцами. Венская монархия видела для себя большую угрозу в возвышении Сербии. Славянский ирредентизм расшатывал и так непростую территориальную ситуацию в разваливающейся Империи. Но желание раздавить Сербию наталкивалось на стремление России эту самую Сербию защитить, что уже приводило к явному столкновению Петербурга и Вены. В то же время Болгария, потерпевшая поражение во Второй Балканской Войне, жаждала реванша. И это отправляло ее прямиком в объятия Австро-Венгрии и Германии. Таким образом, складывался Четверной Союз, к которому еще присоединялась Турция – тоже обиженная всеми.
Масла в огонь подливали и нерешенные территориальные вопросы. Например, границы Албании не были четко определены. Это даже привело в октябре к Албанскому Кризису: Сербия ввела на территорию молодого государства свои войска, намереваясь заполучить доступ к морскому побережью, однако под нажимом Германии и Австро-Венгрии через несколько дней вывела их. Новой войны удалось избежать, но конфликт не был полностью исчерпан. Также ничего не понятно оставалось и с городом Шкодер. В свою очередь Греция и Турция продолжали спорить по поводу того, кому принадлежат острова в Эгейском Море (хотя Крит в любом случае отошел к Афинам). Все эти разногласия и взаимные недовольства буквально через год вольются в один общий котел кровавой Первой Мировой Войны.
Первая Мировая Война
Причины и Предпосылки
В России любители теорий заговора часто преподносят Первую Мировую Войну как некий странный и непонятный конфликт. Дескать, начался он по необъяснимым причинам, логике не поддавался, и вообще был инспирирован какими-то внешними силами (масоны, рептилоиды, аннунаки). Скорее всего, подобные мнения появляются из-за недостатка образования, а также нежелания признавать внутренние проблемы в Российской Империи, которую в 1917 г. охватила Революция. Просто в России WWI изучается довольно слабо и не пользуется такой же популярностью, как WWII и ВОВ. Ведь наша страна в этом конфликте потерпела поражение, коммунисты заключили позорный Брестский Мир, и только Западные союзники помогли вернуть захваченные немцами территории. Все это не очень хорошо подходит для произнесения пафосных речей на парадах. Поэтому о Первой Мировой Войне стараются не вспоминать. Свою роль играет и сложность самого конфликта. Он имел множественные причины, осознать их все и сразу получается не у каждого человека. В итоге люди ищут какое-нибудь простое объяснение, которое помогло бы им понять произошедшее, или хотя бы принесло бы моральное успокоение.
Моя интерпретация Кондратьевских Циклов – представление о повышательной фазе как о периоде глобального передела – идеально объясняет феномен Первой Мировой Войны. В действительности никаких особых заговоров не существовало. Просто между ключевыми геополитическими игроками образовалось огромное количество противоречий. Обо всех этих противоречиях я написал в предыдущей главе. Но я их вкратце повторю и здесь (вдруг кто-то будет читать не с начала и по порядку, а с конца и вразброс).
Итак, колонизация Черного Континента привела к столкновению интересов колонизаторов: европейские державы, делившие африканский пирог, претендовали на кусок друг друга. Аналогичная ситуация возникала и в Азиатском Регионе. Там Западные страны делили между собой Китай. И ситуация усугублялась тем, что на арену выходила новая восточная империя – Японская. Своя особая повестка имелась на Балканском Полуострове, где за сферы влияния боролись Австро-Венгрия, Россия и Османская Империя, а между ними копошились небольшие страны, стремящиеся примкнуть к той или иной державе. Во всех указанных регионах постепенно накапливалось напряжение между основными противниками. Некоторые из них даже успели друг с другом повоевать. Но крупные игроки до определенного момента старались не вступать в боевые действия с равными себе, вместо этого они использовали своих малых партнеров, которым оказывали поддержку. Такая ситуация продолжалась на протяжении 20-25 лет. И в итоге на самом пике повышательной фазы мир обрушился в Большую Войну, в которой крупные игроки приняли уже самое непосредственное участие.
Особенностью XX столетия было то, что к этому времени отдельные страны умудрились выбиться в мировые лидеры. Проведя у себя индустриализацию и достигнув высокого уровня развития экономики, они превратились в полноценные капиталистические державы, которые полностью или почти полностью порвали с феодально-монархической системой. Это в первую очередь были Великобритания и США – именно они смогли занять элитарное положение на планете. Другие страны пытались их догнать: такие как Франция, Италия и Германия. Причем, если Франция находилась ближе к либерально-демократическим Штатам и Англии, то остальные до сих пор никак не могли распрощаться с пережитками Старого Порядка. В третью условную категорию входили государства, отставшие в своем развитии от представителей даже второй категории: такими были Россия, Австро-Венгрия, Османская Империя и, например, Китай. Индустриализация в них только начиналась и еще не раскрутилась на полную мощность, а в некоторых и вовсе шла со скрипом, феодализм там пока что еще превалировал. Их положение, и без того незавидное, усугублялось внутренними проблемами, решение которых откладывалось длительное время, и теперь могло взорваться настоящим хаосом. Они являлись кандидатами на буржуазную революцию.
Великобритания являлась первой экономикой в Европе и второй по миру после США. Ей не имело смысла начинать войну. Она и так была красавица. Даже в колонизации Африки она достигла наивысших успехов, установив контроль над 30% всего населения Черного Континента. Ее главным соперником становилась Германия, завоевания которой были намного скромнее. Немецкие колонизаторы мешали англичанам провести железную дорогу от Каира до Кейптауна. Кроме того, Берлин стремился к созданию мощного флота, что угрожало доминированию Лондона в океанах. Интересы двух держав пересекались и в торговой сфере. Немцы, проведя индустриализацию, желали выйти на новые рынки сбыта, но эти рынки были заняты британскими товарами. Пытаясь насолить, Германия поддерживала врагов ненавистного Лондона – в частности, тех самых буров, война с которыми англичанам стоила довольно дорого. К тому же Берлин сближался с Турцией и финансировал постройку железной дороги до Стамбула и Багдада, что угрожало интересам Лондона, который контролировал торговые пути в Азию (немецкая ж/д могла стать альтернативой Суэцкому Каналу). Но, несмотря на все эти взаимные обиды, Великобритания не стала бы инициатором военного конфликта. Хотя к прямому противостоянию на поле боя и на море она готовилась. Поэтому заранее решила свои основные противоречия с другими конкурентами: Францией и Россией (с первой – в Африке, со второй – в Азии).
Париж имел с Берлином вполне понятные разногласия. Французы до сих пор не могли простить немецкой нации захват Эльзаса и Лотарингии. Страх перед новой агрессией и желание реванша формировали ясный образ врага. Однако в XX столетии к этому еще добавилось соперничество в Африке. Причем французы были явно расторопнее в процессе колонизации Черного Континента. Попытки Германии агрессивно включиться в эту борьбу вызывали еще большее озлобление у патриотичных граждан Третьей Республики. Тем более что там было известно о Плане Шлиффена: предполагаемой войне Германии на два фронта, в которой нападению сначала подвергалась Франция. Таким образом, Германия настраивала против себя сразу две крупнейшие экономики Европы. К этому ее подталкивало чувство обделенности и зависти: она слишком поздно включилась в колониальный раздел земного шара. Когда Париж и Лондон заключили между собой соглашение, в Берлине окончательно определились со своими главными противниками.
Но Германская Империя рассорилась не только с Великобританией и Францией. Еще в 1879 г. началось активное сближение Берлина с Веной. Два немецких государства забывали все свои старые обиды и заключали оборонительный союз, который имел явную антироссийскую направленность. Конечно, для реализации будущего Плана Шлиффена (еще не разработанного) Германии необходимым бы был какой-нибудь союзник на восточных рубежах. Но таким образом Берлин приобретал себе достаточно большое количество врагов. А вот с друзьями были проблемы. Австрийская Монархия к концу 19 века становилась все слабее и слабее. Национальные проблемы внутри Империи раздирали ее на части, заставляя Габсбургов идти на новые уступки собственным вассалам. При этом явно с опозданием страна вступала в Промышленную Революцию. Ну, а с колонизацией и вовсе всё было никак. Зато противоречия с Российским государством накопились весьма значительные. Петербург стремился на Балканском Полуострове проводить политику защиты славянских народов. Именно благодаря России такие страны как Сербия, Болгария и Черногория получили независимость от Турции в 1878 г. Для Вены усиление и объединение славян представляло угрозу территориальной целостности, поскольку внутри самой Австро-Венгрии тоже проживали славяне. Если бы кто-то из них вышел из-под австрийской юрисдикции, то вся Империя могла б разъехаться по швам. Поэтому Вена и Петербург совершенно не питали друг ко другу теплых чувств. На этом фоне союз Берлина с Веной точно не способствовал сближению Германии с Россией. Тем более что Берлину для проведения своей железной дороги до Стамбула не нужно было усиление на Балканском Полуострове ни России, ни Сербии.
Вообще, куда смотрела немецкая монархия с аристократией – мне, честно говоря, не очень понятно. Очевидно, что Германия допускала ту же ошибку, что Наполеоновская Франция: она собиралась воевать на два фронта. Исход такой самоубийственной политики во многом был предопределен. Ошибку Наполеона, скопированную Вильгельмом II, позже повторит и Гитлер.
Что касается самой России, то ее активность на Балканах вызывала головную боль еще у одной разваливающейся державы – у Османской Империи. С этим злейшим врагом Россия воевала на протяжении столетий. Благодаря перениманию технологий Западной Цивилизации русские сумели обогнать в развитии своего азиатского соседа. Поэтому в многочисленных войнах чаша весов все больше склонялась на сторону европеизированного Петербурга. Порта терпела поражение за поражением. Победу одержать она была способна только при помощи Западных союзников. Но эти союзники оказывались таковыми исключительно ситуативно, и в долгосрочной перспективе рассчитывать на них было нельзя. Великобритания вообще постепенно начинала отдаляться от Турции. С приобретением Суэцкого Канала Лондон уже не нуждался в османской территории для прохода в Индию. Наоборот, англичане были заинтересованы в ослаблении Стамбула, ибо сами хотели контролировать Египет. А с наступлением нового столетия Лондон и вовсе стал приглядываться к землям Ближнего Востока. Ведь там имелись залежи углеводородов, которые приобретали особую ценность в индустриальную эпоху. Таким образом, Османская Империя тоже превращалась из субъекта в объект мировой политики. Конкретно Петербург хотел бы вовсе выгнать ее с Балканского Полуострова, и взять под свой контроль проливы Босфор и Дарданеллы. С первым у него получилось: после Балканских Войн турки почти ушли из Европы, а вот второе – становилось предметом торга между Лондоном и Петербургом. Очевидно, что в этой ситуации Порта могла пойти только в одну сторону, и точно не в сторону Антанты.
Правда, Германия и Австро-Венгрия поначалу пригласили в свою угрюмую компанию другого игрока – Италию. Еще одна опоздавшая и обделенная страна. Опоздавшая к колониальному разделу мира. И потому же обделенная. С освоением Африканского Континента у нее получалось еще хуже, чем у Германии. Даже Эфиопия надавала ей по шапке. Видимо, поэтому в Риме долго не могли решить – кому же все-таки позволить себя унизить, и у кого просить поддержки. Позже, когда глобальная мясорубка уже запустилась, Италия все никак не могла определиться с выбором. В итоге она сделала неожиданный финт: вышла из Тройственного Союза с Германией и Австро-Венгрией, и присоединилась к Антанте. Даже марсиане, наблюдающие за событиями на планете Земля, открыли рты от удивления.
Как видно, разногласий между европейскими странами к началу Первой Мировой Войны накопилось огромное количество на разных фронтах. Причем разногласия имелись даже между будущими союзниками. Государства всё искали себе подходящих партнеров и анализировали, с кем и против кого бы им лучше было бы воевать. Поэтому частенько прыгали от одного союза к другому. Но в конечном итоге все разбежались каждый по своим альянсам, определив для себя самых приемлемых партнеров и самых ненавистных врагов, и таким образом найдя наиболее подходящий способ решения множественных противоречий.
Ну, а вишенкой на этом прекрасном торте была Япония, которая за счет модернизации и индустриализации смогла существенно нарастить свой военный потенциал. Она приобретала на Дальнем Востоке и в Тихом Океане все больший вес, превращаясь в новую империю. Это будет иметь долгосрочные последствия, выходящие даже за рамки Первой Мировой Войны.
Начало Прямого Столкновения Великих Держав
Особым местом на Европейском Континенте оставался Балканский Полуостров. Уже было отмечено, что там пересекались интересы, как минимум, трех империй: Российской, Османской и Австро-Венгерской. Причем действия Российской Империи откровенно злили управляющую элиту двух других. Греция, Сербия, Болгария и Черногория благодаря поддержке Петербурга сначала получили независимость от Турции, а затем и вовсе начали против нее войну. В итоге османы были выдавлены из региона. Однако сразу же после Первой Балканской Войны началась Вторая – уже между бывшими союзниками. Вена и Берлин постарались рассорить между собой членов антитурецкого альянса, которые тут же занялись дележкой Македонии. Хотя сильнее всего была виновата, конечно же, Болгария – именно она открыла боевые действия. Но в итоге она проиграла, и часть захваченных у Турции территорий вынуждена была отдать другим. Таким образом, Вена и Берлин добились своего. А София затаила на всех обиду и жаждала реванша. Это в итоге приведет ее к союзу с немецкими державами. Но проблема была не только в Болгарии. В Сербии образовалась националистическая террористическая группировка “Черная Рука”. Ее члены – выходцы из военной разведки – распространили свое влияние на государственный аппарат внутри страны. И главной их идеей был ирредентизм. Они желали объединить в одно государство все славянские народы. Соответственно, славяне Австро-Венгрии должны были бы выйти из-под юрисдикции Вены, что самой Вене, конечно же, не нравилось. Австрийские Габсбурги откровенно рассматривали Сербию как террористическое государство. И для этого у них имелись свои причины. Оккупировав Боснию и Герцеговину, Франц-Иосиф получил в наследство сербскую террористическую организацию “Млада Босна” (“Молодая Босния”). А ее члены тесно сотрудничали с белградской группировкой “Черная Рука”.
“Млада Босна” боролась за освобождение Боснии и Герцеговины от Австро-Венгерской Империи. И вместе с членами “Черной Руки” – за создание единого славянского государства. Правда, взгляды на политическое и социальное устройство предполагаемого государства у них были различны. Но цели совпадали: ослабление венского влияния в регионе. Утром 28 июня 1914 г. в Сараево, столице Боснии и Герцеговины, группа из шести террористов (5 сербов и 1 босниец) совершила покушение на австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда и его морганатическую супругу. Первая попытка оказалась не очень удачной: Франц Фердинанд с женой не пострадали. Но затем члену группы Гаврило Принципу (сербу по национальности) выпал случай совершить повторное нападение. Чета поехала в больницу к раненным. Заметив их машину, Гаврило Принцип открыл огонь из пистолета. Супружеская пара погибла. К покушению была причастна сербская группировка “Черная Рука”.
Франц Фердинанд являлся наследником австрийского престола. И спустя четыре недели (23 июля) Венское правительство выдвинуло Сербии ультиматум из 10 пунктов. Среди них было: прекращение антиавстрийской пропаганды; ликвидация агрессивных националистических и террористических группировок на территории Сербии; вычищение административного аппарата от террористов; арест отдельных личностей, подозреваемых в терроризме; прекращение контрабанды оружия; а также допуск австрийских подданных к расследованию убийства, в том числе на сербскую территорию. В случае невыполнения требований Вена угрожала применением военной силы. Сразу же начались тяжелые и хаотичные переговоры между ведущими европейскими державами. Все понимали, что вторжение Австро-Венгрии в Сербию приведет к вступлению в войну России. А это уже потянет за собой вступление в войну Германии, после чего в конфликт с высокой степенью вероятности втянутся Великобритания и Франция. Поэтому одновременно с переговорами начались приготовления к возможным боевым действиям. В частности, Россия стала проводить тайную мобилизацию. Тем временем Белград удовлетворил практически все требования Вены. Однако отказался допускать на свою территорию австрийских следователей. Несмотря на уговоры великих держав, Австро-Венгрия 28 июля объявила Сербии войну. Белград подвергся артиллерийским обстрелам, после которых началось вторжение австрийских войск. Теоретически глобальную мясорубку еще можно было предотвратить. Сербии предлагали сдать Белград и выполнить все пункты австрийского ультиматума. Но Россия уже в открытую проводила всеобщую мобилизацию. Ее примеру вскоре последовала и Франция. Немецкий император Вильгельм II психанул и предъявил ультиматум России: прекратить мобилизацию. Может, он и не психанул, конечно. Может, так и было им задумано изначально. В любом случае Россия отказалась. И тогда Германия объявила войну России. Произошло это 1 августа. Уинстон Черчилль, бывший в то время главой британского Адмиралтейства, написал жене примерно следующее: “Вот и все… Мир сошел с ума, мы должны бороться за себя и за наших друзей”. И, действительно, Европа погружалась в бездну насилия.
Среди стран Тройственного Союза (Германия, Австро-Венгрия, Италия) самой сильной, безусловно, была Германия. По вооружению сухопутной армии она превосходила и Великобританию, и Францию, и Россию. Основу ее военной мощи составляли тяжелые артиллерийские орудия, по которым ее отрыв от соперников был просто колоссальным. Как раз в начале XX столетия появились новые казнозарядные пушки, созданные по новаторским технологиям. Они были мощнее и дальнобойнее предыдущих образцов. Еще не все понимали, но в перспективе их применение меняло тактику боя. У немцев здесь было явное преимущество. Что же касается личного состава, то по этому показателю Германия накануне войны слегка уступала Франции (808 тысяч против 883 тысяч). Однако непосредственно перед вторжением в 1914 г. немцы смогли сконцентрировать на своем западном фронте 1,6 миллионов человек. В то время как Франция готовилась отражать нападение с 1,3 миллионов солдат, которым еще помогали 87 тысяч британцев. Россия теоретически могла призвать самое большое количество комбатантов (миллионы людей). Но их выучка и боевые качества, как показали дальнейшие события, оставляли желать лучшего. Русские солдаты, впоследствии набранные из крестьян, панически боялись немецкой артиллерии. В то же время весьма неприятным для Берлина фактом стал отказ Италии выполнять свои союзнические обязательства и вступать в войну.
Боевые Действия. 1914 г.
Основной Театр
В тот же день, в который Германия объявила войну России, немецкие войска вторглись в Люксембург и буквально за сутки полностью его оккупировали. Затем было выставлено требование Бельгии: предоставить транзит для прохода во Францию. На следующий день – 3 августа – Германия объявила войну Франции. А 4 августа, поскольку Брюссель отказался выполнять требование Берлина, то Германия начала вторжение на бельгийскую территорию. После этого уже Великобритания объявила войну Германии. Вскоре к великим державам стали присоединяться малые союзники с каждой из сторон.
Наступление немцев через Бельгию было не случайным. Непосредственно французская граница была очень сильно укреплена. А Брюссель заявлял о своем нейтралитете и к войне настолько хорошо не готовился. В то же время Лондон обязался защищать нейтралитет Бельгии, и теперь должен был выполнять свои обязательства.
Бельгийская армия была малочисленна (117 тысяч человек). Но сопротивлялась упорно. Первым городом, подвергшимся нападению немцев, был город Льеж. Он стоял на реке Маас и защищал переправы. Его захват являлся необходимым. Но бельгийские войска взорвали все мосты. А когда немцы принялись возводить понтоны – открыли по ним огонь. Сам город был окружен современными фортами. Они находились преимущественно под землей, снаружи располагались только боевые башни с орудиями, а также воздухозаборники (естественная вентиляция). Немцам пришлось подтаскивать свою тяжелую артиллерию – мортиры калибром свыше 210 мм. Также для бомбардировки с воздуха использовались цеппелины. Форты в целом неплохо выдерживали обстрел. Но просчетом бельгийцев было то, что их можно было обойти и ударить по тыльной стороне, которая была слабее. А земляные укрепления между фортами бельгийцы начали возводить лишь 2 августа. Тем не менее, при попытках обойти форты немцы несли большие потери – работали бельгийские пулеметы и артиллерия. Общее число обороняющихся было 36 тысяч, а число нападающих – почти 60 тысяч. К 7 августа немцам удалось захватить сам город, гарнизон которого капитулировал. Однако бельгийцы из осажденных фортов продолжали вести огонь по переправам. Немцы подтянули осадную артиллерию калибром 305 мм и 420 мм, которая оказалась по-настоящему разрушительной. К 10 августа был захвачен первый форт. А последний был уничтожен 16 августа (взорвался склад боеприпасов). Немцы планировали захватить Бельгию с ходу за короткое время. Но только на штурме льежских фортов они потеряли тысячи солдат (по разным оценкам: от 5 до 25 тысяч убитыми и раненными). После окончательного захвата города 2-ая Армия двинулась на Брюссель, к ней присоединилась 1-ая Армия. Между тем, 3-я Армия направилась к Намюру (юго-западнее).
Подойдя к Намюру 20 августа, немцы уже понимали, как лучше брать город, окруженный фортами. Использовав аэроразведку, они выяснили расположение пехотных частей противника и проследили за их передвижениями. Также стало ясно, что с юго-восточной стороны города позиции обороняющихся особенно сильны из-за неровностей местности. Поэтому основную атаку запланировали с севера и северо-востока, для чего войскам пришлось перебраться на другой берег реки Маас. Дождавшись подхода тяжелой осадной артиллерии, немцы приступили к бомбардировке. Бельгийцы вынуждены были оставить окопы и уйти под защиту фортов. Это позволило снова обойти крепости с тыла и нанести удары в самые незащищенные места. В итоге штурм Намюра занял меньше времени, чем Льежа. Последние форты капитулировали 25 августа. Бельгийцы умело оборонялись. Но большая часть гарнизона из 35 тысяч покинула город, часть людей ушла на юг для соединения с французской армией. Около 5-7 тысяч сдались в плен. Сами немцы потеряли 300 человек убитыми и около 600 раненными (в штурме участвовало 107 тысяч солдат).
Тем временем, 1-ая и 2-ая германские армии еще 20 августа подошли к Брюсселю. Столица сдалась без боя. Теперь сопротивление оказывали только северные города. В частности портовый Антверпен, стоящий на обоих берегах Шельды, был взят в осаду 10 сентября. Немцы не смогли добиться полного окружения. Гарнизон и жители продолжали снабжаться с северо-запада: через границу с Нидерландами, а также с моря. Поддержку оказывали англичане. В город стеклись войска, отступившие из Льежа и Намюра. Количество защитников достигло 150 тысяч человек. Бельгийцы оборонялись храбро и умело. Постоянно делали вылазки, нанося противнику серьезный урон. Поэтому немцам даже пришлось выделить для Антверпена дополнительные силы, сняв их с других направлений. Они проводили беспощадную бомбардировку города, применяя для этого цеппелины. Также здесь неистово работала германская тяжелая осадная артиллерия. Разрывы снарядов приводили к большим разрушениям и вызывали пожары. Множество построек были уничтожены огнем. В том числе горели цистерны с нефтью и нефтепродуктами. А германские части периодически совершали попытки штурма. Британские морские пехотинцы прибыли на усиление гарнизона 3 октября и просили власти удержать город. Но бельгийцы отнеслись к этому скептически. Жители массово покидали Антверпен, уходя на запад во Францию, на север в Голландию, или же спасаясь на британских кораблях. В итоге 8 октября последние защитники города оставили его. Немцы вошли в Антверпен на следующий день. В плен попало 30 тысяч бельгийцев.
Пока бельгийцы пытались остановить немецкие войска в своей стране, французы проводили наступательную операцию по направлению Эльзас-Лотарингия (на юге, ближе к Швейцарии). Она имела как военное значение – отвлечь немецкие силы от Бельгии, так и национально-патриотическое – вернуть территории, утраченные в 1871 г. На выполнение задачи было выделено две армии (1-ая и 2-ая). Поначалу, 7 августа, французам удалось захватить крупный город Мюльхаузен (Мюлуз) и несколько населенных пунктов поменьше. Но затем германское командование подтянуло резервы, и французы вынуждены были отступить обратно, вернувшись за свои укрепленные позиции. Каждая из сторон потеряла по несколько тысяч убитыми.
Прорвав бельгийскую оборону, немцы 21 августа подошли к французской границе. В Париже, конечно, рассматривали вариант нападения Германии через соседние нейтральные страны. Однако до последнего момента отказывались поверить в то, что Берлин решил реализовать именно такой сценарий. Полагали, что главный удар последует все-таки на французском участке между Люксембургом и Швейцарией. Но эти домыслы оказались ошибочными. Поэтому в первые дни войны французам пришлось перебрасывать войска на север к Намюру и Брюсселю, получив согласие бельгийских властей. Собственная Операция в Лотарингии провалилась, хотя и отвлекла частично силы противника. Но к 20 августа уже стал понятен замысел берлинских генералов. Поэтому 3-я, 4-ая и 5-ая французские армии сами пошли в наступление. Соответственно, в 20-ых числах августа развернулись встречные бои. Они оказались одними из самых масштабных и кровопролитных за всю Первую Мировую Войну. Огромные массы немцев наступали по трем основным направлениям: Арденны (горная система), междуречье Мааса и Самбры, и в районе приграничного бельгийского города Монс. Французы намеревались их остановить. Конкретно в Арденнах действовали 3-я и 4-ая армии, которые пытались сдержать натиск 4-ой и 5-ой германских армий. Но французы были разбиты и с большими потерями (до 22 тысяч убитыми) вынуждены были отступить. Впрочем, потери немцев тоже оказались немаленькими – около 15 тысяч убитыми. Вследствие высокой утомленности их дальнейшее продвижение 26 августа было приостановлено. В междуречье Мааса и Самбры, недалеко от города Шарлеруа, 5-ая Французская Армия пыталась остановить 2-ую и 3-ю германские армии. Задачей немцев было наведение переправ при активном противодействии врага. Им это удалось к 23 августа. Французы осуществляли контратаки, которые местами имели ограниченный успех. Но, в конечном счете, не смогли сдержать натиск захватчиков. У большинства пехотинцев даже не было лопат и прочих инструментов для окапывания. Некоторые генералы вынуждены были покупать их у местных жителей. Также возникали проблемы во взаимодействии с артиллерией. В то время как у немцев все было намного лучше и с артподготовкой, и с аэроразведкой. Их армия уже являлась полноценной современной армией, которая действовала по новым принципам. Правда, французам удалось вполне успешно отступить, избежав окружения. Но это был их единственный значимый успех. Потери убитыми составили 10 тысяч человек. Наконец. у бельгийского города Монс 1-ая Германская Армия столкнулась с британскими войсками. Англичане хорошо умели воевать. Но силы были не равны: 70 тысяч при 300 орудиях против 160 тысяч при 600 орудиях (1-ый Британский Корпус не успел подойти). В итоге английские части вынуждены были оставить позиции. А когда немцы пересекли границу, то в осаду попала французская крепость Мобёж – город, стоящий на реке Самбра, и окруженный фортами. Германская артиллерия начала обстрел 29 августа. Благодаря своим крупнокалиберным пушкам (305 мм и 420 мм), используя корректировщиков огня, немцы за полторы недели смогли подавить практически все крепостные орудия. Гарнизон вынужден был капитулировать 7 сентября. И хотя он сумел задержать противника, но в итоге в плену оказалось от 33 до 45 тысяч французов.
Таким образом, на Западном Фронте германские войска добились значительных успехов, сумев прорвать оборону союзников, которые начали Великое Отступление. Общие потери французов составили 260 тысяч убитыми, раненными и пленными. Общие потери немцев – 160 тысяч убитыми, раненными и пленными. Но эти цифры включают в себя битвы в Эльзас-Лотарингии, а также на менее значимых участках. Вся серия боев на французской границе с начала августа называется – Приграничные Сражения.
К счастью, французы сумели сделать выводы из своих поражений. Они провели работу над ошибками и пересмотрели собственную тактику. В то же время германское командование поверило в возможность легкого захвата Франции, поэтому отправило часть своих войск на Восточный Фронт. Это было очень, кстати, потому что русская армия к тому времени сумела одержать в Пруссии локальные победы.
Восточный Фронт для Германии был второстепенным. Берлинское командование, воспользовавшись медлительностью русской мобилизационной машины, собиралось вначале нанести молниеносный удар по Франции, а уж потом переключиться на Россию. В соответствии с этим против Петербурга выставлялась одна 8-ая Германская Армия численностью 200 тыс. человек с 1044 орудиями. Ее задача была, скорее, сдерживать натиск противника. Основная же роль отводилась Австро-Венгрии, которая должна была выставить три полноценных армии (1-ю, 3-ю и 4-ю), и еще отдельные части 2-ой Армии – все это общей численностью 850 тыс. человек при 1728 орудиях. Сама Россия против Германии на северо-западном направлении выставляла 1-ую и 2-ую армии численностью 250 тыс. человек при 1104 орудиях. А на юго-западном направлении против Австро-Венгрии стояли четыре армии (3-я, 4-ая, 5-ая, 8-ая) общей численность 600 тыс. человек при 2099 орудиях.
17 августа русские войска начали так называемую Восточно-Прусскую Операцию. С востока 1-ая Русская Армия генерала Павла Ренненкампфа пересекла немецкую границу, намереваясь отрезать противника от Кёнигсберга. Вскоре с южной стороны границы должна была начать наступление 2-ая Русская Армия под командованием генерала Самсонова. Ее задача: обойти с запада Мазурские Озёра и помешать немцам отступить через Вислу. То есть предполагалось взять врага в своеобразные тиски. Командующий 8-ой Германской Армией генерал Притвиц оставил для сдерживания Самсонова один корпус. А главный удар тремя корпусами решил нанести по армии Ренненкампфа. Передовые части противников столкнулись у приграничного городка Шталлупёнен 17 августа. Их численность была сопоставима: 17 тысяч у русских и 18 тысяч у немцев. Исход Битвы оказался неоднозначным. Поначалу русские смогли продавить оборону немцев, но затем оголили свой правый фланг, в который и получили неожиданный мощный удар. В то же время немцы, чтобы избежать окружения своих частей, вынуждены были отступить и оставить городок за русскими. Таким образом, первое сражение этой Войны на Восточном Фронте оказалось безрезультатным для обеих сторон. В то же время необходимо заметить, что русские понесли потери в 5-7 тысяч человек убитыми, раненными и пленными (в основном пленными), а немцы потеряли всего лишь 1200-1600 человек. То есть немцы показали большую эффективность. Правда, русские получили информацию о расположении и численности вражеской армии.
После Шталлупёнена германские войска отошли на запад к Гумбиннену. Русские, соответственно, направились за ними. И вскоре недалеко от города состоялось новое, уже более серьезное, сражение. Немцы, имея некоторое превосходство в живой силе и орудиях, 20 августа перешли в наступление. Причем на отдельных направлениях они погнали впереди себя захваченных накануне пленных. Несмотря на это, русские выдержали удар и сами предприняли контратаку. Между тем, немецкая конница смогла прорваться в тыл к русским и даже захватила припасы, однако и здесь ее дальнейшее продвижение было в итоге остановлено. Самые же большие потери понесли центральные германские части под командованием генерала Макензена, которые попали под мощный обстрел. После этого немцы вынуждены были отступить. Причиной успеха русских считается хорошая подготовка войск под начальством генерала Павла Ренненкампфа – российского дворянина, имеющего немецкое происхождение.
Как уже было отмечено, германская армия в начале сражения обладала численным превосходством: 84 тыс. человек и 450 орудий против 73 тыс. человек и 380 орудий. Но победить не смогла. Утешением для нее было лишь то, что российская армия потеряла больше людей – 16,5-19,5 тыс. – в то время как ее собственные потери оказались 14,5 тыс. (убитыми, раненными и пленными). Однако стратегически поражение под Гумбинненом имело весьма значимые долгосрочные последствия.
Генерал Притвиц принял решение отступать на запад за реку Вислу. Это вполне предусматривалось изначальным планом. Все-таки основным противником в Берлине считалась Франция, которую нужно было разгромить быстро одним молниеносным ударом. А против русских в случае неудачи нужно было вести сдерживающие оборонительные бои. Поэтому переброска подкреплений с Западного Фронта на Восточный не предполагалась в принципе. Однако после поражения под Гумбинненом планы неожиданно пересмотрели. Видимо, сдавать Восточную Пруссию стало слишком обидно, захотели ее оставить. Да к тому же отступление французов воодушевило немецких стратегов, и они было подумали, что победа над Парижем у них в кармане. В итоге на Восточный Фронт были перекинуты дополнительные силы, что закономерно ослабило западную группировку. Это сыграет свою негативную роль в Битве на Марне. Но локально поможет разгромить наступающую русскую армию.
В то же время и российские генералы переоценили свои успехи. Ренненкампф посчитал, что его задачи выполнены, поэтому он отказался от преследования врага и не стал соединяться с Самсоновым, а решил занять Кёнигсберг. В свою очередь Самсонов неожиданно проявил инициативу: вместо того, чтобы направиться на север на соединение с Ренненкампфом – он повел свою армию на северо-запад, чтобы по возможности нагнать отступающих немцев. Эта ошибка стала фатальной. Между обеими армиями образовалась огромная брешь в 125 километров. И новое германское командование не замедлило этим воспользоваться. Новое – потому, что Притвица сняли с занимаемой должности, а на его место поставили легендарных Пауля фон Гинденбурга и Эриха фон Людендорфа (начальник штаба).
Серьезным просчетом русских было полное пренебрежение к шифровке радиопереговоров. Немцы смогли перехватить сообщения, в которых содержалась информация о намерениях командования и расположении войск. Это позволило Гиндербургу и Людендорфу быстро спланировать эффективную операцию. Против 1-ой Армии Ренненкампфа выставлялись 2-3 дивизии, которые выполняли функцию временного заслона. Основные же силы 8-ой Германской Армии были в кратчайшие сроки переброшены через Кёнигсберг на юг по рокадной (военной) железной дороге. Такие действия были рискованными. Если бы Реннекампф решил соединиться с Самсоновым, то план Гинденбурга и Людендорфа провалился бы. Но Реннекампф остался у Кёнигсберга. И 26 августа немцы ударили в правый фланг 2-ой Русской Армии в районе Бишофсбурга. Русские части были полностью разгромлены, а командующий ими генерал Благовещенский покинул фронт. В итоге Самсонов не получил информации о произошедшем. Он продолжал вести свою армию на северо-запад. И 27 августа немцы нанесли новый удар – уже по левому флангу в районе Танненберга. Командующие корпусами генералы Артамонов и Кондратович понесли тяжелые потери и отступили к Нейденбургу. При этом до Самсонова также дошли не совсем верные сведения. Не имея возможности правильно оценить ситуацию, он продолжал движение в прежнем направлении, вытягивая свои центральные части. При этом между штабом и войсками пропала связь. Командующий Фронтом генерал Жилинский 28 августа приказал 1-ой Армии выдвинуться на соединение со 2-ой Армией. Но затем отменил приказ, поскольку решил, что Самсонов отошел к границе. А, между тем, генерал Самсонов оказался в полуокружении 8-ой Германской Армии. Он скомандовал общее отступление слишком поздно, и 29 августа попал под фланговые удары противника. Примечательно, что первые атаки были отбиты, и Гинденбург, испугавшись провала всей операции, приказал начать отступление. Однако телеграмма по каким-то причинам не дошла до назначения, а посланный гонец прибыл на поле боя тогда, когда русские войска уже были разбиты и в беспорядке отступали к границе. При этом 13-й и 15-ый корпуса вместе с Самсоновым оказались полностью окружены. В ночь на 30 августа генерал застрелился.
В Битве при Танненберге 2-ая Русская Армия понесла очень тяжелые потери: 6 тысяч убитых, 20 тысяч раненных и 30 тысяч пленных солдат, 10 генералов убиты, еще 9 пленены. По некоторым оценкам общие потери даже превысили 90 тысяч человек. А из артиллерии было захвачено от 230 до 500 орудий. Немцы потеряли в общем 12 тыс. или 30 тыс. бойцов (по разным данным).
Разбив 2-ую Армию Самсонова, Гинденбург направил свои войска на северо-восток, чтобы разделаться с 1-ой Армией Ренненкампфа. Она находилась чуть севернее Мазурских Озер. И самым слабым ее местом являлся растянутый левый фланг (для немцев – южный). Для того, чтобы его прикрыть, была спешно создана 10-ая Армия. Однако она не успела вовремя сосредоточиться в нужном месте. Германские части беспрепятственно обошли Мазурские Озера с севера и с юга, и 7 сентября ударили прямо в стык между 1-ой и 10-ой русскими армиями. Развернулось кровопролитное сражение, которое продолжалось несколько дней. Немцы имели очевидное преимущество в тяжелой артиллерии, наносившей большой урон русским войскам. В конце концов, они смогли прорвать оборону левого фланга 1-ой Армии, после чего принялись заходить ей в тыл. Только своевременная переброска подкреплений на этот участок генералом Ренненкампфом позволила спасти всю армию от окружения и начать отступать в Россию. В то же время 9 сентября с юга подошли остатки 2-ой Армии Самсонова, пополненные свежими силами. Они отвлекли на себя части 8-ой Германской Армии, и тем самым помогли Ренненкампфу увести свои войска на восток. До 14 сентября продолжались арьергардные бои.
Данные о потерях Мазурского Сражения сильно разнятся. По минимальным оценкам русские потеряли около 20 тысяч человек убитыми, пленными и раненными. Согласно другой информации потери составили около 100 тысяч человек, из которых примерно половина – пленные. Это делает поражение у Мазурских Озер еще более катастрофическим, чем разгром 2-ой Самсоновской Армии. Также было захвачено свыше 160 артиллерийских орудий и свыше 170 пулеметов. Общие потери немцем составили от 10 до 40 тысяч человек (по официальным данным за весь сентябрь – 13,5 тыс.).
Собственно говоря, на этом Восточно-Прусская Операция была закончена. Командующий Фронтом Жилинский был снят с занимаемой должности. Германия одержала на этом направлении безоговорочную победу. Но данная победа была, скорее, тактическая. А вот стратегически – немцы ослабили свой Западный Фронт, перебросив оттуда 120 тысяч человек. Это сыграет свою роль в будущем поражении под Марной, в результате чего немецкое наступление будет остановлено, и Германия втянется в затяжную войну. В конце остается заметить, что русские войска, войдя в Восточную Пруссию, учинили в ней массовые грабежи и расстрелы мирного населения. Были убиты сотни жителей, тысячи угнаны в Россию, еще десятки тысяч лишились своих домов, сотни тысяч были вынуждены бежать от насилия. Русские войска захватили много чужого имущества, часть из которого все равно потеряли при отступлении. Впрочем, немцы на российских землях вели себя не лучше. Например, еще 2 августа они вошли в Царство Польское (под юрисдикцией Петербурга), и принялись занимать приграничные города. В Калише германские части устроили погром и расстреляли около 200 местных жителей, которых заподозрили в диверсиях.
С немецкими войсками русская армия билась не очень успешно. И эта ситуация продолжалась до конца войны, завершившись в итоге поражением. Сразу было понятно, кто на каком уровне развития находится. Но совсем другая история была с Австро-Венгрией. Эта лоскутная империя переживала такие национальные проблемы, что обеспечить высокую боеспособность своей армии была не в состоянии в принципе. Хотя и пыталась.
18 августа началась так называемая Галицийская Битва – серия сражений на российском Юго-Западном Фронте, которая длилась более месяца. По своим масштабам она даже превосходила события в Восточной Пруссии. Общее командование осуществлял генерал Николай Иванов. Ему противостоял эрцгерцог Фридрих. По ходу разворачивающихся боев каждая сторона пополняла свои силы новыми частями: русские создали 9-ую Армию, австрийцы – доукомплектовали 2-ую Армию. Поэтому численность российских войск возросла до 1-1,2 миллионов человек, австрийских – до 950 тысяч, вместе с этим увеличивалось и количество артиллерийских орудий.
Русские планировали обойти с разных сторон и окружить всеми своими армиями город Львов (Лемберг), находящийся под юрисдикцией Вены. Однако австрийцам стали известны эти намерения. Они развернули свои части западнее, одновременно усилив их. Собственный удар они решили нанести на севере.
Первые стычки с взаимными, но кратковременными пересечениями границы, начались еще 6 августа. Но они, скорее, были похожи на проверку сил противника и разведку боем. Только 18 числа русские перешли в полномасштабное наступление на множестве участков фронта. На левом фланге с юга продвигалась 8-я Армия под командованием генерала Брусилова. А севернее шла 3-я Армия генерала Рузского. Они не встретили серьезного сопротивления, сумев пройти около 100-150 км. Только 21 августа состоялось крупное кавалерийское сражение у деревни Ярославицы (между Бродами и Тарнополем, чуть юго-западнее). Общее количество участвующих в нем всадников – примерно 5-6 тысяч. Русская 10-ая Кавалерийская Дивизия прикрывала развертывание 3-ей Армии. И обнаружила 4-ую Австрийскую Кавалерийскую Дивизию, которая занималась патрулированием границы. Несмотря на то, что русские силы были примерно в два раза меньше (по крайней мере, как сообщается), они сумели разгромить австрияков. Правда, не сразу. Вначале, наступая вверх по склону, они понесли существенные потери и вынуждены были отойти обратно. Противник даже умудрился зайти им в тыл. Но командир Федор Келлер лично возглавил контратаку и ударил прорвавшемуся вражескому эскадрону во фланг. После чего русские уже погнали австрийцев прочь. Последние потеряли до 1000 человек убитыми и раненными, около 650 человек пленными, и еще артиллерийские орудия. Потери русских составили 150 человек. Это было первое крупное кавалерийское сражение в текущей Войне. И оно же последнее. В скором времени конница станет утрачивать свое прежнее значение.
На юге и юго-востоке русские войска довольно быстро продвигались ко Львову. Однако на севере дела обстояли не так замечательно. 4-ая Армия под командованием генерала Зальца шла со стороны Люблина на Перемышль. И пока она бодренько наступала, австрийские войска разворачивались западнее, тем самым совершая обход и получая возможность ударить во фланг. По-хорошему, 4-ую Армию необходимо было бы чем-то прикрыть. Но Генштаб не захотел выделять дополнительные силы. Он пытался осуществить свой абсолютно нереализуемый план по захвату Берлина, для чего разгромить австрийскую группировку требовалось как можно быстрее. К тому же определенную роль, судя по всему, сыграли мелкие склоки между самими командующими, генералы стремились как можно сильнее насолить друг другу. Сражение началось 23 августа. Русская 4-ая Армия, продвинувшись не так далеко от Люблина, встретила у города Красник 1-ую Австрийскую Армию, которая превосходила ее по силам примерно в два раза (109 тыс. человек против 228 тысяч, по орудиям почти паритет). Австрийцы начали обходить противника с запада своим левым флангом. Дополнительную поддержку в ближайшие дни (но не раньше 28 числа) могла оказать Группа Кумера, прикрывавшая Краков и выходящая на Островец. Отдельно стоит заметить, что в составе 1-ой Австрийской Армии было много поляков, которые испытывали к русским понятные чувства. В итоге в первый же день сражения войска генерала Зальца понесли значительные потери, в результате чего он вынужден был отступать на восток. Однако в штабе приказали продолжить движение 4-ой и 5-ой армиям. И на следующий день австрийские войска проломили оборону русских частей, принудив к дальнейшему отступлению. Только когда возникла угроза окружения 4-ой Армии, в штабе Юго-Западного Фронта, наконец-то, сообразили, что дальнейшее продвижение войск может привести к катастрофе. Наступление было приостановлено. А на поддержку генералу Зальца были направлены силы 5-ой Армии, которые должны были сдержать противника и не позволить ему зайти в тыл. Под прикрытием товарищей солдаты 4-ой Армии вышли из боя и ретировались к городу Люблин. Подступы к нему пришлось оборонять от австрийцев примерно еще неделю – перестрелки продолжались до 2 сентября. В итоге потери русских составили 20-25 тыс. человек убитыми, раненными и пленными. Австро-Венгрия потеряла 15 тыс. человек.
В то же время при отступлении 4-ой Армии под удар попадала 5-ая Армия, которая двигалась чуть восточнее прямо на Львов. Но с ней уже разбиралась 4-ая Австрийская Армия. Она обладала более чем 1,5-кратным превосходством в живой силе (250 тыс. человек против 150 тыс.). Неудачи ожидали русских с самого начала. Правофланговый 25-ый корпус должен был овладеть городом Замостье, который стоял на высотах и контролировал дорожные развязки. В результате мощной атаки австрийцев этот корпус понес большие потери и был отброшен к городу Красностав на северо-запад. Выполнить свою задачу он так и не смог. Центральные 19-ый и 5-ый корпуса направлялись на город Томашев. Однако тоже потерпели поражение и отошли к Комарову. Самые ожесточенные бои начались 27 и 28 августа. Центральные корпуса опять не смогли ничего добиться. А заходящий с востока 17-й корпус и вовсе попал под удар австрийцев во фланг. Сражение продолжалось 29 и 30 августа. В эти дни 19-ый корпус попал в полуокружение, его обошли с запада и северо-запада, угрожая полным разгромом. Командующий 5-ой Армией генерал Плеве приказал отступать для соединения с 4-ой Армией. Это сражение – при Комарове-Томашеве – также было проиграно. Русские потеряли до 46 тысяч личного состава (20 тыс. пленными) и 150 орудий. Потери Австро-Венгрии были чуть ниже – 40 тыс. человек.
Однако, несмотря на поражение 4-ой и 5-ой русских армий, общий успех всей Галицийской Битвы зависел от действий генералов Рузского и Брусилова, наступающих с востока и юго-востока на Львов. Численность этих войск превышала 385 тысяч бойцов, при себе они имели более 1200 орудий. 26 августа на реке Золотая Липа они напоролись на 3-ю Австрийскую Армию, поддержку которой оказывала Группа Кевеса (суммарно больше 320 тыс. солдат при 718 орудиях). После двух дней боев русские сумели оттеснить австрийцев на речку Гнилая Липа. Там продолжались упорные сражения в следующие три дня. Австрийцы попытались нанести удар со стороны Галича (юго-восточнее), но эта атака была отбита. В то же время генералы Рузский и Брусилов смогли разгромить Австрийский 12-ый Корпус, действовавший на стыке их армий. В конце концов, 31 августа австрийцы побежали ко Львову. И в первых числах сентября русские захватили как, собственно, Львов, так и Галич. Потери австрийцев составили около 20 тысяч человек.
После взятия Львова на Юго-Западном Фронте наступил перелом в пользу русских. 4-ая и 5-а армии были усилены созданной недавно 9-ой Армией. Все вместе они получили приказ начать атаку против 1-ой и 4-ой австрийских армий. А с востока еще дополнительно должна была ударить во фланг 3-я Армия Рузского. При этом 8-ая Армия Брусилова выставлялась для сдерживания 3-ей и 2-ой австрийских армий. В свою очередь начальник австрийского штаба Конрад фон Гётцендорф встречным движением направил 4-ую Армию на восток, на помощь 3-ей. Таким образом, все войска – и русские, и австрийские – собирались в одну кучу поближе ко Львову. И 10 сентября недалеко от Равы-Русской состоялось крупное сражение. Российские войска одержали в нем уверенную победу, сумев нанести врагу существенный урон. Общие потери австрийцев составили 130 тыс. человек, из которых 70 тысяч попали в плен (по другим данным общие потери достигли 350 тыс.). Русские потеряли около 60 тыс. человек. После такого разгрома Конрад решил остановить все наступления и приказал своим войскам отойти на юг за реку Сан к Карпатам. В эти дни сражения проходили и в других местах вокруг Львова – например, под Ярославом (западнее). Также 4-ая Русская Армия нанесла поражение Группе Кумера.
К 20 числам сентября русские заняли всю Галицию. После этого началось преследование противника. Но еще 17 сентября в осаду попала австрийская крепость Перемышль (Пшемысль). Она сковала значительные российские силы (до 300 тыс. человек) и превратилась для них в настоящую головную боль. Крепость строилась несколько десятилетий. Она имела два так называемых обвода – то есть две круговые линии фортификационных сооружений, включающих в себя малые и большие форты, отдельные батареи, а также траншеи с колючей проволокой. Форты были хорошо оборудованы: в них было проведено электричество, работала радиосвязь, работала вентиляция и система для откачки воды, перемещаться между этажами можно было на лифтах, а для более эффективной стрельбы имелись прожектора и рефлекторы. Гарнизон вмешал около 130-140 тыс. человек. Первый штурм состоялся 5 октября и продолжался несколько дней. Но австрийцы сумели отбить все атаки. Русские войска понесли серьезные потери – до 10 тыс. убитыми и раненными (по некоторым данным: до 40 тыс.). А после того, как подошла австрийская армия – осаждающие вовсе вынуждены были отступить. Таким образом, осада была временно снята. В крепости остался небольшой отряд, основные же силы обороняющихся покинули ее.
В ноябре в ходе Варшавско-Ивангородской Операции Перемышль снова попадет в осаду. Русские уже не будут пытаться штурмовать крепость. Вместо этого они заблокируют ее пути снабжения и спровоцируют в ней голод. Для ведения артиллерийских обстрелов будут подвезены крупнокалиберные орудия. В середине марта 1915 года немецкие и австрийские войска начнут операцию по деблокированию гарнизона. Однако потерпят в этом неудачу. Тогда комендант крепости предпримет отчаянную попытку прорыва, но его люди понесут большие потери. В итоге 22 марта гарнизон капитулирует. В плен попадет около 110-120 тыс. человек и будет захвачено 700 орудий. При этом общие потери русских за время обоих штурмов превысят 110 тыс. человек. Самое интересное, что в мае того же, 1915-го года, снова придут немцы и возьмут в осаду уже русский гарнизон. Штурм состоится в июне. Будет успешным. И после этого крепость станет малопригодной к обороне.
Как бы там ни было, но Галицийская Битва в августе-сентябре 1914-го оказалась для русской армии победоносной. Потери победителей составили 200-300 тыс. человек (убитые, раненные, пленные). Потери же австро-венгерской армии были выше: 320-420 тыс. человек, из которых около 100 тыс. убитых и 130 тыс. пленных. Но это было только начало.
Тем временем, на Западном Фронте для Франции складывалась весьма непростая ситуация. Германские войска, пересекшие границу, начинали подходить к столице и уже представляли для нее угрозу. Однако здесь в полную силу проявился эффект от переброски частей в Пруссию. План Берлина был рассчитан на блицкриг: стремительное продвижение, затем обход Парижа с запада, окружение французской армии, и, наконец, полный ее разгром. Это оказалось трудновыполнимым еще на начальной стадии из-за яростного сопротивления как бельгийцев, так и французов. Но когда на восток ушли два корпуса и конная дивизия – это стало выглядеть и вовсе неосуществимым. Банально не хватало солдат. Те, что участвовали в боях и манёврах – были уже измотаны. А резервов не осталось. При этом пути снабжения слишком сильно растянулись. Похоже, что германское командование само лишило себя победы. Чтобы как-то исправить ситуацию, оно отказалось от похода на Париж. Войска сворачивали на восток – туда, где находились основные силы союзников, чтобы попробовать зайти им в тыл. Но при этом немцы подставляли свой правый фланг: в него могла ударить 6-я Французская Армия, защищающая Париж. А прикрыть этот фланг было опять же нечем. Несмотря на риск, немецкое командование решилось на манёвр. Это стало для Берлина второй фатальной ошибкой после переброски войск в Пруссию.
В первых числах сентября немцы, преследуя союзников, пересекли реку Марна. Англичане и французы бежали так быстро, что даже не взорвали за собой мосты. Но в Париже, сверившись с данными авиаразведки, поняли, что 1-ая и 2-ая немецкие армии оставили свой правый фланг незащищенным, оказавшись в довольно уязвимом положении. Командующий обороной столицы генерал Галлиени сумел убедить главнокомандующего генерала Жоффра отправить 6-ую Армию в атаку. Ее должны были поддержать 5-ая Французская Армия и британский корпус. А 9-ая, 4-ая и 3-я французские армии должны были сдерживать остальные немецкие силы. Французы тоже рисковали: 6-ая Армия прикрывала столицу, и если бы атака провалилась, то катастрофа была бы неизбежна. К тому же командующий английским экспедиционным корпусом генерал Джон Френч наотрез отказывался поддержать инициативу Галлиени. Однако в итоге его получилось уговорить. Что касается соотношения сил, то союзники превосходили немцев по количеству солдат (1 082 000 против 900 тыс.), однако немцы имели больше артиллерийских орудий, особенно тяжелых (436 против 184, по легким – почти паритет).
5 сентября 6-ая Французская Армия выдвинулась из Парижа и зашла во фланг 1-ой Германской Армии. Ее командующий генерал Александр фон Клюк отправил против этой неожиданной угрозы два корпуса. Но сразу же получил удар от 5-ой Французской Армии и британских частей. На следующий день развернулись полномасштабные бои по всему фронту. К 7 сентября фон Клюк бросил против 6-ой Французской Армии дополнительные силы, которые сумели нанести ей существенный урон. Однако в Париж в это время прибыла так называемая Марокканская Дивизия. Галлиени забрал из столичного таксопарка 600 машин, с помощью которых начал перебрасывать на линию фронта подкрепление. Также он задействовал железнодорожное сообщение. Фон Клюку пришлось отправить против 6-ой Французской Армии еще 2 корпуса. И в итоге между 1-ой и 2-ой германскими армиями образовалась брешь. В эту брешь залезли англичане и солдаты 5-ой Французской Армии. И, хотя продвигались они очень осторожно, тем не менее, коммуникация между немецкими войсками нарушилась и возникла реальная угроза для тыла 2-ой Армии. Ее командующий генерал Карл фон Бюлов 9 сентября приказал отступить на север. Это по цепочке привело к отступлению 1-ой и 3-ей германских армий (обнажились фланги). В конечном счете, вся Битва под Марной оказалась для немцев проигранной. А в процессе отхода они еще понесли дополнительные потери.
Однако силы союзников тоже были истощены. Поэтому организовать полноценное преследование не получилось. В течение нескольких дней немцы отходили на реку Эна. В некоторых местах они пересекли ее, и на возвышенностях крутого северного берега заняли оборону. Эти позиции, в густых зарослях кустарника, оказались невероятно сильны. Союзники догнали немцев к 13 сентября и вступили с ними в кровопролитные бои. Но, несмотря на ожесточенность последующих сражений (продолжались до 15 сентября), оттеснить германские части дальше на север так и не удалось. Линия фронта на этом стабилизировалась.
В Битве на Марне французы сумели нанести германским войскам тяжелое поражение. Наступление агрессора было остановлено и даже чуть было не закончилось для него катастрофой. Так или иначе, все планы Берлина оказались сорваны. Хотя цену за это заплатить пришлось высокую. Французы потеряли 227 тыс. солдат и офицеров, из которых более 31 тысячи было убито. Британцы потеряли 13 тыс. человек (1700 убитых). В то же время потери немцев составили 256 тыс. человек (из которых 67 тыс. убито). Это была одна из самых масштабных и кровавых битв за всю текущую Войну. Дополнительным сражением стали боевые действия на реке Эна, в которых французы потеряли еще 250 тыс. человек.
После того, как немцы отошли за Эну и окопались, вдруг выяснилось, что пространство к северу от Компьена особо никем не занято. Каждая сторона решила обойти западный фланг своего противника. Французы обходили правый фланг немцев (по крайней мере, пытались), а немцы, соответственно, левый фланг французов. Процесс, конечно же, сопровождался постоянными столкновениями. Длилось это со второй половины сентября до конца октября. Причем и немцы, и французы при выходе на новые позиции рыли траншеи. В итоге укрепленные линии протянулись аж до самого бельгийского Ньивпорта. Эти действия получили в истории название “Бег к Морю”. Первая битва в череде сражений состоялась 22-26 сентября чуть севернее Компьена (в области Пикардия). Затем 25-29 сентября у города Альберта. Исход этих столкновений был неопределенным, однако французам удалось предотвратить прорыв немецких частей. К тому времени обе противоборствующие силы начали формировать дополнительные армии. 1-4 октября произошла Битва при Аррасе. Французы удержали этот город. Однако немцы захватили Ланс (чуть севернее). 10 октября начались бои у коммуны Ла-Басе. В них также участвовали англичане, которые привезли с собой боевых индусов. Однако немцы оказались расторопнее и захватили город Лилль. Правда, на этом их успехи закончились. Встречные бои как в данной области, так и севернее продолжались до ноября. Но существенного успеха не смогла добиться ни одна из сторон.
В конце концов, противоборствующие армии подошли к границам Бельгии, фактически уперевшись в побережье Северного Моря. Их главнокомандующие стали думать над проведением наступательных операций. Англичане вознамерились войти в Бельгию, чтобы охватить всю немецкую группировку. Однако они явно недооценили силы противника. Только осторожность отдельных командиров позволила им избежать разгрома и вовремя ретироваться. В свою очередь немцы решили осуществить прорыв к порту Кале, чтобы нарушить коммуникации британского корпуса с родными островами. Удар планировалось нанести в двух местах: на реке Изер и у города Ипр. Оба сражения оказались весьма кровопролитными.
В Битве на Изере основную силу союзников составили бельгийцы, которые отступили из осажденного Антверпена. Они заняли оборону за одноименной рекой. Их численность составляла 52 тыс. человек. Им предстояло отражать атаку 85 тысяч немецких солдат. На помощь бельгийцам пришли 6600 французов. И еще три британских броненосца осуществляли огневую поддержку с моря. Тем не менее, силы были не равны. И германские части 21 октября смогли прорваться на левый (западный) берег. Пока они подготавливали себе плацдарм, бельгийцы с французами приняли решение открыть шлюзы (как раз прилив ожидался). В итоге немцы вскоре оказались заблокированы между фронтом и полуторакилометровыми болотами. Поэтому атаки свои прекратили.
Наиболее же масштабной и кровавой была Битва при Ипре. Вокруг этого города сконцентрировались по-настоящему крупные силы. Здесь были задействованы только что сформированные дополнительные армии. Сражения начались 19 октября и продолжались около месяца, завершившись только во второй половине ноября. Обе стороны по нескольку раз ходили в атаки на различных участках. Однако силы и тех, и других были уже в значительной степени истощены. А германские войска к тому же испытывали трудности со снабжением. В первых числах ноября наступление немцев стало постепенно захлебываться. Но последние мощные атаки с их стороны прошли 10 и 11 числа. Подтянув свои тяжелые орудия, они произвели массированный обстрел британских позиций, после чего приступили к штурму. Однако англичане при помощи пулемётов сдержали натиск противника, а затем отбросили его назад эффективным контрударом. Стало понятно, что дальнейшие атаки бесперспективны. В течение следующих 10 дней интенсивность боев снижалась. И к 22 ноябрю Битва была завершена. Фронт окончательно стабилизировался. Стороны перешли к позиционной войне.
Потери в Сражении при Ипре были большими. Французы потеряли от 50 тыс. до 85 тыс. человек, британцы – около 58 тысяч, а бельгийцы – 21,5 тысячу человек. Немецкие потери оцениваются в более чем 130 тыс. человек (убитыми, раненными, пленными).
На западе Европы немцы бежали с французами и англичанами наперегонки к Северному Морю. А на Восточном Фронте им приходилось помогать своим незадачливым австрийским друзьям. Ситуация для Вены была не самая хорошая. Ее солдаты удирали на восток в Карпатские Горы. И чтобы это удирание не превратилось в катастрофу, германское командование должно было что-то сделать. Вообще-то, польские земли под российской юрисдикцией формировали так называемый Варшавский Выступ. И можно было бы этот выступ при скоординированной атаке германцев и австрийцев “обрезать”. Но австрийцы подкачали. А германцы не решились атаковать прямо из Пруссии. Вместо этого они создали 9-ю Армию и сконцентрировали ее на северо-востоке. Оттуда они и решили наступать на Варшаву. Австрийцы со своей стороны подключали 1-ую Армию.
Для отражения немецкой атаки русское командование приказало выдвинуться на север 5-ой, 4-ой и 9-ой армиям, также с прусской границы на юг была переброшена 2-ая Армия. Таким образом, российские войска вдвое превышали совместные австро-германские войска: 470 тыс. солдат против 290 тыс., по орудиям – 2400 против 1600.
К 28 сентября 9-ая Германская Армия стала подходить к Варшаве, занимая левый берег Вислы. В первые дни сражений она смогла отбросить передовые отряды русских армий. Но это было только начало. Войска, подошедшие из Галиции, остановили германские части неподалеку от Варшавы. Развернулись кровопролитные бои. Заняв правобережный Ивангород, русские также сумели создать плацдарм в районе левобережного Козенице. И, несмотря на все попытки выбить их оттуда, они этот плацдарм удержали. Что было очень важно. Пока основные германские силы штурмовали подступы к Варшаве, солдаты 5-ой и 4-ой русских армий переправлялись через Вислу, чтобы затем ударить немецкой группировке во фланг. Гинденбург направил 1-ую Австрийскую Армию на ликвидирование козеницского плацдарма. Однако в 20-ых числах октября она была разбита и начала стремительно отступать на запад. Ее отсутствие привело к образованию бреши в немецком фронте. В эту брешь не замедлила воткнуться 9-ая Русская Армия. И ситуация усугублялась тем, что с севера к тому времени прибыла 2-я Русская Армия, которая тоже пошла в атаку. В итоге 27 октября Гинденбург приказал войскам остановить наступление и вернуться на исходные позиции.
Варшавско-Ивангородская Операция продолжалась около месяца. За это время русские потеряли в ожесточенных боях примерно 150 тыс. солдат убитыми, раненными и пленными. Немецкие потери были поменьше: от 70 тыс. до 125 тыс., причем большая часть пришлась на австрийцев.
Почувствовав на себе взгляд богини Удачи, русское командование захотело вторгнуться на германскую территорию. И приступило к соответствующей подготовке. Наступление было запланировано на 14 октября. Прознав про это, Гинденбург решил провести превентивную атаку с целью окружить и захватить крупный город Лодзь. Незаметно для русских он перебросил основные силы 9-ой Армии из района Ченстохова (юго-западнее Лодзя) в район Торна (северо-западнее Лодзя). По его задумке немецкие войска должны были ударить в стык между 1-ой и 2-ой российских армий, которые стояли на севере от Лодзя. 1-ая Русская Армия при этом отрезалась от основной группировки, 2-ая Армия окружалась вместе с самим городом, а затем окружалась и 5-ая Русская Армия. Дополнительные немецкие корпуса, а также 2-ая Австрийская Армия (ближе к Ченстохову) должны были сковывать российские силы, пока готовится основной удар.
Операция началась 11 ноября. И довольно удачно. Однако вскоре после первых успехов продвигаться немецким войскам стало достаточно тяжело. Хотя русские не ожидали нападения, они, тем не менее, вступали в бой и вполне успешно отражали атаки. Их фронт казался непробиваемым. Наконец, в 20-ых числах ноября Гинденбург сумел нащупать слабое место в обороне противника и прорвался в район города Лович. После этого он приступил к окружению Лодзя. Но дело в том, что русские силы в 1,5 раза превосходили немецкие (370 тыс. против 230 тыс. солдат). Так что они своими войсками сами принялись окружать 9-ую Германскую Армию. Гинденбург вынужден был выводить ее из образующегося котла на север. Бои продолжались вплоть до 29 ноября. А затем русское командование решило отступить на восток, поближе к Варшаве. Это стало неожиданностью. Но в итоге немцы все-таки заняли Лодзь 6 декабря.
Таким образом, исход сражения оказался неопределенным. Гинденбургу не удалось разгромить русскую группировку. Но он сумел занять крупный промышленный центр Лодзь. В свою очередь русское командование не смогло воспользоваться численным преимуществом для уничтожения попавшей в котел 9-ой Германской Армии, а потом и вовсе отвело войска на восток. При этом было сорвано готовившееся наступление в Германию. Удача оказалась бабой капризной и непостоянной. И взгляд ее сам по себе еще ничего не означал.
Согласно немецким данным в Лодзинской Операции 9-ая Германская Армия потеряла более 4680 человек убитыми, 10 тыс. пропавшими без вести, 20 тыс. раненными, и еще 14-20 тыс. заболевшими. Российские потери оказались выше – около 100 тыс. человек или даже 120 тыс.
После того, как русская армия отошла от Лодзя к Варшаве, активные действия на Восточном Фронте приостановились. До начала 1915 г. ничего интересного не происходило. Войска противоборствующих сторон, как и на Западном Фронте, перешли к позиционной войне. При этом русские еще в сентябре повторно вторглись в Пруссию. Они дошли до Шталлупёнена и Мазурских Озёр. Но были остановлены немцами, поэтому далеко от границы продвинуться не смогли.
Итогом всех операций на обоих фронтах стал провал германского блицкрига. Поначалу немцы одерживали победы на западе, оттесняя французов от границы и продвигаясь к Парижу. Но, потерпев поражение в Пруссии, решили перебросить туда дополнительные силы, ослабив свою западную группировку. В итоге Пруссию немцы удержали. Но зато потеряли наступательный потенциал у Парижа и были остановлены франко-британско-бельгийскими войсками. Это был поворотный момент во всей Войне. Она приобрела затяжной позиционный характер. И немцам пришлось вести бои на истощение на два фронта. Произошло именно то, чего они сами больше всего опасались. Впрочем, и союзники тоже не закладывались на долговременные кампании. Однако реальность оказалась иной. Пришлось резко наращивать производство боеприпасов, и одновременно пересматривать собственные подходы, уделяя больше внимания тяжелой артиллерии. В заключение остается сказать, что уже в 1914 г. проявилась недостаточная подготовка и слабая мотивация как австро-венгерских, так и русских солдат. И те, и другие часто сдавались в плен. Причем австро-венгерские, судя по всему, чаще. Из общих потерь Вены в 723 тыс. человек – около 300 тыс. были пленными. Русские до конца года потеряли около 1 миллиона человек, из которых пленными – те же 300 тыс. Немцы понесли на Восточном Фронте потери в 300 тыс. человек. В плен они сдавались очень редко.
Война на Море
В Континентальной Европе Германия вела войну на два фронта – на западе и на востоке. Но, откровенно говоря, у нее были и другие важные фронты противостояния с Антантой. Особое значение имели боевые действия на море, которые приводили к весьма серьезным последствиям.
Еще в 1890-ых гг. Берлин приступил к созданию мощного флота, который в перспективе способен был бы потягаться с флотом Великобритании. В итоге к 1914 г. немцы уже могли похвастаться достаточным количеством боевых кораблей и подводных лодок. Их страна по общему объему тоннажа стала второй после Британской Империи, уступая ей 40%. В Лондоне, конечно, видели угрозу, и готовились ее отражать. На случай войны уже заранее предусматривалась морская блокада немецкого побережья.
В первые дни войны состоялось несколько инцидентов с участием германских кораблей. Например, обстрел французских портов на алжирском побережье, что замедлило переброску войск из Африки. Или обстрел русских портов в Финском Заливе (причем один германский крейсер сел на мель и был уничтожен). Однако самым значимым событием стал прорыв немецких линкоров в Средиземное Море к Стамбулу.
Сближение Берлина и Порты наметилось еще в конце XIX века. Уже упоминалось о финансировании строительства железной дороги до Багдада (полностью так и не достроили). Когда же в Европе началась крупная война, Османская Империя встала на сторону Центральных Держав, несмотря на то, что в Антанте тоже хотели перетянуть ее на свою сторону. 2 августа Берлин и Турция подписали договор о создании оборонительного союза. Впрочем, союз этот был, прямо скажем, не взасос. Порта хотела вернуть себе утраченные после Балканских Войн территории, а для Германии согласие на это могло бы обернуться потерей другого потенциального партнера – Болгарии. Ну, и сами турки тоже были те еще союзнички. Буквально через пару дней после того, как на договоре подсохли чернила, Энвер-Паша (фактический глава государства) предложил аналогичный договор России против Германии. В общем, начались политические игры. Но, так или иначе, турки закрыли Босфор и Дарданеллы. А немцы отправили в Константинополь два линейных крейсера “Гёбен” и “Бреслау” под командованием адмирала Сушона.
В это время на британской Мальте стоял британский флот, который вышел в море для защиты французских войск, перебрасываемых из Алжира. Немецкие “Гёбен” и “Бреслау”, опередив англичан, утром 4 августа подошли к алжирскому побережью и открыли огонь по французским портам. После чего отправились на восток. Их повстречали английские корабли, идущие в Алжир. Но поскольку война тогда еще не была объявлена, то англичане с немцами мирно разошлись, просто постреляв друг в друга глазами. Когда во второй половине дня пришли вести об объявлении войны – англичане бросились в погоню, чтобы пострелять уже чем-нибудь потяжелее. Германские корабли 5 августа прибыли в итальянскую Мессину (на Сицилию) для пополнения запасов угля. Однако Рим неожиданно объявил о своем нейтралитете, и, несмотря на союзнические обязательства, отказался выдавать немцам уголь. В итоге тем пришлось самим перегружать его со своих торговых судов. Будь англичане порасторопнее, они бы, наверняка, догнали “Гёбен” и “Бреслау”. Но адмирал Милн, командующий основными силами мальтийского флота, ожидал немцев на западе, и вообще думал, что Турция их не пропустит. А контр-адмирал Траубридж, следуя указаниям Милна, был не слишком активен в преследовании немцев у Греции. В общем, благодаря всем этим упущениям германские линейные крейсера достигли Дарданелл и запросили у Стамбула прохода. Стамбул, притворно соблюдая нейтралитет, пропустил “Гёбен” и “Бреслау” только после того, как выбил себе дополнительные плюшки в договор. Ну, а чтобы не нарушать соглашения по проливам (во время войны боевые корабли не пропускаются) – Турция просто купила германские линейные крейсера. Типа. В действительности команда на них осталась немецкая. А позже адмирал Вильгельм Сушон и вовсе стал командующим всеми военно-морскими силами Османской Империи. Ох, уж эти турки.
Несмотря на то, что при данной погоне особо никто не пострадал (только 4 немецких кочегара умерли от взрыва котла) – прорыв крейсеров в Константинополь имел серьезные последствия. Турция получила в свое распоряжение довольно мощные боевые корабли, которые значительно усилили ее флот и позволили вступить в войну. В сентябре она закрыла Проливы даже для коммерческих судов, тем самым установив морскую блокаду в акватории Черного Моря. Главный торговый путь России был перерезан (до 90% товарооборота), что нанесло удар по экономике и в дальнейшем привело к снарядному голоду.
Кроме того, в октябре с помощью “Гёбена” и “Бреслау” турки совершили набег (ну, или наплыв) на русские порты. Причем о планировании этой операции было известно заранее. Командующий Черноморским Флотом адмирал Эбергард предлагал нанести превентивный удар, либо хотя бы заминировать Босфор с русской стороны. Однако Николай II не дал на это согласия. Лишь в конце сентября у прибрежных городов были выключены маяки, а жителям запрещено освещать дома (в целях предосторожности). Незадолго до нападения русские ВМС были приведены в состояние боевой готовности. Но, несмотря на все это, 29 октября на рассвете турецкие миноносцы практически беспрепятственно подошли к Одессе и нанесли первые удары (примерно в 3:30). Были потоплены две канонерские лодки, несколько торговых судов получили повреждения, на берегу загорелось нефтехранилище и сахарный завод, пострадала другая инфраструктура, и 33 человека погибло.
Когда пару часов спустя другие турецкие корабли в сопровождении немецкого “Гёбена” подошли к Севастополю – там уже знали о нападении на Одессу. Береговые батареи открыли мощный огонь. Поэтому турки в своем обстреле не добились большого успеха. Пострадала портовая инфраструктура, и погибло около 10-20 человек. Но при отходе эта группа повстречала русские торговые суда, а также минный заградитель “Прут” в сопровождении эсминцев. Завязалась неравная схватка. Подбитый “Прут” в итоге был затоплен капитаном, 30 человек погибло, еще 76 были взяты в плен. Один из эсминцев из-за сильных повреждений кое-как добрался до берега с несколькими погибшими и раненными. Также был захвачен пароход с углем и командой.
Около 6:30 после предупреждения местных жителей был обстрелян город Феодосия, горели склады и железнодорожное депо. Также были потоплены или захвачены гражданские и грузовые суда, находящиеся поблизости.
Однако сильнее всего от обстрела пострадал город Новороссийск. Благодаря предупреждениям османского парламентера местные власти провели эвакуацию, хотя она проходила в спешке и напоминала панику. Но в итоге больших жертв удалось избежать – лишь несколько человек было убито и еще несколько ранено. Зато материальный ущерб оказался внушительный. Загорелись цистерны с нефтепродуктами и перегонный завод (горели целую неделю). Был уничтожен железнодорожный вокзал с вагонами и станция радиотелеграфа. Затонули несколько пароходов и грузовых судов, еще несколько получили повреждения, в том числе английский “Фредерик”. Около полудня турецкие корабли взяли курс обратно на Константинополь.
И после обстрела Одессы, и после обстрела Севастополя турки оставляли за собой десятки мин. Также мины были расставлены в Керченском Проливе, на них подорвались российские торговые пароходы, погибло 9-10 человек.
Всей операцией, получившей в России название “Севастопольская Побудка”, командовал немецкий адмирал Сушон. Его цель была достигнута: 2 ноября Россия объявила Турции войну.
Пока Турция на Кавказе разворачивала свои войска против России – германский флот продолжал свои действия против Великобритании на море. И первое сражение в Тихом Океане, произошедшее у побережья Чили, стало для немцев победоносным. Немцы в этом районе оказались не просто так. Они намеревались блокировать поставки англичанам чилийской селитры, которая использовалась для производства взрывчатых веществ. Для самих англичан проблема заключалась в том, что они здесь не располагали ни угольными складами, ни радиостанциями. Соответственно, возникали трудности с логистикой (приходилось тащить с собой пароходы, груженные углем), и со связью. Английские ВМС имели базу на Фолклендских Островах, которые находятся по другую сторону Южноамериканского Континента (то есть уже в Атлантике). Но имеющихся там сил было недостаточно. Корабли были устаревшие, часть из них не могла развивать большую скорость. Тем не менее, британский контр-адмирал Кристофер Крэдок в середине октября отправился к побережью Чили. Его группа состояла из двух броненосных крейсеров и одного легкого крейсера, и еще один вспомогательный крейсер (“Отранто”), переделанный из парохода, сопровождал их, но был малопригоден для боя. Германская же эскадра включала в себя два броненосных крейсера и три легких крейсера. По общему тоннажу и артиллерийским орудиям немцы имели превосходство. Но британцы возлагали надежду на свой флагман “Гуд Хоуп”, который мог составить серьезную конкуренцию аналогичным из участвующих в сражении германским броненосным крейсерам.
Обойдя Южноамериканский Континент, Крэдок двинулся на север. Был конец октября, и в это время с севера подходила эскадра вице-адмирала Максимилиана фон Шпее. Противники шли параллельным курсом. Они стали сближаться 1 ноября недалеко от города Коронель. Битва началась около 19:00. Обстановка была более благоприятная для Шпее. Он дождался захода Солнца – кратковременного периода времени, когда сумерки еще только наступали, и в целом было светло – в такой ситуации английские корабли хорошо вырисовывались на горизонте. При этом собственная эскадра Шпее сливалась с побережьем. Первыми огонь открыли немцы, фугасными снарядами. И, судя по всему, сразу же смогли повредить приборы управления стрельбой на флагмане “Гуд Хоуп”. Также пострадал и второй английский броненосный крейсер “Монмут”. В следующие 15-20 минут германские корабли обеспечили мощный и частый огонь, плотно накрывая корабли противника. Британцы отвечали, однако в условиях сильного ветра и волнений они не могли использовать орудия на нижних казематах, т. к. их заливало водой. А “Отранто” – переделанный из парохода, и от которого все равно было мало толку – вообще свернул на запад и покинул место Сражения. Когда противники сблизились, немцы сменили снаряды на бронебойные. Их флагман “Шарнхорст” удачно попал прямо в центр британского “Гуд Хоуп” (между 2-ой и 3-ей дымовыми трубами). Произошел взрыв и начался сильный пожар. К 20:00 “Гуд Хоуп” уже затонул. Второй броненосный крейсер британцев “Монмут” к этому времени тоже пребывал не в лучшем состоянии. Вся его палуба полыхала огнем. Он получил пробоину в носу и двигался с трудом. Его завернуло вправо, и он вывалился из общего строя, пропав из виду. В 21:00 его обнаружил немецкий легкий крейсер. После предложения сдаться он начал вести по нему огонь. Несмотря на дальнейшие предложения о капитуляции, капитан “Монмута” продолжал сопротивляться. В итоге его корабль был расстрелян и затонул. Британский легкий крейсер “Глазго”, по сути, остался в одиночестве. Вести бой с превосходящим противников было бессмысленно, поэтому капитан “Глазго” увел свой корабль подальше от места Сражения.
Все моряки с обоих затонувших британских броненосных крейсеров погибли. Их число составило: 1654 человека (включая контр-адмирала Крэдока). Немецкие корабли получили некоторые повреждения, однако они не были критичными. Два моряка были ранены. Таким образом, германская эскадра одержала безупречную победу, сумев подорвать авторитет английского флота. И все же триумф длился недолго. Британцы послали к Фолклендским Островам два тяжелых линейных крейсера. И чуть больше чем через месяц состоялось новое сражение, только уже с другим исходом.
Основную ответственность за поражение при Коронеле возложили на начальника морского штаба Фредерика Стэрди. Его сняли с должности, дали ему эскадру и отправили на Фолклендские Острова исправлять ошибки. В состав его эскадры были включены линейные крейсера “Инвинсибл” и “Инфлексибл”. А линейные крейсера были самыми тяжелыми типами кораблей. По пути эскадра Стэрди была усилена еще одной эскадрой. И, таким образом, британская группировка, включала в себя два линейных крейсера (каждый из которых был тяжелее и мощнее немецких броненосных крейсеров), четыре броненосных крейсера и два легких крейсера.
В это время фон Шпее, находящийся у берегов Чили, думал, как ему поступить. Очевидно было, что за ним началась погоня. Даже Япония, присоединившаяся к Антанте, выслала к Панамскому Каналу свои корабли, чтобы преградить путь германцам. Положение Шпее усугублялось тем, что боезапас его эскадры был наполовину израсходован. Запасы угля можно было пополнить. Но на это ушло время – вплоть до первых чисел декабря. А в декабре фон Шпее почему-то решил идти к Фолклендским Островам, чтобы там чего-нибудь пограбить и кого-нибудь в плен захватить. Сообщалось, что англичане оттуда ушли. Но это сообщение оказалось ложным.
Рано утром 8 декабря (фактически на рассвете) эскадра Шпее подошла к Фолклендским Островам. Но обнаружила там превосходящую ее эскадру Стэрди. Немцы стали заворачивать на восток, и затем на юго-восток. Заметившие их англичане бросились в погоню. Германские потрепанные крейсера были не в состоянии развить большую скорость. А, между тем, “Инвинсибл” с “Инфлексибл” кроме угольных топок уже имели систему для впрыска нефти, что делало их более быстроходными. То, что они рано или поздно догонят эскадру фон Шпее – было лишь вопросом времени. И, действительно, к полудню англичане приблизились на достаточное расстояние к противнику, чтобы открыть огонь. Понимая, что сражения не избежать, фон Шпее разделил отряд: его броненосные крейсера “Шарнхорст” и “Гнейзенау” свернули на северо-восток, чтобы увлечь за собой главные силы англичан, а легкие крейсера были отправлены на юг. Британские линейные крейсера имели 305-мм орудия и могли поражать противника с дальней дистанции. В то время как орудия “Шарнхорста” и “Гнейзенау” имели калибр не больше 210 мм. Задача фон Шпее была: сократить дистанцию, чтобы нанести кораблям Стэрди хоть какой-то урон. А задача Стэрди: держать дистанцию, но при этом не слишком далекую, потому что дым от сжигаемой в топках нефти был очень густой и затруднял прицеливание. Таким образом, сражение сопровождалось постоянными маневрированиями. “Шарнхорст” и “Гнейзенау” смогли несколько раз попасть по британским линейным крейсерам, но эффект на дальней дистанции от этих попаданий был не слишком большим. А вот залпы 305-мм орудий “Инвинсибл” и “Инфлексибл” были более разрушительные. В конце концов, к 15:00 “Гнейзенау” заимел пробоину ниже ватерлинии, в результате чего стал сильно крениться. А “Шарнхорст” начал гореть. Оба немецких крейсера из-за повреждений замедлили ход. И попали под еще более плотный огонь. После 16:00 “Шарнхорст”, у которого из четырех дымовых труб осталась только одна, начал тонуть. К 16:20 корабль погиб вместе со всем экипажем, включая вице-адмирала фон Шпее. “Гнейзенау” отстреливался до 18:00. После чего лег на левый борт и перевернулся. Британцы занялись спасением экипажа.
Тем временем, легкие немецкие крейсера “Дрезден”, “Лейпциг” и “Нюрнберг” – пытались уйти от британских крейсеров “Корнуол”, “Кент” и “Глазго”, причем из британских последний был легким крейсером, а первые два были броненосными со 152-мм орудиями. У немцев же калибр был 105 мм. В этой группе противников поначалу наблюдалась похожая ситуация, что и в предыдущей. Только под конец немецкие крейсера разделились. Больше всех повезло “Дрездену” – ему удалось уйти. Произошло это из-за ошибки британского “Глазго”, который увязался не за “своим” кораблем. Вместе с “Корнуолом” он бросился преследовать “Лейпциг”. В свою очередь “Кент” погнался за “Нюрнбергом”, и так увлекся, что в топки бросали даже содранное с корабля дерево. После 17:30 “Нюрнберг” начал замедляться. И “Кент”, догнав и даже обогнав его, принялся расстреливать со средней дистанции. В 18:30 “Нюрнберг” окончательно заглох. Он получил множество повреждений, перевернулся на правый борт, и затонул к 19:30. Экипаж “Кента” занялся спасением немецких моряков, при этом сам он потерял связь из-за повреждений радиорубки. За “Лейпцигом” погоню, как уже было отмечено, осуществляли “Корнуол” и “Глазго”. После 19:00 германский крейсер от множественных попаданий загорелся. В течение следующего получаса он расстрелял весь боезапас. Но флаг не спускал. Поэтому “Корнуол” еще долго вел по нему огонь. В конце концов, капитан “Лейпцига” приступил к затоплению судна. После 20:45 британцы начали спасать немецкий экипаж.
По итогам Битвы эскадра фон Шпее была практически полностью уничтожена (за исключением “Дрездена”). Даже немецкие транспортники после пленения экипажа были затоплены британскими легкими крейсерами “Бристоль” и “Македония”. Людские потери немецкой стороны составили более 2100 убитыми и 212 пленными. У англичан было шестеро убитых и 19 раненных. Таким образом, Британский Королевский Флот восстановил свой авторитет. Причем настолько успешно, что немцы, по сути, перестали вести активные действия в Тихом Океане до самого конца войны. Все, кто в этом Тихом Океане жил (на островах, например), вздохнули с облегчением, ибо эскадра фон Шпее постоянно развлекала себя нападениями на французские колонии, бомбардировками городов и просто диверсиями, типа перерезания подводного кабеля. Теперь же Берлин вынужден был сконцентрироваться на других направлениях. В особенности на Атлантике. Именно там развернулось наиболее ожесточенное противоборство.
Построив мощный флот, Германия вознамерилась подорвать с его помощью мировую торговлю Великобритании. Для этого Берлин действовал на основных коммуникациях противника, фактически устанавливая морскую блокаду. Задача Лондона была – обезопасить собственные коммерческие пути, а также установить ответную блокаду против Берлина. Туманный Альбион по-прежнему удерживал первенство в кораблестроении как по технологиям, так и по общему объему тоннажа. Да и выучка английских моряков была на самом высоком уровне. Так что Германии нужно было придумать что-то особенное, чтобы достигнуть своих целей. Она придумала: начала в большом количестве создавать подводные лодки. В то время еще плохо понимали, как с ними бороться. А британцы не очень верили в то, что они могут быть эффективны вдали от своих баз. Однако немцы сумели совершить несколько длительных плаваний, доказав, что это вполне возможно. Таким образом, именно субмарины становились главной надеждой для Берлина. Хотя настоящая подводная война развернулась не сразу. До этого времени британцы еще успели доказать, что простыми методами их с пьедестала не подвинуть.
Первое сражение в Атлантическом Океане произошло в конце августа у побережья самой Германии – в Гельголандской Бухте (между островом Гельголанд и устьем Эльбы). В то время бельгийцы еще обороняли свою страну, и англичане решили высадить неподалеку от города Остенде дополнительный десант. Ну, а чтобы немцы не смогли этому помешать – к их берегам были посланы достаточно внушительные силы: 5 тяжелых линейных крейсеров, 8 легких крейсеров, 33 эсминца и 8 подводных лодок. Да, британцы, конечно же, строили подводные лодки. И задачей конкретно этого отряда было отвлечение германских кораблей, которые по задумке должны были погнаться за подлодками. А уж потом сзади намеревались подойти английские линейные крейсера. Начало операции было запланировано на утро 28 августа. В это время в Бухте ожидался отлив, и германские тяжелые корабли оказывались как бы запертыми в ней. Дополнительной неприятностью для немцев стал утренний туман, который осложнил работу береговой артиллерии.
Около 5:00 британские подлодки атаковали германские эсминцы, заставив их начать преследование. Однако вскоре немцы заметили британские легкие крейсера “Аретьюза” и “Фирлесс” в сопровождении миноносцев, и получили приказ вернуться обратно к Гельголанду. Британцы открыли огонь им вслед, нанеся некоторые повреждения, но затем ушли на север. На защиту германских миноносцев вышли легкие крейсера “Штеттин” и “Фрауэнлоб”. Последний схлестнулся с “Аретьюзой”. Оба получили множественные попадания, и немец предпочел ретироваться. Второй британский крейсер “Фирлесс” вместе с эсминцами свернул на запад, встретил там германский миноносец и уговорил его пойти ко дну. К этому месту вскоре подошел немецкий крейсер “Штеттин” и дополнительно обстрелял собственный тонущий миноносец. Правда, потом немецкая лодка объяснила “Штеттину”, что он нанес удар по своим же.
Впрочем, дружественный огонь нельзя было назвать исключительной немецкой особенностью. Например, в ходе наступившего небольшого перерыва из-за возникшей неразберихи британские подлодки схлестнулись со своими же крейсерами. Произошло это из-за того, что в последний момент перед стартом операции были внесены изменения в план – британский флот усиливался дополнительными кораблями, о которых не доложили командующим адмиралам. Благо удалось избежать серьезного урона.
Наконец, около полудня началась вторая и завершающая фаза Битвы. В насыщенном морском бою приняли участие старые друзья с эсминцами и подлодками, а также подошли новые претенденты на раздачу. Поскольку тяжелые германские крейсера не смогли выйти в море из-за отлива, то силы были явно не равны. Германский легкий крейсер “Майнц” получил повреждение руля, в результате чего принялся плавать по кругу, ведя при этом огонь. Торпеда с британского эсминца заставила его остановиться. Потеряв ход, он превратился в легкую мишень и был затоплен в 12:30. Затем “Штеттин” привел с собой “Кельн” и “Ариадне”. На их же собственную погибель. Оба были расстреляны британскими крейсерами, и в итоге загорелись. Оба, полыхающие, ушли в туман. Однако на “Ариадне” команда так и не смогла справиться с пожаром, поэтому вынуждена была оставить тонущий корабль. На первый взгляд, “Кельну” повезло больше. Но это только на первый. После 13:30 англичане, удовлетворившись результатом Сражения, начали отходить на запад. По пути они повстречали тот самый закопченный “Кельн”. И, пользуясь случаем, окончательно его добили. Из команды в 380 человек выжил только один кочегар.
Таким образом, немцы потерпели поражение в своей же собственной Бухте. Они потеряли три легких крейсера и один эсминец, еще два легких крейсера и три эсминца, а также тральщик были повреждены. При этом 712 моряков погибли, 149 были ранены, и еще 336 захвачены в плен. Британцы не потеряли ни одного корабля, хотя некоторые получили сильные повреждения, например, крейсер “Аретьюза” и один эсминец были взяты на буксир (но все же не утонули). Человеческие потери англичан оцениваются в 32-35 убитых и около 40-50 раненных. События у Гельголанда были тяжело восприняты как немецкой общественностью, так и самим кайзером Вильгельмом II. В Берлине пересмотрели принципы патрулирования побережья. Для этого стали использовать самолеты и траулеры со специальным оборудованием, позволяющим обнаруживать подводные лодки. Ведь британские субмарины частенько захаживали в Бухту, оставаясь там незамеченными и ведя разведку.
На самом деле подводная война только начиналась. В первых числах сентября немецкая субмарина U-21 потопила британский крейсер “Патфайндер”. Но спустя 10 дней уже английская подлодка заставила пойти ко дну германский крейсер.
А вот 22 числа произошло уже более крупное сражение. И закончилось оно катастрофой для англичан. Германская подлодка U-9 смогла потопить сразу три британских броненосных крейсера: “Абукир”, “Хог” и “Кресси”. Они находились в Северное Море и патрулировали собственное побережье. Честно говоря, они уже являлись устаревшими для этой войны. К тому же англичане скептически относились к возможностям субмарин, поэтому не предприняли необходимых мер предосторожности (например, не использовали зигзагообразное движение). Этим и воспользовались немецкие подводники. Рано утром в 06:25 они торпедировали “Абукир”. Крейсер получил пробоину в левом борту и начал крениться. Также вышла из строя энергетическая система, из-за чего перестали работать лебедки для спуска шлюпок (удалось спустить только одну). В итоге большей части экипажа пришлось прыгать в воду. Несмотря на то, что командир “Абукира” запретил другим кораблям приближаться к нему, крейсер “Хог” выдвинулся на помощь. За 300 метров до своего тонущего товарища он спустил шлюпки. Они взяли на борт людей и вернулись обратно, и в этот момент был торпедирован уже сам “Хог”. Произошел сильный взрыв, и броненосный крейсер достаточно быстро затонул. Хотя перед этим успел сделать залп по U-9, которая показалась на поверхности. Вскоре к месту битвы стал подходить “Кресси”. Его команда заметила перископ немецкой подлодки, обстреляла его, и даже попыталась осуществить таран. Поскольку вражеская субмарина ушла под воду, то британцы решили, что их атака была успешна. Однако это оказалось не так. В 07:20 “Кресси” получил первую торпеду в правый бок. Повреждения были не критичными. Поэтому бой продолжился. U-9 описала полукруг и ударила с новой позиции. Второе попадание оказалось смертельным. Британский крейсер начал тонуть. Таким образом, за один час германская субмарина потопила три английских корабля. Погибло 1459 человек. Сами немцы никаких потерь не понесли.
Спасением английских моряков первоначально занимались голландские пароходы и британские рыболовные суда. Только потом к месту сражения подошли английские военные корабли. U-9 к тому времени уже удалилась, чтобы не искушать судьбу. Весьма неудачное для англичан сражение шокировало общественность в Лондоне и вызвало бурю негодования. Королевский Флот вынужден был пересмотреть свое отношение к субмаринам. Новая морская война меняла тактику боя и даже философию. Подлодки оказались подлым оружием, позволяющим наносить удар исподтишка, что противоречило самим принципам, которых придерживались английские моряки. Пришлось вырабатывать новые методы борьбы с недооцененным ранее врагом.
Тем временем, германские подводники не обременяли себя какими-либо правилами. Берлин стремился одержать победу любой ценой. В октябре 1914 г. немецкая субмарина впервые потопила коммерческий пароход. Тем самым был дан старт настоящей подводной войне. Пока еще ограниченной. Но в скором времени она перерастет в неограниченную. Германские подлодки будут топить любые суда, нанося таким образом огромный ущерб мировой торговле. Фактически для установления морской блокады начинали применяться новые инструменты. И само эмбарго выходило на новый уровень. Теперь ни одно судно не могло чувствовать себя в безопасности. Угроза таилась в глубине океана и оставалась невидимой на горизонте. Это, безусловно, затрудняло коммерческую деятельность и приводило к росту сырьевых котировок. Причем в данном случае этот фактор в ценообразовании был довольно мощным, его наличие совершенно очевидно.
Подводные лодки стали для немцев удобным оружием. Выступать против английского флота в открытую было опасно. Поэтому в Берлине старались не проводить крупных операций, а действовали малыми группами. Например, 3 ноября немцы совершили наплыв на британский город Ярмут. Эскадра под командованием адмирала Франца фон Хиппера состояла из восьми крейсеров: трех линейных, одного броненосного и четырех легких. Пока линейные обстреливали побережье, легкие – устанавливали минные заграждения. Сам обстрел большого вреда не принес. Английские миноносцы вступили в неравный бой и устроили дымовую завесу. После постановки мин эскадра удалилась. Но одна из британских подлодок, выведшая из гавани, чтобы броситься в погоню – подорвалась на установленной мине и затонула. Из экипажа 21 человек погиб, еще трое получили ранения. Впрочем, немцев скоро настигла карма. Они возвращались в город Вильгельмсхафен в бухту Ядебузен. И поскольку был сильный туман – то решили переночевать в Шиллиг Роадс (напротив островов Minsener Oog). Вместе с ними затесался броненосный крейсер “Йорк”, по некоторым данным он участвовал в наплыве в качестве разведчика. Так уж получилось, что он подорвался на германских же минных заграждениях и затонул на мелководье, оказавшись главным неудачником сезона. Погибло 235 человек.
16 декабря те же самые немецкие корабли, только усиленные еще одним линейным крейсером и 18 эсминцами, совершили наплыв на северо-восточное побережье Англии. Командовал все тот же адмирал фон Хиппер. Были обстреляны портовые города Скарборо, Уитби и Хартлпул. А также расставлены минные заграждения. В этот раз довольно существенно пострадала гражданская инфраструктура и береговые батареи. Впрочем, британская артиллерия тоже смогла нанести определенные повреждения германским кораблям. Примечательно то, что во время этой операции к берегам Великобритании отправилась часть Флота Открытого Моря – это основные силы немецкого флота, защищающие Германию. ФОМ являлся аналогом британского Великого Флота, но составлял всего лишь 65% от его мощности. Поэтому в прямое столкновение с ним старался не вступать. Задача конкретно тех кораблей, которые вышли 16 декабря, была следующая: выманить небольшие соединения британцев, чтобы разгромить, обладая численным превосходством. Это почти удалось. Британская эскадра, бросившаяся в погоню за кораблями фон Хиппера, сильно уступала 22 линкорам Флота Открытого Моря. Она натолкнулась на них и вступила с ними в неравный бой. Однако командующий ФОМ адмирал Фридрих фон Ингеноль испугался дальнейшего развития событий. Он подумал, что встретил авангард Великого Флота. И поэтому решил вернуться обратно в Германию. Тем более что кайзер Вильгельм II не одобрял подобные рискованные действия. На самом же деле силы Ингеноля могли бы легко разгромить британскую эскадру и этим уравнять свои возможности в Северном Море. Но Ингеноль ушел на базу, не желая искушать судьбу. Таким образом, немцы упустили свой шанс, который мог бы изменить ход войны. Что же касается Великобритании, то общественное мнение было сильно возмущено обстрелом городов. Пострадали как литейные и газовые заводы с железнодорожными развязками, так и дома обычных жителей, а также церкви. Среди погибших было 122 гражданских лица и только 8 военных, еще 443 гражданских и 14 военных получили ранения. Потери среди немецких моряков составили 8 убитых и 12 раненных.
Помимо действий на основных направлениях германский флот занимался также террором британских и французских колоний. Например, 20 сентября бронепалубный крейсер “Кёнигсберг” обстрелял побережье Занзибара, где стоял на ремонте английский бронепалубный крейсер “Пегасус”. Последний был потоплен, погибли 32 моряка и еще 45 солдат на берегу. Спустя два дня уже другой германский крейсер “Эмден” обстрелял побережье Мадраса (южная Индия). Загорелись нефтехранилища английской компании, одно торговое судно утонуло, погибло 5 человек. “Эмден” вообще был настоящей головной болью для стран Антанты. В сентябре он потопил более 15 британских торговых судов, еще несколько захватил и разграбил, в том числе пополнив свои запасы угля. А в октябре он приплыл к берегам Малайзии. Там у острова Пенанг стоял на ремонте российский бронепалубный крейсер “Жемчуг”. Казалось бы: где Россия и где Пенанг. На самом деле это англичане уговорили русских моряков поучаствовать в патрулировании Индийского Океана. К 28 октября германский “Эмден” подошел к Пенангу. Его капитан Карл фон Мюллер являлся квалифицированным троллем 89 уровня. Он установил на палубе фальшивую четвертую дымовую трубу и сменил раскраску, став таким образом похожим на британский крейсер. Это позволило ему подойди к острову на близкое расстояние. Охраняющие миноносцы не заметили угрозы. А “Эмден” в какой-то момент поднял немецкий флаг и начал обстрел “Жемчуга”. Российский крейсер взорвался и затонул, из экипажа погибло 85 человек. После этого фон Мюллер переключился на французский миноносец. Он также был потоплен, а из его команды погибло 45 человек. Сделав свое черное дело, “Эмден” уплыл. Вообще, за три месяца рейдерства он успел натворить немало бед. Одних только торговых судов было им потоплено 28 штук. Союзники занялись его поисками, в которых участвовали даже японцы. В первых числах ноября он прибыл на Кокосовые Острова, находящиеся в южной части Индийского Океана. Там стояла радиовышка, которая помогала членам Антанты держать в этом районе между собою связь. Ее персонал, уже наслышанный про фальшивую четвертую трубу, сумел распознать угрозу и подал сигнал тревоги перед тем, как высадился немецкий десант. Сигнал принял австралийский конвой, направляющийся в Египет. Из него был выделен один крейсер “Сидней” для того, чтобы разобраться с наглым “Эмденом”. Австралийский крейсер был быстрее и мощнее по вооружению. Когда он подошел к Кокосовым Островам – завязалась битва. Несмотря на то, что немец первым открыл огонь, “Сидней” вскоре сумел определить выгодную для себя дистанцию и своими 152-мм орудиями начал расстреливать “Эмден”, который не мог отвечать эффективно 105-мм пушками. Германский крейсер получил множество попаданий, и, в конце концов, капитан фон Мюллер был вынужден выбросить свой корабль на мель, чтобы тот не утонул. К тому времени из его команды уже погибло более 130 человек. Мюллер в итоге сдался австралийскому крейсеру. А, тем временем, немецкий десант, высадившийся на Кокосовых Островах, фактически был оставлен на произвол судьбы. Он реквизировал шхуну, пришвартованную в лагуне, и самостоятельно добрался до Суматры.
Балканский Театр
В Первой Мировой Войне не только Германии, но и многим другим крупным державам пришлось вести боевые действия на нескольких фронтах. Австро-Венгрия не стала исключением. На востоке она сражалась с Россией, а на юго-западе – с Сербией и Черногорией. Собственно, сама война и началась с артиллерийского обстрела Белграда.
Стоит заметить, что материальное обеспечение воюющих стран было не на высоте. Сербия не имела собственной военной промышленности. Однако имела в друзьях Россию, которая поставляла братскому народу вооружение. То же самое можно было сказать и о Черногории – младшем союзнике Сербии. При этом ни та, ни другая не имели авиации и флота. В свою очередь Австро-Венгрия обладала собственной военной промышленностью. Но снарядов для артиллерии было недостаточно. Зато Габсбургская Монархия могла похвастаться флотом, который сразу же заблокировал небольшую прибрежную зону Черногории. В то же время преимуществом Сербии и Черногории были горные орудия, которые на этом ТВД являлись незаменимыми. Они позволяли войскам долгое время оборонять свои позиции.
Особенностью всего Балканского региона является сложная топография: гористая местность и наличие множества рек. Сербская столица стоит на великом Дунае (можно даже сказать, за Дунаем), ширина которого достигает 1500-1900 м. Форсировать его было сложно. Поэтому венские генералы решили наступать с запада – со стороны Боснии и Герцеговины, по границе которой протекает река Дрина. Австрийские войска насчитывали здесь около 200 тыс. человек. Они пересекли границу 12 августа и вскоре заняли город Шабац. Сербская армия вынуждена была держать резервы против албанских и македонских повстанцев, которых поддерживала Болгария. А для отражения непосредственно австрийской угрозы было выделено 180 тыс. человек. Когда эти силы стали подходить к Шабацу – развернулись упорные и кровопролитные бои. В течение нескольких дней сербы сумели переломить ситуацию в свою пользу и отбросили противника обратно на запад – к приграничному городу Лозница. Это сражение получило название Битва при Цере (по наименованию горы). После 20 августа на некоторых участках фронта отступление австрийских войск стало превращаться в паническое бегство. К концу месяца габсбургские солдаты снова оказались у границы. Они потеряли до 45 тыс. человек убитыми, раненными и пленными (до 10 тыс. только убитыми). Потери сербов составили 18-20 тыс. (из которых 5000 было убито). Удалось захватить немало амуниции, оружия и съестных припасов.
Эта победа для стран Антанты имела большое значение. Австрия теперь вынуждена была отвлекать значительные силы на Балканский фронт, что облегчало положение как России, так и ее союзников. От Белграда стали требовать провести контрнаступление, чтобы Вена как можно больше распылила свои резервы. Но сербская армия была не готова. Тем не менее, просьбу Петербурга в Белграде выполнили. В первых числах сентября сербы приступили к форсированию Савы с целью перехода северной границы и дальнейшей атаки на Сремску-Митровицу (тогда в составе Австро-Венгрии). Но имперские войска быстро среагировали. Во время самой переправы из-за разрушения моста сербы понесли большие потери. А к 10 числу их атака и вовсе была остановлена. Лишившись 7000 боеспособных солдат, сербы отошли обратно на юг.
Отступление сербов было продиктовано и тем, что на западной границе начали новое наступление австрийские войска. Только теперь они пересекали Дрину южнее – по направлению на Вальево. Сербы перебросили сюда свои войска с севера. И началась еще более упорная и кровопролитная битва, чем при Цере. В течение нескольких дней велось сражение за Мачков Камень – вершину горы Ягодня. В конце концов, имперцам удалось закрепиться на холмах поблизости. И, хотя их продвижение было остановлено, однако они заняли удобные позиции, с которых принялись вести артиллерийский обстрел. Сама битва при реке Дрина закончилась большими потерями с обеих сторон: около 40 тыс. у австрийцев и около 30 тыс. у сербов. В дальнейшем в течение последующих полутора месяцев ситуация складывалась не в пользу православных славян. Они испытывали острую нехватку снарядов. Тогда как имперцы насыпали им с холмов по полной программе. К тому же сербы имели проблемы с качественной обувью. Сами они ходили в традиционных постолах – то есть, по сути, в плетенных кожаных лаптях. Австрийцы же красовались в водонепроницаемых сапогах, что было намного практичнее, особенно во время войны. В итоге в первых числах ноября сербы вынуждены были отойти на восток. Имперцы заняли город Вальево и принялись там бесчинствовать.
На севере границы сербы продолжали держать оборону. В частности, было остановлено австро-венгерское наступление в районе Смедерево (восточнее Белграда). Но с запада имперцы все-таки прорывали православный фронт. В середине ноября они уже взяли Лазаревац. А к концу месяца ситуация для сербов стала критической. 2-ая и 3-я армии вынуждены были отступать еще дальше на восток. Генерал Живоин Мишич подготовил план, в соответствии с которым нужно было оставить Белград. Начальник Генштаба Радомир Путник сперва не одобрил эту идею. Но потом смирился с реальностью. Сербская столица была сдана 30 ноября. Но австро-венгры сильно устали в результате прошедших наступлений. Да к тому же оголили свой фланг перед 1-ой Сербской Армией, которая закрепилась у Горни-Милановац. Все это время сербы отдыхали и готовилась к контрнаступлению, усиливая свою боеспособность. Из России и Франции прибыло вооружение, припасы, обмундирование и продовольствие. Также русские помогли потопить на Дунае имперские броненосцы.
3 декабря 1-ая Сербская Армия пошла в атаку. Это застало имперские войска врасплох. Они в это время проводили парады в Белграде и совершенно не думали, что отступивший противник способен на какие-то активные действия. Поскольку они растянули свои пути снабжения и оставили тяжелую артиллерию вдали от линии фронта – то их корпуса на правом фланге постепенно были смяты и уничтожены. Впрочем, австрийцы довольно упорно сопротивлялись, поэтому само сражение приняло весьма ожесточенный характер. И все же 1-ая Сербская Армия сумела перемолоть силы оккупантов, после чего в масштабное наступление пошли 2-ая и 3-я армии. К середине декабря австрийскому командованию стало понятно, что Белград удержать не получится. Имперцы были выдавлены обратно за пределы границ. И 15 декабря сербы снова заняли собственную столицу.
Само сражение получило название: Колубарская Битва, поскольку проходило на рубежах реки Колубара. Бои были очень кровопролитными и масштабными. Австрийцы потеряли 30 тыс. человек убитыми, более 170 тыс. раненными, и еще около 70 тыс. взятыми в плен. Сербы захватили большое количество оружия и боеприпасов. При этом сами также понесли немалые потери в живой силе: 22 тыс. человек убитыми, 91 тыс. раненными, и еще 19 тыс. пропавшими без вести. Это был серьезный удар по населению маленькой страны. Однако удачный исход Колубарской Битвы имел долгосрочные политические последствия. В самый разгар боев – 7 декабря – была принята Нишская Декларация. Она провозглашала объединение всех южных славян – в том числе хорватов и словенов, которые находились под юрисдикцией Вены. Это создавало дополнительное напряжение в и так уже шатающейся Австро-Венгерской Империи.
Вообще, победа сербов была впечатляющей. Да и к тому же стратегически значимой. Австро-венгерская армия на этом Театре войны была фактически разгромлена. Активные боевые действия прекратились на несколько месяцев. Это расстроило планы Берлина и Вены, усугубив ситуацию на Восточном, российском, фронте. Кроме того, не удалось пробить коридор к Османской Империи, которая уже точила ятаганы и чистила свои ружья.
Турецкий Театр
Османская Империя вступила в войну ослабленной и дряхлой. Ее общее состояние было даже, наверное, похуже, чем у Австро-Венгрии. Титульная турецкая нация, исповедующая ислам, не имела гибкости и очень плохо справлялась с недовольством других наций, особенно тех, которые исповедовали иные религии. Из приблизительно 28-миллионного населения 19 миллионов составляли именно турки. Далее: около 5 миллионов – арабы, около 1,5 миллионов – курды, около 1,5 миллионов – греки, 1,3-2,1 миллиона – армяне. И все эти не титульные нации ненавидели титульную турецкую, желая получить от нее независимость. У них были очень большие шансы на успех. Османская Империя была истощена предыдущими Балканскими Войнами и войной с Италией. Ее финансы распевали грустные песни. А в бюджете зияла черная дыра, стремящаяся проложить себе путь в параллельную вселенную. Турецкая промышленность была развита слабо. Железные дороги имелись, но их протяженность была явно недостаточной для обеспечения нормальной логистики. Более-менее неплохо работала телеграфная сеть. Но одними телеграфными столбами в войне не победить. Порта надеялась на Германию, что та поможет ей вернуть утраченные до 1914 г. территории. При этом единственным существенным преимуществом самой Турции было ее географическое расположение – она могла заблокировать проливы Босфор и Дарданеллы, чтобы сильно осложнить жизнь России. В итоге именно это она и сделала.
На Турецком Театре ключевым фронтом являлась Анатолия, то есть полуостров Малая Азия – собственно, турецкая земля. На северо-востоке – на границе с Россией и Персией – отдельно выделялся Кавказский Фронт. Для действий на нем Стамбул собрал 150-190 тыс. солдат. У России здесь было около 170 тыс. человек. С большим энтузиазмом в ряды русской армии записывались армянские добровольцы, особенно из числа радикальных армянских партий (Дашнакцутюн и Гнчак). Армяне по понятным причинам (столетия геноцида) ничего кроме злобы к туркам не испытывали. Это было взаимно. Поэтому в плен они друг друга не брали, ну, разве что только для пыток и казней. Россия не только принимала в армию армянских добровольцев, но также поставляла контрабандное оружие тем армянам, которые продолжали находиться на турецкой территории. Армянам, как малому народу, со всех сторон окруженному врагами, нужен был защитник. И такого защитника они, естественно, видели в лице России. Их идеалом был выход из состава Османской Империи и попадание под российский протекторат. Но Россия была с этим весьма осторожна, и никаких гарантий не давала. Армяне, скорее, оставались для нее разменной монетой и дополнительным инструментом, с помощью которого можно было окончательно развалить Турцию. Еще одним таким инструментом был ассирийский народ. Его представители проживали недалеко от армян – вблизи границы с Персией. Как и армяне, они являлись христианами. Россия наобещала им с три короба. Однако выполнить в итоге смогла не очень много.
Основной целью России в войне с Османской Империей был захват приграничных территорий и получение доступа к проливам Босфор-Дарданеллы. В идеале – взятие под свой контроль Константинополя (губа не дура). Основная цель Турции, соответственно: не допустить потерю территорий и вообще постараться выжить, а в идеале – вернуть утраченное за последние десятилетия.
Особенностью Кавказского Фронта, как всегда, была сложная гористая местность, изобилующая опасными переходами, что не позволяло использовать крупные скопления войск.
Русская армия 2 ноября первой перешла границу, но произошло это уже после того, как турецкий флот обстрелял российские порты (29 октября). Так называемой Кеприкейской (Кепрюкейской) Операцией командовал генерал Георгий Берхман. Солдаты наступали широким фронтом – от города Олту (Ольты) до г. Арарат. Поначалу их продвижение было успешным. Уже к 7 ноября был захвачен Кеприкей и населенные пункты поблизости. Но затем османы смогли остановить русских и даже сами пошли в контратаку. В ходе тяжелых рукопашных (штыковых) боев солдаты генерала Берхмана вынуждены были отойти назад. Удержать за собой они смогли только позиции у Кеприкея. Но к 11 ноября после очередной турецкой атаки, проведенной под прикрытием тумана, русским пришлось оставить и этот город. Наступило некоторое затишье. Тем временем на левом фланге войска генерала Берхмана захватили Баязет и несколько важных перевалов. Но вскоре османы осуществили вторжение в прибрежные области Российской Империи, сумев отбросить русские войска к городу Батуми. А в декабре генералу Берхману пришлось отойти обратно к приграничным Олту и Сарыкамыш. Таким образом, турки вернули себе свои территории. Исход всей Операции оказался безрезультатным. То есть русские по большому счету потерпели поражение. Сами они понесли потери примерно в 7 тыс. человек убитыми и раненными. Османы потеряли в два раза больше. При этом они столкнулись с массовым дезертирством армянских солдат, а, ступив на территорию непосредственно Армении, занялись грабежами и убийствами мирных жителей.
Успешное отражение российского вторжения воодушевило турецкую армию, особенно – фактического главу государства Энвер-Пашу (Мехмед V был проходным султаном). Энвер-Паша разработал дерзкий план: пока 11-корпус демонстративно отвлекал на себя силы в районе Сарыкамыша, 9-ый и 10-ый корпуса должны были обойти Олту, после чего захватить прибрежный Батуми, Ардаган (юго-восточнее) и Карс. Затем предполагалось дальнейшее продвижение на Тифлис – центр российского Кавказа. Хасан Иззет – командующий 3-ей Армией, в состав которой входили указанные корпуса – заметил, что этот план больше подходит для летнего сезона. А зимой горные дороги становились труднопроходимыми, снег был слишком глубокий, температура опускалась до минус 20 градусов, поэтому необходимо было особое внимание уделить снабжению, в том числе позаботиться о теплой одежде и продовольствии. Сам он в реализацию данного плана не верил. Поэтому Энвер-Паша приехал и снял его с должности, а вместе с ним перелопатил и остальной командирский состав. 3-ю Армию он решил возглавить лично.
Что касается российской стороны, то она готовилась к обороне. Удержание Сарыкамыша было крайне важно, т. к. отступление в горы могло обернуться для солдат смертью от голода и переохлаждения. Но как раз на этом направлении было сконцентрировано больше всего войск – до 65 тыс. человек. В районе Олту – 8 тыс. Еще 2 тысячи у Ардагана. И 14 тысяч в крепости Карс. Таким образом, Олту действительно был слабым местом, к тому же турки при наступлении на него могли получить превосходство в артиллерии. Всего османская армия собрала для этой операции больше 90 тыс. солдат.
Во второй половине декабря российская разведка, в том числе армянские лазутчики, заметили передвижение турецких солдат. Командование не обращало на это внимания, полагая, что проведение наступательных операций на Кавказе зимой было бы явным безумием. Но именно это безумие и происходило под носом у российского командования. В конце концов, генерал Истомин отвел основные силы на границу, оставив на османской территории только арьергард. 22 числа турки начали полноценное наступление. В ходе боев арьергард попал в окружение. Но главные силы российской армии сумели отойти в Ардаган. В то же время из-за плохих погодных условий и глубокого снежного покрова турки продвигались довольно медленно, по пути теряя множество людей. Генерал Берхман попробовал провести собственное наступление на Кеприкей, но быстро стало понятно, что погода одинаково сурова к обеим враждующим сторонам. Так или иначе, османская армия подходила к Сарыкамышу. С этим нужно было что-то делать. Однако город оказался плохо подготовлен к обороне: основные силы находились за его пределами, поэтому требовалось время, чтобы перебросить их для обороны. В принципе, скорость продвижения турецких солдат в сочетании с их общей утомленностью позволяла организовать защиту Сарыкамышу. Но генерал Мышлаевский – командующий Кавказской Армией – запаниковал, уехал в Тифлис, и начал отдавать противоречивые приказы. Может, его поведение и было обосновано – к 27 декабря турки перерезали железную дорогу на Карс. Тем не менее, как показали дальнейшие события, оборона города была более чем возможной. 29 декабря турки захватили вокзал и стали подбираться к казармам. Завязалось кровопролитное сражение. И тут выяснилось, что османская армия дошла до Сарыкамыша только наполовину. Другая половина замерзла по дороге. Переход был действительно очень тяжелый. В итоге русские войска сумели сдержать натиск ослабленного врага. К утру 30 декабря османы были выбиты из города.
Но Сарыкамыш в планах Энвер-Паши был всего лишь отвлекающим маневром. Основные же силы турецкой армии, пройдя на север, должны были завладеть прибрежным Батуми, а также не прибрежными Ардаганом и Карсом. Благодаря восстанию мусульманского населения часть Батумской Области действительно была захвачена. Также османы, находящиеся под командованием немецкого майора Штанке, смогли занять Ардаган. Однако счастье турецкое было недолгим. Уже в январе генерал Юденич сумел провести перегруппировку, а также пополнил войска резервами. После чего пошел в контрнаступление. Турки не смогли захватить Сарыкамыш, и вынуждены были отступить. Восстановилось ж/д сообщение с Карсом. А отряды генерала Истомина, усиленные казаками, незаметно подошли к Ардагану и нанесли османам неожиданное поражение, выдавив их из города. В итоге вся Операция Энвер-Паши оказалась провалена. Главной причиной ее неудачи, судя по всему, стала недостаточная подготовка и плохая организация при крайне рискованных условиях. Турки понесли потери в 25 тыс. человек убитыми и раненными, около 30 тыс. просто замерзли, и еще 15 тыс. попали в плен. Русские потеряли до 20 тыс. убитыми и раненными, еще 6-7 тыс. замерзли и умерли от болезней.
Одержав победу на Кавказском Фронте в 1914 г., русская армия получила возможность для нового вторжения. Это сыграло на руку странам Антанты. Ведь основные турецкие силы были скованы в Малой Азии.
Османская Империя контролировала весьма обширные территории. Поэтому война с ней предполагала боевые действия и на других фронтах. В частности: в Персии, в современном Ираке, в современной Саудовской Аравии и Палестине. В 1914 г. масштабных столкновений на этих направлениях не было. Но были не масштабные. Осенью англичане стали высаживаться в Персидском Заливе на побережье реки Шатт-эль-Араб, чтобы взять под контроль нефтяные промыслы Ирака. Дополнительным обоснованием была и необходимость защитить нефтяные промыслы в Персии, в которой англичане работали по соглашению с шахом (Англо-Персидская Нефтяная Компания). Турецкое правительство считало этот фронт второстепенным и не уделяло ему много внимания. Но реагировать, конечно, все равно пришлось. Первой британской операцией в османском Ираке (Месопотамии) стало взятие города Фао 6 ноября. Основную боевую силу составляли индийские корпуса. После занятия Фао началось продвижение вверх по течению Шатт-эль-Араб. Следующей остановкой стал город Басра, который англичане захватили 10 ноября. Их потери составили 350-500 человек против 1000-1300 османских солдат. После некоторой передышки британцы пошли дальше по направлению к Эль-Курне (Курне). Деревня стоит на месте слияния Тигра и Евфрата. Турки как раз собирались ее укрепить, но опоздали, англосаксы оказались проворнее. К тому моменту, когда турки подошли – то есть 3 декабря – англичане уже сидели в вырытых окопах. Кроме того, им помогали военные корабли, поднявшиеся по Шатт-эль-Арабу. В общем, у османов шансов не было. Они и сами это понимали. Постреляв немного, более 1000 из них решили сдаться в плен, а остальные ушли на северо-запад к Эль-Куту. Собственно, на этом активные действия в 1914 г. закончились.
Тем временем, германская и турецкая разведки думали над тем, как поднять в мусульманских странах восстание против англичан. Первый взгляд ложился на Персию, где англичане контролировали нефтяные месторождения (на юге), а русские просто ошивались ради прикола (на севере). В декабре турки вторглись в Персидский Азербайджан, оккупировав города Тебриз и Урмия.
Также в Стамбуле решили, что неплохо было бы занять британский Египет и взять под контроль Суэцкий Канал, чтобы отрезать Лондону путь в богатую (но голодную) Индию. Для этих целей была выделена дивизия численностью в 25 тыс. солдат и направлена на Синайский Полуостров. Однако бои в Египте развернулись уже в 1915 г.
Другие Театры
Поскольку в Первой Мировой Войне между собой дрались колониальные державы, то боевые действия велись также и в странах колониях. Великобритания сильно выделялась среди прочих метрополий, т. к. являлась самой могущественной. С одной стороны ей приходилось контролировать множество заморских территорий. С другой стороны она обладала самым большим флотом, что позволяло ей легко блокировать снабжение скромных колониальных владений Германии. Проще всего это было сделать в Африке – там немецкие земли были окружены французскими и британскими. Маленькое Того было завоевано первым – еще в августе. Следующей должна была стать Намибия. В нее собирались вторгнуться войска из британского Южно-Африканского Союза. Но некоторые буры, помнящие о недавней войне с англичанами и о помощи немцев – неожиданно подняли восстание. В общей сложности в нем приняли участие 12 тысяч человек. Им противостояла 32-тысячная пробританская армия, в которой тоже было много буров. Таким образом, восставшие имели весьма ограниченную поддержку. Но нервы Лондону потрепать умудрились. Бунт, переросший в открытое вооруженное противостояние, начался в сентябре. И продолжался до февраля 1915-го. Его лидером был генерал Мани Мариц, желавший независимости бывших бурских земель. Мятеж потерпел полное поражение. На этом фоне пробное вторжение в германскую Намибию силами 237 человек закономерно обернулось провалом. Другой западноафриканской страной, подконтрольной Берлину, являлся Камерун. Он был окружен с трех сторон французскими и британскими владениями, да еще и содержал внутри себя анклав – Испанскую Гвинею. Союзники вторглись в него практически сразу, как была объявлена война. С востока зашли французы. А с севера нагрянули британцы. Немецкие войска здесь были в меньшинстве, их численность не превышала 1860 человек. Но они готовы были сопротивляться. В нескольких случаях они даже умудрились успешно отбить атаки англичан. В сентябре они заминировали устье реки Вури, на которой стоит крупнейший камерунский город-порт Дуала. Также были затоплены корабли. Но Союзники все равно смогли расчистить себе проход и высадить на берег десант. К концу года все побережье Камеруна было оккупировано французами и англичанами. А на севере страны несколько городов были взяты в осаду.
В восточной Африке немцы контролировали территорию современных Танзании, Бурунди и Руанды. Германские и британские офицеры надеялись, что им не придется воевать друг с другом. В 1880-ых гг. даже соответствующее соглашение было подписано. Откровенно говоря, и войск на Черном Континенте у противоборствующих сторон было немного, к тому же вооружены они были старым оружием. Но Великая Война всколыхнула весь мир. Столкновения колониальным администрациям избежать не удалось. В августе британские корабли обстреляли Дар-эс-Салам – крупный портовый город в Танзании. Немцы восприняли это как нарушение мира. Офицеры выработали стратегию для максимального отвлечения сил противника от Европейского Театра. С этой целью они стали совершать набеги на британские колонии, захватывая города и устраивая диверсии на железных дорогах. Их план сработал: англичане послали в Африку дополнительные войска из Индии. Также они приступили к блокаде побережья. А в первых числах ноября британцы решили захватить немецкий портовый город Танга. Для этих целей был высажен 8-тысячный экспедиционный корпус (солдаты – индусы). Однако немцы успели хорошо подготовиться к атаке. И хотя их вместе с негритянскими бойцами было около 1000 человек, но их позиции были замаскированы. Как только британцы стали подходить – зазвучали пулеметные очереди. Бой выдался весьма ожесточенный. Отдельные индийские полки смогли войти в город и захватить административные здания. Но дальше продвинуться им не удалось. Вскоре к битве присоединились агрессивные пчелы, которые начали кусать всех подряд, не обращая внимания на цвет кожи, национальность или погоны. Это окончательно дезорганизовало индийские полки. Положение британцев еще больше усугубилось, когда к немцам прибыли подкрепления. Индусы несли большие потери и принялись бежать с поля боя. К концу дня командующий Артур Эйткен приказал отходить. В итоге Сражение за Тангу обернулось для англичан катастрофой. Они потеряли 360 человек убитыми и 487 раненными, еще 148 пропали без вести. Потери германской стороны были следующие: убиты 16 этнических немцев и 55 негров-аскари, еще 76 ранено.
Также осенью 1914 г. британские моряки начали преследование немецкого крейсера “Кёнигсберг”, который уже натворил делов у побережья Африки (в частности, потопил британский крейсер “Пегасус”). Англичане загнали германский корабль в дельту танзанийский реки Руфиджи. Там он скрывался, маскируя свои мачты за стволами деревьев. Британцам удалось поджечь вспомогательный транспортник. Но для того, чтобы обнаружить позицию самого крейсера, пришлось отправлять в разведку самолеты, пять из которых разбились. Из-за блокады побережья немецкая команда страдала от голода, что особенно остро стало проявляться весной 1915 г. На помощь было отправлено грузовое судно, которое немцы захватили у тех же англичан и подняли над ним датский флаг. Но англичан это не провело, судно они германское (точнее, даже свое собственное) перехватили и уничтожили. В конце концов, летом 1915 г. англичане пригнали с Мальты два монитора (легких броненосца), сняли с них лишние детали и отправили в дельту Руфиджи под прикрытием авиации. Они имели низкую осадку, поэтому не боялись сесть на мель. Эти мониторы расстреляли “Кёнигсберг” и потопили его. Выжившие члены команды сняли с него орудия и увезли их вглубь Танзании. Эти орудия использовались в дальнейшей обороне. А моряки превратились в наземных пехотинцев и артиллеристов (такая вот судьба).
Пока британцы осаждали германскую Танзанию, японцы щемили немцев в Азии и Тихом Океане. Вообще, у Токио причин для открытого конфликта с Берлином было не так чтобы очень много. Разве что обида за дипломатическое вмешательство в войну с Китаем в 1895 г., когда европейские державы (в том числе Германия) не позволили японцам отжать у Поднебесной слишком много земли. Видимо, на это и упирали в Лондоне, подталкивая Токио к вступлению в Антанту. Причем в самом Лондоне мнения на этот счет были различны. Отдельные министры не хотели видеть усиления Японии в ТихоОкеанском Регионе. Но Уинстон Черчилль – Первый Лорд Адмиралтейства – считал, что лучше обезопасить Тихий Океан от немцев. Для самой Японии открывались возможности по захвату германской колонии Циндао в Китае и различных островов. Но война была не сильно популярна в японском обществе, поэтому правительство о ней не распространялось. Тем не менее, 23 августа Токио объявил Германии войну. Через два дня, особо ничем не рискуя, войну Японии объявила Австро-Венгрия. Вся эта вакханалия достигнет своего апогея в 1917 г., когда самой Австро-Венгрии войну объявят Куба и Панама. Как бы там ни было, но отдельным бенефициаром вступления Японии в Антанту стала Россия, которая смогла без опасений перебросить войска с Дальнего Востока на основной – Европейский – театр. К тому же она получила возможность у Японии кое-чего полезного закупить (например, оружие). Правда, ей это, в конечном счете, все равно не помогло.
Что же касается боевых действий, то, пожалуй, самым крупным сражением для Японии в ПМВ была осада Циндао – германской колонии в Китае. Она представляла собой город на Шаньдунском Полуострове. Немцы превратили этот город в крепость. Японская операция по его захвату началась в конце августа. В течение сентября японцы осуществляли высадку на территории нейтрального Китая. И 25 сентября пошли в атаку. Немцы активно сопротивлялись. Но их сил было недостаточно – менее пяти тысяч человек. В то время как японские войска насчитывали 30 тысяч, и еще было 1500 британцев. В итоге верноподданные кайзера вынуждены были оставить первую линию обороны. Однако они успели подбить британский броненосец. Также несколько японских кораблей подорвалось на мине. А 18 октября германский миноносец, пытаясь прорвать блокаду, потопил японский крейсер “Такачихо”, на котором погиб 271 моряк. Правда, капитан самого миноносца из-за нехватки топлива вынужден был выбросить его на берег и оставить. 31 октября японцы начали массированный обстрел города. При этом впервые применялась морская авиация, которая использовалась в качестве бомбардировщиков. Самолеты взлетали с авианосцев, их в то время еще называли авиаматками. После недели бомбардировок немцы подняли белый флаг. Их потери составили почти 500 человек, из которых около 200 были убиты. Японцы потеряли 3000 человек, еще 74 человека потеряли британцы. В последующие недели при разминировании побережья и территории погибло еще несколько человек.
Другой японской операцией по отжатию германских колоний стала оккупация Микронезии. Но она прошла абсолютно бескровно. На островах, расположенных в Тихом Океане и находящихся под юрисдикцией Берлина, проживало около 16 тыс. человек. Причем 15,5 тысяч из них были туземцами. Немцев – только 259. Понятно, что никакого сопротивления оказать они не могли. В Токио поначалу думали, что придется сражаться с немецкими кораблями, которые периодически появлялись в данном районе. Но даже этого не произошло. В сентябре 1914 г. немецкие корабли ушли далеко на восток. И в октябре японцы принялись осторожненько прибирать острова к своим рукам. Осторожненько – потому что боялись реакции Великобритании. Но Великобритании было не до этого. Правда, напрягались американцы. Они недавно взяли под свой контроль Филиппины. И японские корабли, находящиеся в Микронезии, потенциально могли создать проблемы проплывающим американским кораблям. Однако прямого недовольства из Вашингтона не последовало. Поэтому 14 октября японцы аккуратненько забрали себе последний остров и выпили победоносную чашку саке. Никто не пострадал (ну, почти). Англичане опомнились только в ноябре. Австралия и Новая Зеландия забеспокоились по поводу японской экспансии. Лондон попросил Токио отдать острова австралийцам. Но Токио упёрся. Поэтому отношения между союзниками стали слегка шероховатыми.
Впрочем, они и так были не слишком гладкими. Еще раньше – 29 августа – Новая Зеландия, действуя на опережение, при поддержке Великобритании захватила Германское Самоа. Основной целью была радиостанция, которая обеспечивала связь немецким кораблям в Восточно-Азиатском Регионе. Оккупация также прошла бескровно.
Вот где пришлось немного пострелять – так это в Папуа-Новая Гвинея и на островах, расположенных северо-восточнее. Но это уже была австралийская операция. Сражение у Бита Пака нельзя назвать очень уж масштабным. В нем участвовало несколько сотен человек. У немцев погиб 31 солдат и 11 было ранено (причем среди этнических немцев только 1 погиб и 1 был ранен). У австралийцев 7 погибло и 5 было ранено. Немцы отступили в город Тома, где их скудные силы обстреливала такая же скудная австралийская артиллерия. И, в конце концов, поданные кайзера вынуждены были сдаться. Произошло это в сентябре. И все опять же из-за радиостанции.
Таким образом, Берлин в первые же месяцы войны потерял практически все свои колонии, либо, как минимум, утратил с ними связь. Наверное, уже тогда было понятно, что надеяться Германии особо не на что. Среди Центральных Держав она являлась самым сильным игроком. Но, несмотря на некоторые тактические успехи, стратегически она попала в ловушку и увязла в длительной кровопролитной войне, вытянуть которую в итоге не смогла.
Боевые Действия. 1915 г.
Основной Театр
Еще в конце 1914 г. на Западном Фронте стало устанавливаться затишье. Где-то сражения еще продолжались. Но в целом стороны переходили к так называемой позиционной войне, при этом интенсивность боев снижалась. В последних числах декабря на многих участках и вовсе смолкали орудия. По случаю празднования Рождества солдаты враждующих армий принялись устанавливать на поле ёлки и распевать церковные песни. Немцы поздравляли британцев на ломанном английском языке, а британцы поздравляли своих противников на ломанном немецком (хорошо известно, что если пьяный немец пытается разговаривать на английском, то у него получается нидерландский). Кое-где солдаты вылезали из окопов, заходили на нейтральную территорию и начинали братания, обмениваясь друг с другом папиросами, напитками, едой и сувенирами. Высшие офицеры старались этому всячески препятствовать. Они приказывали открывать артиллерийский и пулеметный огонь по линии разграничения, проводили перегруппировку и частую ротацию, создавали специальные патрули. Но братания продолжались. А на следующий год в них стали участвовать даже французы. Простые солдаты уже не очень понимали цели войны.
Первые месяцы 1915 года также не отличались на Западном Фронте какой-либо активностью. Боевые действия, по сути, зашли в тупик, и требовалась переоценка ситуации. Вплоть до апреля происходили только кратковременные стычки, наблюдались артиллерийские дуэли, и организовывались отдельные небольшие операции. В феврале-марте в области Шампань французы провели наступление, но продвинулись лишь на несколько сотен метров, хотя потеряли до 50 тысяч человек. В первой половине марта британцы силами четырех дивизий по собственной инициативе провели наступление на участке между Аррасом и Лиллем. Артподготовку обеспечивали французы. Сама атака началась 7 числа. Поначалу удалось прорвать первую линию обороны противника и освободить деревню Нев-Шапель. Но затем немцы стали подтягивать резервы, что позволило им удержать основные позиции. Англичане потеряли около 13 тысяч убитыми и раненными. Из-за нехватки боеприпасов к 13 марта наступление пришлось остановить. Потери немцев составили 8-10 тыс. человек.
По-настоящему интересные события во Франции, как уже было замечено, станут происходить лишь в апреле. Зато на Восточном Фронте кровопролитные сражения начались с самого января. Из-за неудавшегося блицкрига в Берлине решили полностью поменять стратегию. Теперь всё внимание уделялось русскому направлению. Предполагалось, что с российской армией можно разобраться достаточно быстро, после чего приступить уже к основной задаче (удар по Франции). Для этого с Западного Фронта перебрасывались дополнительные войска. План состоял в том, чтобы двумя ударами – из Пруссии с севера и из Галиции с юга – взять в тиски варшавский выступ и срезать его.
На Юго-Восточном Фронте российское командование еще с конца 1914 г. само планировало вторжение в Венгрию через Карпатские Горы. Участие в Операции принимали 3-я, 8-ая и 9-ая армии. Главную задачу должна была выполнить центральная 8-ая Армия генерала Брусилова. Она располагалась в районе австрийской крепости Перемышль, которую еще с сентября удерживали австрийцы. Но в 1915 г. не слишком боеспособная австро-венгерская армия была усилена германскими войсками. Немцы и австрийцы собирались наступать на Самбор и Стрый, по направлению на Львов. И когда 20 января началась русская Операция – через пару дней в атаку пошли германо-австрийские войска, таким образом, по всему фронту развернулись встречные бои. Их особенностью было то, что они проходили в горах, что существенно осложняло действия для обеих сторон. Противники периодически захватывали позиции друг друга, но через какое-то время вынуждены были отступать обратно. Фронт постоянно сдвигался. Наконец, в феврале австрийцы (5-ая Армия) сумели перехватить инициативу на левом фланге Брусилова и оттеснили 9-ую Русскую Армию к Днестру, захватив при этом город Черновцы. В марте германо-австрийцы стали давить по центру на 8-ую Русскую Армию. Целью было деблокирование осажденной крепости Перемышль. Сражения отличались упорством и ожесточенностью. Но 22 числа Перемышль пал. Высвободившиеся русские войска попробовали прорвать оборону противника, чтобы ударить по 5-ой Австрийской Армии. Но все ограничилось тактическими успехами. Разбить противника у Днестра так и не удалось. Черновцы вместе со всей Буковиной остались за немцами. К апрелю стало очевидным полное истощение сил противоборствующих сторон. В российской армии начался снарядный голод. В итоге командующий фронтом генерал Иванов остановил наступление. Сражение, длившееся больше трех месяцев, по сути, оказалось безрезультатным. Тактическим успехом русских было лишь то, что они сумели захватить Перемышль, не позволив провести деблокирование крепости. Но это было временно. Уже скоро начнется Великое Отступление. Потери же за время проведения Карпатской Операции были огромнейшими. Для русских они составили миллион человек, включая больных и обмороженных, которых было довольно много. Судя по всему, сюда входят и потери от осады Перемышля. Австрийцы и немцы в целом потеряли около 800 тысяч бойцов.
Тем временем, на севере Пауль фон Гинденбург спланировал свою операцию. Она предполагала удар силами 8-ой и 10-ой армий по 10-ой Русской Армии, находящейся в районе города Август. Варшавский выступ, таким образом, срезался под самый корень. Но сперва в районе выпуклости этого выступа было проведено отвлекающее наступление, которое должно было сковать русские части и ввести в заблуждение командование. Бои развернулись у города Болимов – расположенного между Лодзем и Варшавой. 16 января немцы начали с мощного артиллерийского обстрела, после чего пошли в атаку. Но сражение имело свою интересную особенность. Судя по всему, впервые в истории здесь было применено химическое оружие – ксилилбромид. Это был слезоточивый газ, который имел весьма ограниченную эффективность, поскольку при низких температурах он кристаллизовался. Тем не менее, в разные дни было проведено несколько атак с его использованием. Например, 31 января под его воздействие попали многие русские солдаты, в результате чего потеряли сознание и впали в кому. Командование решило, что они были убиты, и некоторых из них приказало закопать. Оставшиеся лежать на земле стали постепенно просыпаться, и на следующий день приползли в места расположения своих войск, чем вызвали большое удивление. На поле, накануне подвергшееся немецкому обстрелу, были посланы разведчики. Они обнаружили других спящих солдат, которые также начинали приходить в чувства. Бои в районе Болимова продолжались до конца февраля. Общие русские потери составили почти 100 тысяч человек (из которых более 17 тысяч было убито). Немцы потеряли примерно 17,5 тысяч (4630 убитыми).
На главном же направлении – в районе Августова – наступление немцев началось 7 февраля. Первой в атаку с запада пошла 8-ая Армия. А на следующий день с северо-запада к ней присоединилась и 10-ая Армия. На правом фланге 10-ой Русской Армии командующий 3-им Корпусом генерал Еланчич стал отступать, в результате чего обнажились позиции соседнего 20-го Корпуса генерала Булгакова. Он попал в окружение, и в течение 10 дней вынужден был сражаться с превосходящим противником. Солдаты неоднократно предпринимали ожесточенные попытки прорыва. Но выйти из котла удалось немногим. Большинство бойцов 20-го Корпуса после израсходования припасов сдались в плен. Тем не менее, продвижение немцев было приторможено. Это позволило основным войскам отойти на новые рубежи обороны. В итоге Пауль фон Гинденбург добился тактической победы. Однако его главной задачей было стремительное окружение и последующее уничтожение всей 10-ой Русской Армии. А вот этого сделать не удалось. Немцы потеряли по одним данным около 20 тысяч человек (1385 убитыми), по другим данным – около 32 тысяч (6,5 тысяч убитыми). Потери русских по одним данным не превысили 56 тысяч человек, а по другим данным (немецким) составили более 135 тысяч, из которых около 7,5 тысяч было убито, и 80-100 тысяч попало в плен.
Чтобы повысить свои шансы на разгром 10-ой Русской Армии, немцы провели отвлекающую атаку юго-западнее – в районе Прасныша. Здесь они не ставили себе задачу что-либо захватить или кого-нибудь уничтожить. Их целью было удержание фронта и сковывание российских сил. У русских в этом районе располагались 1-ая и 12-ая армии. Они хотели снова вторгнуться в Восточную Пруссию. Но исполнению этих желаний помешала тяжелая ситуация под Августовым. Тем не менее, 17 февраля российские войска начали наступление на Дробин. Однако немцы сумели его остановить. А 20 февраля они сами пошли в атаку в районе Прасныша. В соответствии с планом они обошли город с двух сторон и вторглись в него с юга. К 24 февраля в ходе тяжелых боев Прасныш был захвачен. В плен попало 10 тысяч русских солдат. Но затем 1-ая и 12-ая армии были усилены подошедшими резервами. И пока немцы продвигались дальше на юг, в район Пултуска – российские войска перешли в контрнаступление и стали заходить противнику в тыл. Немцы вынуждены были отступать обратно. И уже 26 февраля начались новые бои за Прасныш, только на этот раз штурм вели русские солдаты. Через два дня германские части были выведены из города. Местами их отход носил неорганизованный характер, и тысячи солдат попали в плен. Однако бросившиеся в погоню русские войска понесли потери в арьергардных боях и не смогли организовать качественного преследования. Основная масса немцев ушла на север, где и заняла оборону. В начале марта 10-ая Русская Армия в районе Августова и Сувалки (чуть севернее) перешла в контрнаступление, при поддержке 1-ой и 12-ой армий она сумела вытеснить противника обратно в Пруссию. В итоге планы германского командования по срезанию варшавского выступа не реализовались. По крайней мере, пока. Всего за время проведения Праснышской Операции русские войска потеряли 72 тысячи солдат убитыми, раненными и пленными. Немцы в свою очередь потеряли около 60 тысяч. По другим данным без учета мартовских боев потери сторон составили 34,5 тысячи и 26 тысяч, соответственно.
Раз уж не получилось достичь больших результатов на севере, то немцы с австрийцами решили попытать счастье на юге. Местом для прорыва фронта был выбран город Горлице, расположенный практически у подножья Карпат. Здесь находилась 3-я Русская Армия (219 тыс. человек). Но основные силы были заняты штурмом австрийских позиций на горных перевалах. Немцы перебросили сюда из Франции свою 11-ую Армию (в помощь 4-ой Австрийской). Командовал ею генерал Август фон Маккензен. Его войска уступали противнику по числу пулеметов и средних орудий. Но зато превосходство в тяжелых орудиях было огромным: 159 против 12. Что касается живой силы, то количество бойцов было сопоставимо. Однако немцы были хорошо обеспечены. В случае захвата самого города и последующего наступление на Львов русские в горах отрезались от баз снабжения. В общем, направление было выбрано удачное. И оно себя оправдало.
Немцы сформировали на сравнительно небольшом 35-километровом участке территории ударный кулак. В то время как войска генерала Радко-Дмитриева были растянуты на фронте в 600 км. Такое положение было опасным. И разведка предупреждала о возможности прорыва. Но главнокомандующий генерал Иванов проигнорировал все сообщения. Вообще, германская армия хорошо подготовилась к операции. Она имела полевую телефонную связь, оборудование для которой перемещалось вместе с войсками. С ее помощью можно было корректировать артиллерийский огонь. Также для этих целей использовалось большое количество самолетов. Незаменимыми были и различные инженерные инструменты. Русские же всего этого не имели в достаточном количестве. А снарядный голод, с которым они столкнулись (10 выстрелов на одну батарею в день), заставлял экономить боеприпасы.
Немецкое наступление началось 2 мая после мощной 13-часовой артподготовки. От разрыва снарядов тяжелых орудий дрожала земля. Сам город Горлице был практически полностью разрушен. Однако продвижение пехоты в первые дни составило всего несколько километров, что выглядело как ограниченный успех. И все же на участке прорыва австро-германские силы вдвое превосходили российские. То есть они могли банально продавить оборону противника числом. Главнокомандующий Юго-Западным Фронтом генерал Иванов думал, что это всего лишь отвлекающий маневр, поэтому подкреплений генералу Радко-Дмитриеву не выделил. А, между тем, район Горлице и был основным местом прорыва. Немцы продолжали напирать. И к концу недели, несмотря на сопротивление, продвинулись уже на 40 км. А к 15 мая русские, неся тяжелые потери, вынуждены были отступить на новую линию обороны – к Сандомиру, Перемышлю и Стрыю. Крепость Перемышль, еще в марте захваченная русскими, опять попала в осаду. Немцы подвезли свои тяжелые гаубицы и начали бомбардировку. И к 3 июня они снова смогли занять полуразрушенную многострадальную крепость. Затем они продолжили наступление. Следующей целью был город Львов, который представлял собой крупный логистический узел. Он также подвергся обстрелам. Для работы артиллерии активно применялась аэроразведка. Немцы провели несколько атак. И 22 июня они вошли во Львов. Их не остановили даже французские бронированные автомобили. Таким образом, германская армия постепенно заходила в глубокий тыл к российским частям, которые продолжали еще удерживать фронт. Это грозило окружением. В конце концов, генералу Иванову пришлось начать общее стратегическое отступление до линии Холм и Броды. Русские войска, потратившие столько сил и средств на штурм Карпатских горных перевалов, теперь полностью уходили из Галиции. Их потери по разным данным составили от 40 до 100 тысяч убитыми, ранеными и пленными. Немцы потеряли от 16 до 40 тысяч человек.
Великое Отступление
С Горлицким Прорывом фактически произошло обрушение русского фронта. По сути, на Востоке началось свое Великое Отступление. Что было, безусловно, крупным успехом Пауля фон Гинденбурга. Германская армия не просто ликвидировала Варшавский Выступ. Она погнала из Польши всю российскую армию. Последняя, конечно, пыталась хоть сколько-нибудь затормозить продвижение противника, вступая в кровопролитные арьергардные бои. В ряде случаев даже предпринимались штыковые контратаки. Но немцы наступали слишком быстро и невероятно дерзко. Только русские отряды окапывались восточнее оставленных накануне позиций – как вскоре их уже накрывала вражеская артиллерия, после чего приходилось отступать еще восточнее. При этом образовался разрыв между 3-ей и 8-ой армиями, что привело к разделению фронта на две своеобразные группы: 3-я и 4-ая армии на севере, а на юге 8-ая, 11-ая и 9-ая армии. Германские военачальники не замедлили воспользоваться случаем и решили вклиниться прямо в разрыв. Чтобы его закрыть, пришлось даже создавать группу генерала Олохова, которая позже превратилась в 13-ую Армию. Между тем, стремительное продвижение врага заставляло российское командование отдавать общие приказы, которые в конкретных случаях оказывались губительными для солдат. Например, приказ немедленно оставить вырытые в поле траншеи в дневное время и в непосредственной близости от противника приводил к тому, что по отступающей пехоте немцы открывали мощный пулеметный и артиллерийский огонь, выкашивая много людей. Тем не менее, различные тактические приемы позволяли сдержать натиск австро-германских войск. Например, 26-29 июня в сражении у Томашева (северо-западнее Раввы-Русской) применялись английские бронеавтомобили, снабженные пулеметами. Благодаря своей мобильности они могли занимать удобные и неприглядные позиции, а когда подходила вражеская пехота или кавалерия – открывали по ней огонь. Когда же враг начинал бомбардировку этих позиций, то бронеавтомобили быстро разъезжались по другим местам. Подобные действия замедляли продвижение немцев и помогали русской пехоте выиграть драгоценное время.
При любом отступлении крайне важно организовать дисциплинированный отход собственных войск. В этом отношении особую значимость представляла линия Люблин-Холм-Ковель. Города выстраивались в единую цепочку, будучи связанными железнодорожными путями, а последний – Ковель – еще и являлся крупным железнодорожным узлом. Наступление на этом стратегическом направлении вели 4-ая Австрийская Армия и 11-ая Германская Армия. Чуть западнее – по руслу реки Висла – против них держали оборону 3-я и 4-ая российские армии. Но в первых числах июля противник уже оказался на восточном берегу. Немцы отбросили русских от города Красник и разгромили один из пехотных батальонов. Они стремительно подходили к Люблину с юга. И российское командование спешно перебрасывало войска. Положение 3-ей и 4-ой армий было незавидное. Суммарный некомплект составлял 180 тыс. человек. Отступающая пехота была сильно утомлена. Солдаты тысячами попадали в плен. Притормозить продвижение немцев смогла атака недавно созданной 13-ой Русской Армии, которая ударила в правый фланг 11-ой Германской Армии. Также неоценимую помощь оказывали разъезжающие бронеавтомобили, заставляя пулеметными очередями прятаться врага в укрытиях. Но броневики тоже несли потери: 3 июля один был полностью уничтожен артиллерийским снарядом, еще один получил серьезное повреждение башни.
Противник продолжал подбираться к Люблину. И тогда было принято решение нанести из засады мощный фланговый удар: движущаяся колонна неприятеля по большей части пропускалась вперед, а затем подвергалась нападению. Операцией руководил генерал Веселовский. Его люди расположились на северо-западе от Красника. И утром 5 июля они пошли в атаку, сразу же оттянув на себя крупные вражеские соединения. Ожесточенные бои продолжались до полуночи. Австрийцы понесли серьезные потери. В своем неистовстве они бросались к русским солдатам в окопы и переходили в рукопашную, хватаясь руками за штыки винтовок. Всего их полегло около 2000 тысяч человек. Примерно столько же было пленено. Однако сражение на этом не закончилось, на следующий день оно возобновилось. Австрийцы продолжали штурмовать русские окопы и несли еще большие потери. На помощь к Веселовскому прибывали другие русские отряды, в том числе, из самого Люблина, и наносили удары по противнику с востока. Тем не менее, к концу второго дня российское контрнаступление, несмотря на хорошее начало, стало постепенно выдыхаться. Атаки продолжались ночью 7 июля, и шли весь день до захода Солнца. Русские смогли захватить австрийские и германские окопы. Но эти успехи были локальными. Уже чувствовалось истощение сил. Командиры отдельных полков под разными предлогами затягивали с исполнением приказов. Интересно, что немцы во время боя несколько раз выбрасывали белый флаг и поднимали руки вверх, сигнализируя о сдаче, а затем вероломно открывали огонь. По этой причине солдаты Веселовского отказались брать их в плен, а всех разоруженных закалывали штыками. Как бы там ни было, но полностью прорвать оборону противника на шоссе Красник-Люблин не получилось. Австрийцы и германцы бросали в бой новые резервы. К 8 июля уже окончательно стало понятно, что всех задач операции выполнить не удастся. Веселовский закрепился на ключевых высотах, и на этом сражение завершилось. Оно получило название – Таневское. Его главным результатом стало отвлечение сил генерала Маккензена и приостановка его продвижения на Люблин, что дало время подготовиться русским войскам к организованному отступлению. Немцы с австрийцами понесли потери в 10-15 тыс. человек убитыми и ранеными, и еще 23 тыс. пленными. Русские, вероятно, потеряли более 10 тыс. человек.
В связи с атаками Веселовского германское командование взяло паузу в наступлении на Люблин. Российское командование, тем временем, думало, как сберечь живую силу и планировало из Польши эвакуацию производственных мощностей. Это было непростой задачей. Никогда прежде российская власть не сталкивалась с необходимостью перевозить на другую территорию целые заводы и предприятия. Никаких заранее составленных планов для этого не имелось. Поэтому все приходилось делать впервые и наугад, что закономерно приводило к большим проблемам. Между тем, положение русской армии, несмотря на локальные успехи, действительно было тяжелым. С юга на север наступали австрийцы и войска немецкого генерала Маккензена, а с севера на юг – через реку Нарев по направлению на Седлец – наступала группа генерала фон Гальвица. Таким образом, русские могли оказаться в гигантском котле. Войска должны были как можно скорее уходить на восток. Но в любом случае отступать без арьергардных боев было нельзя. Поэтому 17 июля юго-западнее Люблина – у города Красностав – развернулось новое крупное сражение. Только теперь с обеих сторон схлестнулись не простые войска, а гвардейские. Они хорошо знали свое дело. Немцы начали с привычной уже бомбардировки, после чего приступили к штурму. Русские, выдержав обстрелы, занялись отражением пехотных атак, при этом сами открыли довольно точный артиллерийский огонь. Элитные части 11-ой Германской Армии наступали волнами на протяжении всего дня. В ряде случаев им даже удавалось прорваться в окопы к русским солдатам, где завязывалась рукопашная схватка. Но полностью проломить оборону у них так и не получилось. А после 16:00 русские (конкретно – Преображенский Полк) сами пошли в контратаку. Их остановил только шквальный огонь германской артиллерии. На левом фланге оборону держал Измайловский Полк – он защищал переправу через болота. Немцы смогли его серьезно потрепать, уничтожив несколько пулеметных гнезд. За весь день он выдержал более 10 пехотных атак, подкрепленных артиллерийским обстрелом. Но позиции свои не сдал. К утру 18 июля ему была дана команда отступать – на правом фланге от преображенцев произошел прорыв. Русские отошли чуть севернее. И в последующие четыре дня оборону у деревень Стенжица, Винцентов, Крупец держали гвардейские Московский и Гренадерский полки. После мощной бомбардировки они потеряли до половины своего состава. Однако пехотные атаки врага по большей части сумели отразить. А утром 23 июля они сами пошли в наступление. Завязалась рукопашная, в которой русские одержали победу и захватили в плен до 800 немцев. Но в ходе всех этих кровопролитных боев гвардия оказалась истощена и обескровлена. Один только Гренадерский Полк потерял до 80% бойцов (более 3000 чел.). К тому же немцы, применив свою излюбленную тактику, смогли прорваться в стыки между корпусами. Поэтому 3-я Русская Армия вынуждена была отступать. В сражении под Красноставом германские войска потеряли более 6 тыс. человек убитыми, 28,5 тыс. ранеными и около 25 тыс. заболевшими. Российские потери также были высоки, они измерялись тысячами.
Тем временем, 15 июля юго-восточнее Холма (между Холмом и Луцком) у населенного пункта Грубешов развернулась другая битва. Недавно созданная 13-ая Русская Армия, прикрывая фланги 3-ей Армии, сдерживала натиск 1-ой Австрийской Армии и германской Бугской Армии (вышла из 11-ой Германской Армии, командующий – генерал фон Лизинген). Это сражение было важным, поскольку немцы своим движением на Владимир-Волынский намеревались перерезать российским войскам путь к отступлению и окружить их. Бои традиционно начались утром с работы германской артиллерии. Русские войска располагались перед Грубешовым и Грабовцом (западнее). Бугская Армия фон Лизингена стояла на юге в треугольнике Тышовцы-Лащев-Телятин. А на ее правом фланге – в районе Ошова – находилась 1-ая Австрийская Армия. После того, как немецкие гаубицы отгромыхали – в атаку пошла пехота. Бои были ожесточенные. Русские солдаты стойко держали оборону и отвечали контрударами. Но через пару дней австрийцы все-таки начали захватывать на своем участке населенные пункты и расширять фронт на восток. Германцы также теснили по центру российские войска, смогли занять Теребинец и Вербковице, и наступали на Метелин. Им пришлось перебегать открытое поле, по которому из-за леса стреляла русская артиллерия. В итоге многие немцы так и остались лежать на этом поле. Их первая атака была отбита. А прорвавшимся отрядам ударили во фланг. В то же время и русские несли тяжелые потери, отдельные полки после дневных боев сокращались в своих размерах наполовину. Большого успеха немцы смогли достичь в районе Берестье и Заборце (рядом с Грабовцом). Там у русских гвардейских частей были хорошо укрепленные позиции: окопы с бревенчатыми стенами и крышами, глубокие пулеметные гнезда, перед которыми была протянута колючая проволока. Германская артиллерия накрывала эти окопы ураганным огнем, и для многих солдат они становились могилой. Но когда затем подходила вражеская пехота – уцелевшие бойцы вылезали, забрасывали противника гранатами и расстреливали из винтовок в упор. После этого по окопам снова начинала работать артиллерия. Русским нечем было ответить – снарядов катастрофически не хватало. Поэтому каждую новую пехотную атаку немцев отбивать становилось все сложнее и сложнее. Потери с обеих сторон были огромные. Сражение продолжалось около недели. Наконец, 3-я Русская Армия начала общее отступление из Красностава. А за ней пришлось отойти и 13-ой Армии. После этого немцы смогли занять разрушенные окопы у Грабовца и сам Грубешов. А затем начали переправляться через реку Буг. Они смогли взять в плен, по меньшей мере, 21400 человек.
Общее отступление из Польши продолжалось. На севере – в Прибалтике – также шла эвакуация. Задача арьергардных боев полностью ложилась на плечи 4-ой, 3-ей и недавно созданной 13-ой армий. 4-ая Армия прикрывала направление Козенице – Ивангород – Люблин. 3-ая Армия прикрывала направление Холм – Брест-Литовск. 13-ая Армия, соответственно, прикрывала направление Ковель – Владимир-Волынский (юго-западнее Ковеля). Русские войска своими контратаками пытались перехватить инициативу. Но эти контратаки в основном были штыковыми и ружейными. Противник же имел существенное преимущество в артиллерии. Тактикой огневого вала он просто перемалывал русских солдат. В конце июля на новых рубежах обороны, начались прорывы. 29 числа немцы смогли перерезать железнодорожное сообщение Люблин-Холм. Сам Люблин пришлось оставить 30 числа. Защита Ивангорода больше не имела смысла, так что из него ушли 4 августа. Одновременно с этим пошла атака противника и по направлению на Холм. Германские гаубицы разрушили русские окопы, смешав солдат с землей. Уцелевшие бойцы в нарушение приказа оставили свои позиции. И лишь немногие догадались уничтожить за собой мосты через речки. Впрочем, у самого города гвардейские части Преображенского и Семеновского полков долгое время держали оборону. Они сумели нанести врагу значительный урон прежде, чем получили приказ об отступлении. Отходили сквозь пылающие деревни и пшеничные поля. Вместе с ними шли гражданские беженцы. Тяжелые бои развернулись за Терятин (юго-восточнее Холма). Там русские вели концентрированный огонь по туче наступающих в лощине германских солдат. Своих снарядов по такому случаю не пожалели даже артиллеристы. Потери немцев были очень большие. Тем не менее, 13-ая Русская Армия не смогла сдержать натиск противника. Здесь прорыв произошел 1 августа. Город Холм в итоге был оставлен. А железная дорога на Ковель была перерезана. Отход пехоты прикрывали в том числе казаки, которые рубили врага шашками и бросались к нему в только что занятые им траншеи. Подобными дерзкими атаками они сумели затормозить германцев на несколько дней. Но общее положение дел это спасти уже не могло. Ни казацкая удаль, ни самоотверженность гвардейцев не была способна остановить немецкое продвижение. Тяжелая артиллерия не только равняла с землей окопы, но и лес превращала в выжженное поле с выкорчеванными деревьями. Солдаты из-за постоянного отступления не высыпались и были сильно утомлены. Ночью они под покровом темноты уходили на новые позиции, а днем копали траншеи, которые вскоре снова приходилось оставлять. И, тем не менее, главная задача Люблин-Холмской Операции была выполнена: врагу не удалось организовать гигантский котел. Как только Варшава была эвакуирована – основная масса войск отошла на восток. То есть полного разгрома не произошло. Но русская армия потеряла огромное количество бойцов. Точные подсчеты затруднительны. Однако только на одном Люблин-Холмском направлении потери, вероятно, измеряются десятками тысяч. А что касается промышленности – то спасти удалось лишь малую часть предприятий, большинство заводов было оставлено врагу.
Тем временем, на севере Польше тоже шли тяжелые бои. Ведь, как уже было указано, немцы пытались взять русскую армию в огромный котел. Это было похоже на своеобразные клещи. И северная клешня, пересекая реку Нарев, двигалась на Седлец. Таков был план высшего командования. Но у Гинденбурга был свой собственный план. В соответствии с ним удар наносился намного севернее – через Ковно и Вильно по направлению на Минск. То есть генерал пытался совершить глубокий охват правого русского фланга с выходом в тыл. Это было странно, и даже, наверное, опасно. И, тем не менее, Гинденбург решил реализовать свой замысел. Поэтому на севере было два мощных удара: один по плану верховного командования в Берлине, другой – по плану Гинденбурга. Для осуществления первого плана (через Нарев на Седлец) у немцев имелись все ресурсы. Количество войск значительно превосходило силы противника: 177 тыс. человек при 1256 орудиях (затем возросло до 1382) – против 107 тыс. при 377 орудиях. 1-ая Русская Армия держала оборону против 12-ой Германской Армии. Но российские дивизии были недоукомплектованы, а для некоторых солдат не хватало оружия. Немцы намеревались прорвать фронт в районе Прасныша, сам город при этом обойдя с двух сторон. Подготовка была на высшем уровне. Например, были созданы специальные штурмовые плацдармы – окопы выдвигались поближе к позициям противника, чтобы сократить время на перебежку. Также применялась аэроразведка.
Наступление началось 13 июля. Мощнейшая бомбардировка в первые часы привела к потере до 30% русских войск. Снаряды тяжелой артиллерии сносили брустверы траншей и буквально закапывали солдат в земле. Затем пошла атака пехоты. Немцы имели для штурма все необходимые инструменты. Русские ожесточенно оборонялись. На их позициях завязывались штыковые бои. Но их фронт в итоге был прорван, и они вынуждены были отступить на следующую линию обороны. Некоторые отряды оказались в окружении. Немцы заявили, что захватили в плен около 5 тыс. человек. Общие потери русских были большими: отдельные полки лишились до 70% своего состава. Тем не менее, панического бегства не произошло. Германская армия продвинулась примерно на 10 км. На следующий день сражения продолжились. Немцы постепенно отодвигали позиции 1-ой Армии на юго-восток, обходя город Прасныш. Русские сопротивлялись, но вынуждены были отступать. Артиллерия в виду нехватки снарядов старалась бить максимально точно, и это действительно иногда получалось. Также в контратаки бросалась кавалерия. Например, 16 июля для ликвидации очередного прорыва в бой были посланы казаки, которые просто смели передовые линии немецкой пехоты и захватили артиллерийские батареи. Правда, потом они попали под мощный пулеметный огонь, кавалерийская бригада потеряла 40% своего состава. Но продвижение германской армии замедлилось, что позволило русским отвести в тыл наиболее пострадавшие части.
На следующий день – 17 июля – командование 1-ой Армии постепенно стало переправлять войска за реку Нарев, несмотря на подошедшие резервы. Немцы к тому времени начали испытывать некоторые трудности с подвозом боеприпасов. От идеи сразу форсировать Нарев они отказались. Поэтому 18 числа их наступление, по сути, было остановлено. В целом они добились успеха, продвинувшись на 30 км и перемолов значительную часть живой силы противника. Однако стремительного и глубокого прорыва у них не получилось. Окружение русской армии оказалось трудновыполнимой задачей. Потери немцев по официальным данным составили 10 тыс. человек, а согласно некоторым русским источникам – до 40 тыс. (убитые, раненые, пленные, пропавшие). Русские потеряли также около 40 тыс. человек или больше.
После Праснышской Операции (третьей по счету) во второй половине июля началась Наревская Операция. Русская 1-ая Армия окопалась на обоих берегах реки на линии Вышегрод-Новогеоргиевск-Пултуск-Рожан. Справа ей помогала 12-ая Русская Армия. В свою очередь командующий 12-ой Германской Армией генерал фон Гальвиц решил нанести основной удар в районе Пултуска и Рожана. Ему на левом фланге помогала 8-ая Германская Армия, часть которой была задействована в осаде крепости Осовец (значительно северо-восточнее). 23 июля началась борьба за плацдармы. Задачей немцев было – переправиться через реку и закрепиться на противоположном берегу. Задачей русских – помешать. Здесь германская артиллерия была как нельзя кстати. Она уничтожала позиции противника и прикрывала собственную пехоту, форсировавшую водную преграду. Усиленные бомбардировки дали свои результаты. Немцы смогли переправиться выше и ниже Рожана. Также у них, несмотря на всё противодействие, получилось завоевать плацдарм в районе Пултуска. А 8-ая Германская Армия на участке Остроленка-Ломжа (северо-восточнее Рожана) свою переправу вообще подготавливала несколько дней, перепахивая тяжелой артиллерией русские позиции. В общем, форсированию Нарева германскими войсками воспрепятствовать не удалось. Разве что в районе Новогеоргиевска, где стояла крепость, противоположный берег оказался действительно неприступным. Но зато по направлению Рожан-Остров переправившиеся немцы с 27 июля начали мощное наступление. Они ударили как раз в стык между 1-ой и 12-ой армиями (как они любили делать). Завязались ожесточенные бои. Русские несколько раз ходили в контратаки. В том числе кавалерийские. Но силы их были уже истощены. Потери – огромные (десятки тысяч человек). Накапливалась усталость. В ряде случаев уже возникал дефицит не только артиллерийских снарядов, но даже и пулеметных патронов. Среди пехотинцев начали появляться первые признаки панических настроений. Многие солдаты бежали со своих позиций, и были возвращены обратно чуть ли не насильно.
В первых числах августа 1-ая и 12-ая русские армии начали планомерное отступление на восток. Их сопротивление позволило эвакуировать войска и материальные ценности из Варшавского Выступа. Таким образом, силы генерала фон Гальвица хоть и добились успеха, но этот успех был ограниченным. Польша была захвачена. Однако главную задачу – окружение и уничтожение всей русской группировки – выполнить не удалось. Причем на севере в районе Нарева продвижение для немцев оказалось еще более тяжелым, чем на юге. Также некоторое время держались крепости Новогеоргиевск (на правом фланге 12-ой Армии) и Осовец (на левом фланге 8-ой Армии). Первая падет 20 августа, вторая – 22 августа. С обороной крепости Осовец отдельно связана история про героический подвиг русской пехоты. Немцы провели 6 августа газовую атаку с использованием хлора, дополнительно ударили из артиллерии, и затем принялись наступать на передовые укрепления. Русские позиции были разделены рекой Бобр (точнее – Рудским Каналом) и параллельно идущей железной дорогой. За позициями река изгибалась, и железная дорога ее пересекала, поэтому был построен мост. Данный мост имел стратегическое значение, ибо контроль над ним позволял отрезать юго-западную Соснескую позицию от северо-восточной Бялогрондской. Химическая и артиллерийская атаки привели к большим потерям обороняющихся. Сотни солдат были отравлены. Многие роты лишились до половины своего состава. Немцы продвигались к мосту, и полагали, что уже не встретят серьезного сопротивления. Но солдаты 8-ой и 13-ой пехотных рот с кровавыми повязками на лицах, тяжело хрипя и еле держась на ногах, неожиданно поднялись из окопов и бросились на своих противников со штыками. Германская пехота испугалась и отступила. Этот случай позже стал широко известным в узких патриотических кругах, и получил название – “атака мертвецов”. Но, в конечном счете, через две недели крепость все равно пришлось отдать врагу.
Между тем, Гинденбург реализовывал свой план по глубокому охвату правого русского фланга. В начале августа его войска подошли к крепости Ковно и принялись ее осаждать. Специально для этого даже была проведена железная дорога, по которой подкатили огромную 420-мм гаубицу “Гамма-Герат”. Ее снаряд весил около тонны, и летел на 14 км. Русский гарнизон в крепости составлял чуть более 66 тысяч человек. Солдаты сидели и оценивали свои шансы на выживание. 8 августа немцы начали бомбардировку первых трех фортов, расположенных на западном берегу Немана. Разрушения были большие, потери тяжелые. Только за один день 14 августа погибло около 1000 обороняющихся. В конце концов, первый форт был уничтожен. Подошла очередь второго форта. Крепость не была полностью окружена. Поэтому гарнизон получал припасы и даже сумел перегруппироваться. К 17 августа подошли подкрепления, однако они были разбиты немецкими отрядами. Очередной мощный обстрел вывел из строя фортовые орудия, после чего начался штурм. Потери гарнизона к тому времени были уже существенные – более 12 тыс. человек. Солдаты сами начали эвакуацию из крепости. Хотя отдельные форты еще сопротивлялись. Командующий 10-ой Армией генерал Радкевич требовал обороняться. Но к 18 августа бегство приняло всеобщий характер. Германская армия смогла захватить 20 тысяч пленных и около 1300 орудий. Бежавший комендант крепости Григорьев был затем арестован и предан суду.
Российское командование разделило Северо-Западную группировку на две: Северную и Западную. Первая должна была прикрывать пути на столицу. Вторая – прикрывать всё направление Вильно-Гродно-Пинск. Германское же командование ввиду ограниченности успеха своего продвижения решило отказаться от дальнейших наступательных операций на Восточном Фронте. На всей линии от балтийского побережья в районе Митавы до Ковеля приказывалось возвести оборонительные укрепления. Гинденбургу разрешалось довести реализацию своего плана до логического завершения. Чем он и занялся. К 1 сентября немцы уже заняли Брест-Литовск и подходили к Вильно (Вильнюс). Между ними располагалась крепость Гродно, за которую начались бои. Крепость была взята штурмом 3 сентября, в плен попало около 3600 русских солдат. После этого император Николай II сделал перестановки в Генеральном Штабе, а себя назначил главнокомандующим (сместив с этой должности великого князя Николая Николаевича). Гинденбург свой основной удар сосредоточил на севере на участке Вильно-Двинск. Здесь ему противостояла 5-ая и 10-ая армии, общей численностью в 300 тыс. человек. Гинденбург направил свое войско прямо в стык между ними. Командующий 5-ой Русской Армией Плеве как раз отвел свой кавалерийский отряд, из-за чего обнажился фланг 10-ой Армии. Образовался разрыв, который заполнили собою немцы, особо никого не стесняясь. Пройдя чуть севернее Вилькомира, они захватили город Свенцяны. К 14 сентября уже была захвачена Вилейка. А Молодечно готовилось встречать передовые разъезды. Начальник ГенШтаба генерал Алексеев принялся перебрасывать к месту прорыва 2-ую и 1-ую армии. Но на это требовалось время. А, между тем, немцы продолжали свое движение с намерением выйти на Минск. Впереди шла кавалерия. Русские, чтобы не оказаться в окружении, 16 сентября вынуждены были оставить Вильно. Однако восточная германская группировка в сентябре была ослаблена – войска перебрасывались на Западный Фронт, а также в Сербию. И в целом наступательный потенциал армий Гинденбурга снизился. 17-19 сентября начались кавалерийские сражения, к которым позже присоединилась подошедшая пехота. В бой вступила 2-ая Русская Армия. А в октябре подошла и 1-ая. Ее атаки стоили ей больших жертв. Однако немцы отступили от Молодечино к деревне Сморгонь и озеру Нарочь, что примерно посередине между Вильно и Минском. Чуть севернее развернулись ожесточенные бои за Двинск. 1-ая Русская Армия умудрилась нанести немцам удар во фланг. Но те, оправившись, 23 октября продолжили атаку на город, в том числе с применением своей грозной артиллерии. Однако силы их к тому времени, судя по всему, просто иссякли. Бомбардировки и перестрелки продолжались до ноября. И в итоге Двинск остался не завоеванным. Немцы отошли немного на запад и занялись выстраиванием своей линии обороны – примерно там, где и указал Генеральный Штаб. Потери русских за время Виленской Операции по одним данным составили около 80 тыс. человек, по другим данным только одних пленных было более 95 тысяч, а всего общие потери – 376,5 тысяч. Сами немцы потеряли более 116 тысяч убитыми, ранеными и пленными.
Сражения также велись и на самом севере – у побережья Балтийского Моря. Правда, они были не такими масштабными и кровопролитными. Русское командование уделяло мало внимания Рижско-Митавскому направлению. Поэтому германская армия продвигалась на этом участке сравнительно легко. Первые столкновения произошли еще в апреле-мае. Тогда немцы ограниченными силами смогли захватить военно-морскую базу в Либаве (Порт Александра III). В июле уже началось общее германское наступление на всех участках фронта, которое в итоге привело к общему российскому отступлению (тоже на всех участках фронта). Генерал Алексеев выделил для защиты Риги 12-ую Армию. В самом городе начиналась паника. Немцы в ходе своего продвижения смогли занять Митаву. Но их потери от проведения Виленской Операции оказались довольно высокими. Да и в Генеральном Штабе были не в восторге от планов Гинденбурга по захвату Риги, т. к. это требовало больших ресурсов.
Тем не менее, в августе германский флот вошел в Рижский Залив. На самом деле попытку прорваться туда из Балтийского Моря (через Ирбенский Пролив) он делал еще в июне. Но тогда все закончилось неудачей: русские корабли и английские подлодки открыли огонь, повредив несколько германских кораблей, и даже потопив угольщик. Немцы отказались от своей затеи. Но когда фронт продвинулся восточнее и была занята Митава – стало понятно, что русские броненосцы могут с моря зайти в тыл к германской армии и обстрелять ее или высадить десант. Поэтому немцы стали готовить более серьезную операцию. В свою очередь готовились и русские: усилили группировку эсминцев, поставили минные заграждения, разместили на островах самолеты. Командование Кайзерлихмарине (германские ВМС) намеревалось войти в Рижский Залив и уничтожить находящиеся там русские корабли, или, как минимум, заминировать проливы, чтобы запереть все выходы. В перспективе это помогало занять и Финский Залив. Немецкие силы прорыва были довольно значительны: линкоры, бронированные и малые крейсера, более 20 эсминцев, и еще различные технические суда типа тральщиков или минных заградителей. И вторая, еще более мощная группировка, прикрывала первую. Также участвовала авиация – самолеты и цеппелины.
Операция началась 8 августа. Германские тральщики в сопровождении эсминцев приступили к разминированию Ирбенского Пролива. Их обнаружили русские эсминцы с канонерками, и принялись обстреливать, добившись повреждения и даже потопления некоторых кораблей. Также налет совершили русские самолеты, сбросив бомбы (ну, как бомбы… бомбочки, наверное). Когда подошли германские броненосцы – завязалась артиллерийская дуэль через минные поля. Немцы добились попадания в русский броненосец “Слава”, который вынужден был удалиться. Но попытка войти в Залив привела к подрыву нескольких тральщиков. Поэтому операцию временно приостановили. В последующие несколько дней русские корабли занимались тем, что усиливали и уплотняли минное поле. Но при этом они сами подрывались на нем и тонули. Возможно, что они так бы все и перетонули там, если бы немцы не возобновили свою операцию. Германские корабли принялись обстреливать наземную инфраструктуру и ангары с самолетами. Небезуспешно, кстати. Но и русские были не пальцем сделаны – они отвечали, и тоже добились попаданий. После некоторых споров между командующими немецкая группировка была усилена. И с 16 августа тральщики продолжили разминирование Ирбенского Пролива, и, соответственно, продолжили подрываться и тонуть. Но, наконец, траление было завершено, и 17 августа германские эсминцы под прикрытием линкоров начали заходить в Рижский Залив. Единственный серьезный броненосный российский корабль “Слава” был отогнан вглубь вражеским огнем. Начались бои между эсминцами. А затем в Заливе принялись куролесить немецкие линкоры, топя канонерские лодки и что-нибудь еще такое водоплавающее. 18 августа к дискотеке присоединилась британская подлодка, которая смогла торпедировать германский линкор. Тот обиделся и решил уйти из Залива. 20 августа немецкие корабли подошли к порту Пернову (Пярну), что-то там потопили и обстреляли, и ушли. На следующий день в виду больших потерь операция была завершена. Итог – неубедительный. Немцы потеряли 2 эсминца и 3 тральщика, погибло 65 человек, другие корабли получили повреждения. Русские потеряли две канонерки, 150 человек убитыми и пленными, несколько грузовых судов, два гидросамолета, еще несколько кораблей (например, “Слава”) были повреждены, подпалена инфраструктура. В конечном счете, немецкая сторона своих целей не достигла. Рижский Залив остался под контролем русских, и не был заблокирован. В октябре на мысе Домеснес, что на входе в Залив, под командованием Колчака (тогда капитан 1-го ранга) произошла высадка десанта. Русские солдаты потрепали немецкую охрану, убив 43 и взяв в плен еще 7 человек, уничтожили ряд укреплений и маяк, захватили какие-то документы, и уплыли.
Осенью 1915 г. Великое Отступление русских завершилось. Фронт стабилизировался на линии Рига-Двинск-Барановичи-Пинск-Дубно-Тарнополь – там, где, в общем-то, и хотело немецкое командование. Потери российской стороны были огромны – от 1 до 2 миллионов человек (общие), из которых около 500 тыс. были убиты и пропали без вести. Из строя выбыло большое количество офицеров и опытных бойцов. Появились первые признаки отчаяния и паники. Немецкая артиллерия вызывала ужас. На фоне собственного снарядного голода он создавал гнетущую атмосферу недоверия и ожидания предательства. Тяжелые поражения вкупе с большими человеческими жертвами надломили русскую армию. Также стали проявляться очевидные экономические и производственные проблемы. Заводы не могли удовлетворить все нужды фронта. Оставление Польши с ее привислинскими угольными шахтами только усугубило ситуацию. Теперь возникала еще и нехватка топлива. К тому же не очень хорошо прошла эвакуация промышленности. Из Польши удалось вывезти лишь небольшую часть предприятий. Основная же масса производственных мощностей досталась немцам и австрийцам. Чуть получше, но тоже не ахти прошла эвакуация из Прибалтики. А хуже всего с этим справились местные администрации на юге. В процессе работы выявилось множество проблем. Например, железнодорожное сообщение подчинялось одновременно гражданским и военным властям, возникала несогласованность в действиях, вереницы грузов порой пересекались на пути с движущейся армией. Часть грузов была утеряна в дороге. В отдельных случаях ответственные за эвакуацию чиновники сбегали вместе с вверенными им деньгами. Российское общество – и без того не слишком дисциплинированное – начинало разлагаться. Возможно, еще не все понимали, но это было началом конца Российской Империи.
Что же касается германской армии, то за время Великого Отступления она потеряла около 447 тысяч человек (по другим данным 240 тыс.), из которых 67 тысяч убитыми. Австро-Венгрия потеряла более 118 тысяч.
Западный Фронт
На Западном Фронте по-настоящему интенсивные боевые действия начались только в апреле. И впервые в истории было применено химическое оружие. Экспериментально немцы использовали газовые вещества в своих атаках еще в январе на Восточном Фронте. Но тогда это был, скорее, концентрированный слезоточивый газ, от которого многие российские солдаты заснули на несколько часов беспробудным сном. А вот на Западе у города Ипр было применено уже смертоносное оружие массового поражения на основе газообразного хлора. Ипр защищали французские и британские войска, в составе которых также находились канадцы и индусы (в составе французских – алжирцы и марокканцы). Битва длилась около месяца и состояла из нескольких отдельных сражений. Первое произошло у деревни Гравенстафель-Ридж (недалеко от Лангемарка) 22-23 апреля. Немцы откачали хлор из баллонов и распылили газ по ветру на позиции противника. Французские и британские солдаты увидели впереди себя приближающееся к ним невысокое облако желто-зеленоватого цвета. Когда оно их накрыло – им стало тяжело дышать, слизистая отекла, во рту появился металлический привкус и возникло острое чувство жажды, а на расстоянии полуметра ничего не было видно. Солдаты стали разбегаться в разные стороны. Однако многие не успели спастись. Харкая кровью и задыхаясь, бойцы падали на землю, и умирали. Всего погибло около 5000 человек. Еще 15 тысяч пострадали от отравления. В линии фронта между французами и британцами образовалась брешь. Немцы принялись занимать позиции своих врагов. Они шли следом за ядовитым облаком на некотором расстоянии от него, с надетыми на лица ватными масками, пропитанными тиосульфатом натрия. Но командование Союзников приказало закрыть образовавшуюся брешь. Канадцы и шотландцы прибыли к месту прорыва и остановили продвижение германской армии. Таким образом, немецкая атака оказалась лишь частично успешной. Но как бороться с отравляющими газами – на тот момент времени никто не знал. Противогазов еще не было. Британский физиолог посоветовал дышать через носовые платки, предварительно помочившись на них, т. к. мочевина могла нейтрализовать хлор.
Следующая атака произошла 24 апреля у деревни Сент-Жюльен. Она проходила примерно по тому же сценарию: сначала выпускалось желтое облако хлора, затем через какое-то время выдвигались германские солдаты в масках. Союзнические войска бежали. Многие при этом погибли. Но опять успех оказался неполным. Канадцы с англичанами принялись отбивать наступление противника еще до того, как он занял основные позиции. То есть прорыва фронта не произошло. В то же время жители деревни стали массово покидать свои дома. Прибывающие в качестве подкрепления британские солдаты вынуждены были идти по железной дороге. Она была усыпана телами погибших людей, а также еще живых, агонирующих в предсмертных муках. Союзники уже на постоянной основе начали использовать маски, пропитанные мочой, либо раствором бикарбоната натрия.
8-13 мая у Фрезенберга немцы провели мощный артиллерийский обстрел. А затем в атаку пошла пехота. Но, судя по всему, в этот раз химическое оружие не использовалось. Канадская пехота, несмотря на большие потери, сумела сдержать натиск противника и закрыла очередную образовавшуюся брешь. Последняя атака произошла 24-25 мая. И вот в ней снова был использован газообразный хлор. Некоторые бойцы остались в окопах, предварительно надев респираторы. Но германские войска, кроме газа, также использовали артиллерию. Поэтому Союзникам все-таки пришлось отойти от своих позиций. В конечном счете, они отступили на следующую линию обороны. Немцы смогли продвинуться поближе к Ипру. Но захватить его у них не получилось. При этом из-за меняющегося ветра они сами периодически попадали под воздействие своего же отравляющего газа. Потери сторон за месяц боев оказались довольно высокими. Британцы потеряли более 59 тысяч солдат. Французы – почти 22 тысячи. Немцы потеряли более 35 тысяч. Сражения за город продолжались и летом. А в июле Союзники (в частности, британцы) смогли создать первые противогазы.
Весенняя Битва при Ипре – в которой немцы впервые использовали химическое оружие – была Второй по счету с начала Войны. Во время нее чуть южнее состоялась также Вторая Битва при Артуа. И здесь инициативу уже захватили Союзники. Правда, кроме инициативы, им, вообще, мало что удалось еще захватить. На участке Нев-Шапель – Аррас они сконцентрировали до 30 дивизий и 1727 орудий. Германские силы были примерно в два раза меньше, но они находились в обороне. Начальник ГенШтаба Эрих фон Фанкельхайн отправил 9 дивизий на Восточный Фронт – помогать оплошавшей Австро-Венгрии. Поэтому на Западе немцы, за исключением отдельных операций, глубже зарывались в землю, выстраивая третью линию окопов. Причем эта линия находилась на сравнительно большом расстоянии от предыдущих, чтобы до нее сложнее было добраться. Союзникам же была невыгодна позиционная война, поскольку в тяжелой артиллерии они явно уступали Германии. Приходилось предпринимать активные действия.
В районе Нев-Шапель наступала 1-ая Британская Армия. А 10-ая Французская Армия наступала на юге – в районе Арраса, с основной целью на Дуэ. Она планировала занять хребты, расположенные чуть севернее, рядом с Лансом, в том числе, Вими-Ридж. При этом французы делали подкопы под немецкие позиции и подтаскивали свою тяжелую артиллерию. Германские войска тоже готовились. Их траншеи были укреплены металлическими листами, мешками с песком, бетоном и колючей проволокой, а через каждые 90 метров располагались пулеметные гнезда. Деревни и города в прифронтовой зоне также были превращены в крепости, в домах стояли пулеметы, а в садах и огородах были вкопаны полевые орудия, существовала и подземная система коммуникаций.
Французы предварили свое наступление мощнейшей бомбардировкой. Она началась 3 мая, и продолжалась 6 дней. Было выпущено более 265 тысяч снарядов. Немецкие позиции были перекопаны и взлохмачены. Проволочные заграждения частично повреждены. После этого 9 мая в 10 часов утра в атаку пошла пехота. Французам удалось захватить первую линию траншей, и даже взойти на южную часть Вими-Ридж. Однако немцы сразу же принялись долбить по собственным оставленным позициям из артиллерии, а также обстреливать их пулеметами. Поэтому французские войска вынуждены были отступить, унеся с собой затрофеенное оружие и уведя тысячи пленных. В последующие дни также были захвачены господствующие высоты на хребте Нотр-Дам де Лорет вместе с церковью и кладбищем. Удалось взять под контроль большую часть Аблейна (маленький городок). Но германские гаубицы наносили французам большой урон, в то время как французские артиллеристы были скованы в действиях, опасаясь попасть по своим. К тому же участились случаи разрыва некачественных снарядов прямо в стволах орудий. Для французов это стало большой неприятностью. С 15 мая они остановили свои дальнейшие продвижения, решив закрепиться на уже захваченных позициях.
Тем временем, на английском – северном – участке, в районе Нев-Шапель, дела обстояли еще хуже. Британцы наступали на Обер (Auber). Но их артиллерийская подготовка оказалась слабой. Начинал проявляться дефицит снарядов, да и качество их было не самым лучшим. Поэтому в целом атака 9 мая была провальной. От пулеметного огня противника англичане потеряли до 11 тысяч человек, в то время как потери немецкой стороны не превысили 1000. Даже то, что британцы отвлекали внимание от основного участка наступления, не могло сгладить впечатления от этой катастрофы. Так закончилась первая фаза Битвы.
С 15 по 25 мая французы в основном занимались наращиванием сил и подготовкой для дальнейшего наступления. Выжившие солдаты тренировали прибывших из резерва новичков. Немцы в свою очередь построили мощные укрепления, с которыми могла бороться только сверхтяжелая артиллерия, но ее у французов не было. В течение 10 дней продолжались отдельные перестрелки. Были захвачены некоторые локальные цели. Но настоящая атака началась 25 числа. После трехдневной артподготовки французы возобновили свое продвижение. Они добились ограниченного успеха. Но их силы были уже в значительной степени истощены. Поэтому прорыва не произошло. Каждую оставленную позицию немцы накрывали огненным градом из своих орудий.
Тем временем, британцы тоже решили перенять тактику массированного артиллерийского удара перед каждой очередной атакой. Выпустив за три дня 100 тыс. снарядов, они приступили 15 мая к штурму германских позиций южнее Нев-Шапель (в районе Фестуберта). Однако немцы ответили еще более мощным огнем из своих тяжелых орудий. Поэтому английская пехота понесла большие потери – 16,5 тысяч бойцов, но продвинулась всего на 3 км. В то время как немцы потеряли 5000 человек. Впрочем, коэффициент разрыва между потерями составил уже не 11, как в прошлый раз, а всего лишь 3,3. Так закончилась вторая фаза Битвы.
К третьей фазе Битвы французы припасли достаточное количество снарядов – около 718,5 тысяч. Но в приготовлениях все равно имелись некоторые недочеты. Поэтому бомбардировка, хоть и смогла частично разрушить немецкие укрепления, но, например, проволочные заграждения были перерезаны не полностью. А, между тем, немцы умудрились построить по-настоящему глубокие и прочные блиндажи, которые выдерживали артиллерийские обстрелы. Поэтому наступление французов забуксовало с самого начала. Отдельные пехотные части отказывались идти в атаку и просто ложились на землю, не желая попадать под шквальный огонь противника. На направлении Невиль, Суше, Ангр французы использовали одновременно газовые и зажигательные боеприпасы. Это привело к сильному пожару в Ангре. Но в Суше, который до этого и так подвергся мощной бомбардировке, гореть, по сути, было уже нечему. На отдельных участках немцы размещали позиции на обратной стороне холма, таким образом защищая их от обстрела и подготавливая сюрприз для наступающей пехоты. При этом сами они способны были обеспечить своей артиллерией настоящую огненную стену, которую сложно было преодолеть (по крайней мере, живым). 16 июня французы смогли сделать подкоп, подложить мину под германские позиции, и взорвать ее, однако результат был ограниченный. Удалось захватить траншеи у Ангра, но затем немцы в своих ночных атаках отбили их. А 17 июня из-за несогласованности действий и переноса ранее намеченной атаки французская пехота попала одновременно и под вражеский, и под собственный артиллерийский огонь. В конце концов, 18 июня наступление было остановлено.
В свою очередь британцы 15-16 июня атаковали в районе Ла-Бассе, что южнее Нев-Шепеля. Поначалу они смогли продвинуться вперед, но затем были отброшены обратно. Поэтому, в общем-то, ничего не добились.
Итогом всего наступления стало продвижение на несколько километров при достаточно больших потерях. Французы потеряли около 102,5 тыс. солдат, из которых 35 тысяч погибли. Британцы потеряли до 32 тыс. человек. Потери немцев составили 73 тысячи. За время боев союзники израсходовали более 2,1 миллиона снарядов. Однако мощные бомбардировки не всегда могли разрушить углубленные и прочные немецкие блиндажи. Германская армия выстраивала на некотором расстоянии друг от друга третью и четвертую линию траншей, отодвигая при этом собственную артиллерию назад, а впереди протягивала колючую проволоку. Преодолеть такую линию препятствий было довольно сложно, и даже массированный обстрел не всегда способен был ее разрушить. Еще большую проблему представляли укрепления, возведенные на возвышенности, но на обратном склоне холма. Эти укрепления были не видны с земли (их можно было обнаружить только с воздуха), и при атаке пехота сталкивалась с неожиданными для себя трудностями.
В ходе основного весенне-летнего наступления в Артуа французы также осуществляли по всему фронту отвлекающие второстепенные атаки – например, в районе Нуайона и Сен-Мийеля. Они проводились при минимальной поддержке артиллерии. И успех их был еще более скромным. А потери при этом составили до 37 тыс. человек.
Союзники учли свои ошибки и начали готовиться к новому крупному наступлению. Теперь они намеревались прорвать фронт на двух участках. Первый участок – там же в Артуа, чуть севернее города Аррас. Второй участок – значительно юго-восточнее, в Шампани, рядом с городом Реймс. Если посмотреть на общую карту, то можно увидеть, что в 1915 г. границы боевых действий, прошедшие по территории Франции, нарисовали своеобразный угол. Вот по разные стороны этого угла и планировалось наступление. Предполагалось, что две армии будут идти одновременно, и, в конце концов, соединятся в районе города Монс. Если бы это получилось, то множество немцев попали бы в огромный котел. А фронт сам по себе оказался бы разрезан.
Летний период времени Союзники использовали для наращивания сил и накопления боеприпасов. Суммарно на обоих направлениях они собрали почти 60 дивизий и более 6,3 миллионов снарядов. Немцы по количеству войск по-прежнему уступали своим противникам примерно в 1,5-2 раза. Но они без дела не сидели. Благодаря своей аэроразведке они прекрасно знали о готовящемся наступлении, поэтому успели создать глубокую эшелонированную оборону. За первой линией, состоящей из трёх рядов траншей, на расстоянии 5-6 км следовала вторая такая же линия. Окопы и блиндажи делались еще более прочными. Все также с успехом применялась хорошо зарекомендовавшая себя колючая проволока.
Главным участком прорыва был выбран Шампаньский. Здесь французы сосредоточили 35 дивизий 4-ой, 2-ой и 3-ей армий. Немцы имели здесь от 16 до 19 дивизий. Наступление началось 25 сентября. Поначалу оно развивалось относительно успешно. Предварительно из артиллерии было выпущено около 3 миллионов снарядов. Бомбардировка разрушила укрепления первой линии обороны. Французы заняли вражеские окопы и взяли в плен до 14 тысяч солдат. Но дальше продвигаться было намного сложнее. Проволочные заграждения второй линии не были перерезаны. Возникла пауза. А потом из-за несогласованности действий стал нарушаться общий порядок наступления. Немцы в свою очередь быстро подтянули резервы. И начали применять собственную артиллерию, ведя по наступающим шквальный огонь. В последующих окопных боях они смогли вернуть себе часть потерянных позиций. Второй рывок французы совершили после 28 сентября. Они ожесточенно шли в атаку. Но уже не могли достигнуть какого-либо значительного результата. Пехотные части плохо координировали свои действия с артиллерией. А из-за дождей самолеты не могли вести качественную разведку. Этим пользовались германские войска, полюбившие размещать укрепленные позиции на обратном склоне холма (там, где это было возможно). В итоге после 7 октября общее французское наступление было остановлено. Удалось продвинуться вглубь примерно на 4 км. И теперь приходилось удерживать захваченную территорию, отражая германские контратаки, что продолжалось до первых чисел ноября. Затем боевые действия резко пошли на спад ввиду истощения сил и начавшегося сезона дождей. Потери французов составили 145 тыс. человек, немцы же потеряли около 72,5 тысяч (из которых 25 тысяч было пленено).
Под Аррасом наступление также началось 25 сентября. Союзники собрали здесь около 20 дивизий против 9 немецких. За время артподготовки из более чем 1000 орудий было выпущено более 1,7 миллиона снарядов. Затем последовала химическая атака вместе с дымовой завесой, под прикрытием которой шла французская и британская пехота. У нее получилось углубиться в первую линию обороны, и даже занять город Суше. Однако вторая линия опять оказалась не по зубам. Проволочные заграждения не были существенно повреждены. Это сильно замедлило продвижение войск. А немцы открыли шквальный пулеметный и артиллерийский огонь. Союзники ходили в кровопролитные атаки всю первую половину октября. Однако в ожесточенных боях так и не смогли добиться какого-либо успеха. Разве что во время проливного дождя был захвачен Вими-Ридж, но без господствующей высоты (ее немцы удержали за собой). В конце концов, к 4 ноября наступление здесь было остановлено. Французы потеряли более 48 тысяч человек. Британцы – почти 62 тысячи. Потери немцев составили от 26 до 51 тысячи. Союзники смогли продвинуться примерно на 7 километров территории.
Также севернее города Суше и рядом с городом Ланс британские войска вели отдельное наступление. Эти бои являлись частью Третьей Битвы при Артуа. Они начались в тот же день (25 сентября), но имели свою специфику и автономную локацию – деревню Лоос (Лос-ан-Гоэль). Вообще, английские командиры скептически относились к атакам южнее Ла-Бассе – в этом районе располагались угольные шахты и соответствующая инфраструктура, удобная для обороны. К тому же было недостаточно артиллерийских орудий. И, тем не менее, французы смогли уговорить своих союзников. В связи с этим англичане решили использовать отравляющий газ. Однако наступление с самого начала как-то не задалось. Ветер быстро сменил свое направление, и облако хлора окутало британские же позиции. Причем британские противогазы оказались не самой удачной конструкции: солдаты в них задыхались и поэтому снимали их с себя, попадая под воздействие своих же химикатов. Кроме того, не была налажена телефонная связь со штабом, поэтому приказы приходили с задержкой. Атака пехоты имела ограниченный успех, поскольку бомбардировка не смогла разрушить немецкие проволочные заграждения и подавить пулеметные гнезда. Не помогали даже самолеты, сбрасывающие сверху бомбы и корректирующие артиллерийский огонь. И все же англичанам удалось в первый день захватить Лоос. Но потери были слишком большие. В ходе последующих боев британцы также смогли занять Высоту 70. Однако солдаты остались на ней в одиночестве, без подкреплений и боеприпасов, и под перекрестным огнем противника. Поэтому через несколько дней вынуждены были ее оставить. В целом британские атаки продолжались до 8 октября, пока, наконец, не были прекращены по причине бесперспективности. Затем немцы попытались вернуть себе часть утраченных позиций, но у них это не очень хорошо получилось (за исключением Высоты 70). В ноябре, когда начались дожди, атаки с обеих сторон были остановлены. Британцы потеряли от 50 до 59 тысяч солдат (убитыми и ранеными). Немцы потеряли около 26 тысяч.
Таким образом, прорыва германского фронта опять не произошло. Успехи союзников были довольно скромные. Их общие потери на двух участках составили более 150-160 тыс. человек. А немцы потеряли около 120-140 тысяч. Дополнительно в боях у деревни Лоос британцы потеряли до 59 тысяч, а немцы до 26 тысяч человек.
Итальянский Фронт
В 1915 г. на Основном Театре боевых действий появился новый игрок – Италия. Это молодое государство, созданное на базе национализма, чувствовало себя обделенным в колониальной борьбе. И оно искало возможности заполучить новые земли. Участие в Гонке за Африку привело к определенным результатам, но они были весьма скромные при довольно высоких издержках. В то же время активность на Черном Континенте вызвала трения с Францией. И поэтому Италия решила присоединиться к союзу Германии и Австро-Венгрии. Это было необычно, особенно, если учесть, что в войнах 1848-1871 гг. именно Австрийские Габсбурги были главным врагом итальянских объединителей. На самом деле в Риме надеялись, что Венская Монархия поделится частью своих земель, которые считались исконно итальянскими (например, Трентино и Южный Тироль, а также Истрия и Далмация). Но когда в 1914 г. начался глобальный передел, в Риме отказались от участия в боевых действиях. Сослались на то, что Австрия, дескать, первой объявила войну Сербии, в то время как Тройственный Союз предполагал лишь помощь в обороне, а не в нападении. Этот юридический нюанс, конечно, давал возможность уйти от выполнения своих коалиционных обязательств. Но было понятно, что с такими союзничками, как Италия, и враги, в общем-то, не нужны. Антанта пыталась перетянуть Апеннинский Сапог на свою сторону. Осенью 1914 г. уже были достигнуты секретные договоренности. Но в самой Италии шла внутренняя политическая борьба. Вполне разумный премьер-министр Джованни Джолитти с большинством парламентариев выступил за нейтралитет. Но тут из табакерки выскочили два чёрта: Бенито Муссолини и Габриэле д’Аннунцио – оба в будущем фашисты (второй еще и пошлые стишки умел сочинять). Они устроили массовые демонстрации, требуя вступления Италии в войну ради захвата чужих территорий. В конце концов, они своего добились: 26 апреля с Антантой были подписаны новые секретные соглашения, в соответствии с которыми Италия присоединялась к альянсу и открывала новый фронт против Австро-Венгрии. Риму за это пообещали уже упомянутые земли плюс еще кое-что в Европе, а также часть германских колоний в Африке и протекторат над Албанией. И еще Великобритания денег занесла – 50 млн. фунтов стерлингов.
23 мая Италия объявила Австро-Венгрии войну. Боевые действия проходили в основном в гористой местности, что требовало особой, специфической, подготовки солдат. Дивизии скалолазов назывались – Альпини. А штурмовые дивизии – Ардити. Всего Италия собрала на границе 35 дивизий. Ее войска имели численное превосходство, но существенно уступали противнику в подготовке и вооружении. Она намеревалась захватить основные горные перевалы и тем самым исключить возможность встречного наступления. Впрочем, Австро-Венгрия не особенно-то и хотела наступать. У нее и так уже имелись два фронта – русский и балканский. Поэтому ее стратегия была чисто оборонительной. Она держала на итальянской границе 12 дивизий. И когда Рим объявил войну – подтянула еще 7. К ним присоединилась одна германская дивизия с тяжелой артиллерией. Буквально за два часа до объявления войны австрийский флот успел обстрелять город Анкона, что на побережье Адриатического Моря. Итальянский дирижабль пытался помешать, но был слишком толстым и медленным. В результате обстрела погибли 63 человека и была серьезно повреждена железная дорога, что сказалось на развертывании войск.
Основным участком итальянского фронта была восточная граница – в районе реки Изонцо (Соча). Именно здесь итальянцы и нанесли главный удар. Ожесточенные бои продолжались около месяца. В конце концов, получилось переправиться через реку и даже захватить плацдарм – поселение Плава. Австрийцы отошли на новую линию обороны на возвышенностях. И дальше они продвинуться своим противникам не позволили. Наступление римлян стало выдыхаться из-за несогласованности отдельных частей и слабой поддержки артиллерии, которая почему-то не поспевала за пехотой. Населенный пункт Гориция – что южнее Плавы – поначалу был занят, но затем оставлен. В то же время сражения велись и на других участках границы: в Карнийских и Кадорских Альпах, а также в Трентино (западнее). Какие-либо успехи были только в Кадоре и Трентино – там удалось занять парочку городов. Однако вряд ли это можно считать большим достижением. В середине июня итальянцы приостановили свои атаки. Их потери составили 15-16 тысяч, в том числе 2000 убитыми. Австро-Венгры потеряли около 10 тысяч (1000 человек убитыми). Так закончилась Первая Битва при Изонцо.
23 июня итальянцы возобновили боевые действия, стремясь расширить плацдарм у Плавы. Они собрали 250 тыс. человек против 78 тысяч австрийцев. На этот раз артиллерийскую подготовку постарались провести более тщательно. Хотя с этим опять возникли проблемы, т. к. уже элементарно не хватало боеприпасов. Да что там боеприпасов. Не хватало даже инструментов для разрезания колючей проволоки. Любители спагетти ходили в штыковую прямо на австрийские позиции, но несли большие потери от пулеметного огня. А если им удавалось все же прорваться – то они тут же получали контрудар. Завязывались эпичные рукопашные бои с использованием не только винтовок и сабель, но и просто подручных предметов. Из-за высоких потерь 7 июля была сделана пауза. Атаки продолжились 18 числа, однако больших успехов не принесли. Итальянские орудия были неспособны серьезно повредить австрийские укрепления. Поэтому пехоте было тяжело продвигаться вперед. Удалось захватить разве что город Кобарид и гору Батогница, что севернее Плавы. Но потери составили 43 тысячи человек убитыми, ранеными и пленными. У австрийцев – немногим больше, около 48 тысяч. В целом Вторую Битву при Изонцо нельзя назвать удачной для римлян. К 3 августа она была завершена.
Осенью Союзникам потребовалось отвлечь внимание Австро-Венгрии от Сербии. Поэтому 18 октября итальянцы начали новое наступление. В этот раз они собрали 338 батальонов и около 1300 орудий. Главнокомандующий Луиджи Кадорна осознал всю важность артиллерии. Он провел действительно мощную бомбардировку, после чего за дело взялась пехота. Римляне хотели прорваться через Плаву, чтобы обойти с севера Горицию. Но австрийский генерал Светозар Бороевич предпринял контрманёвр и начал отражать атаку противника. Две недели шли тяжелые кровопролитные бои. Однако итальянцы, по сути, так ничего и не добились. Они понесли большие потери – 67 тыс. человек, из которых 10,7 тысяч было убито. Потери австро-венгерской армии составили менее 42 тысяч при 8230 убитых. Таковы были итоги Третьей Битвы при Изонцо.
Итальянцы были явно не удовлетворены своими наступлениями. Впрочем, кто бы на их месте был удовлетворенным? Чтобы не упасть в грязь лицом, они продолжили долбиться лбом о горную породу. Новый раунд начался 10 ноября. Главный удар предпринят был в районе Гориции. В конце концов, ее удалось захватить. Однако это, пожалуй, стало единственным достижением. Южнее проходили ожесточенные бои за гору Сей-Буси. Любители спагетти провели не менее пяти атак. Но никакого результата здесь не добились. На севере центром притяжения внимания стал населенный пункт Толмин. Он находился по другую сторону Изонцо, и потенциально являлся плацдармом для будущего прорыва. Поэтому его бомбили изо всех сил как те, так и другие. Вероятно, разбомбили полностью. Однако итальянцы от этого выгод никаких не получили. В начале декабря похолодало. Да и припасы подошли к концу. В итоге боевые действия затихли, сведясь к отдельным перестрелкам. Итальянцы вышли на новый уровень своей неудовлетворенности. Они понесли еще большие потери, чем в предыдущих сражениях: 113 тыс. человек. Австрийцы потеряли почти в два раза меньше – 70 тысяч. Эта четвертая по счету Битва при Изонцо была последней в 1915 году, но не последней до конца войны. День сурка повторялся еще неоднократно. Впрочем, некоторая польза от этого всего имелась: Австро-Венгрия вынуждена была оттянуть на итальянский фронт дополнительные силы из России. Также ей пришлось просить помощи Германии.
События на Итальянском Фронте отражают общий характер Первой Мировой Войны. В 1914 году германские войска добились некоторого первоначального успеха, углубившись во французские земли. Однако потом они были отброшены назад контрнаступлением Союзников. После этого начались позиционные бои. В 1915 г., несмотря на кровопролитные сражения, линия фронта практически не изменилась. Французам и британцам удалось лишь слегка отодвинуть ее. Но серьезным успехом это назвать было нельзя. Итальянцы на австро-венгерской границе, после пересечения реки Изонцо, также не смогли существенно продвинуться вперед, хотя неоднократно ходили в атаки и несли тяжелые потери. Реальные изменения произошли только на Восточном Фронте – там Россия потерпела поражение и вынуждена была отдать противнику значительные территории. Да и то прорыв произошел далеко не сразу и отнял у Германии с Австрией много ресурсов. Под конец войны именно Восточный Фронт окажется наиболее слабым, и здесь у немцев будет самый большой успех. В то время как Западный Фронт на протяжении длительного времени будет стоять практически непоколебимо. А укрепленные линии будут все больше и больше совершенствоваться, цементироваться и обрастать заграждениями. Траншеи будут превращаться в земляные и бревенчатые крепости, растянувшиеся на многие километры. И подобная траншейная война была абсолютно новым явлением в мировой истории.
Кроме того, в 1915 году боевые действия стали оказывать все возрастающее воздействие на экономику участвующих стран. Промышленность постепенно начинала надрываться. Производственные мощности не поспевали за интенсивностью сражений. Боеприпасов на фронте не хватало. Особо сильный дефицит испытывала Россия. Но также и ее союзники по Антанте были неспособны обеспечить достаточный объем выпуска снарядов. Таким образом, война с каждым месяцем превращалась в тяжелейшую экономическую битву европейских держав.
На основном театре военных действий в 1915 г. появилось много новаторских изобретений и оружия. И это были не только отравляющие газы. Еще в феврале французский летчик Ролан Гаррос прикрепил к своему самолету пулемет и одновременно с этим снабдил винт защитным треугольником, отсекающим пули. Так впервые появился истребитель. Гаррос умудрился сбить несколько вражеских самолетов. Но в апреле при бомбардировке на железнодорожных путях немецкого эшелона сам попал под огонь зенитных орудий. Он вынужден был посадить свой поврежденный самолет на германской территории, и стал военнопленным. В свою очередь нидерландский инженер Антон Фоккер, служивший немцам, изобрел синхронизатор. Этот синхронизатор позволял стрелять через винт, блокируя затвор в момент прохождения лопастью линии огня. Таким образом, германские ВВС получили техническое преимущество. Которое, впрочем, сохранялось недолго. Уже в 1916 г. немецкий истребитель Fokker E.I был сбит над территорией Союзников. Синхронизатор, естественно, был разобран, изучен и скопирован. Совершенно новым видом оружия, которое впервые применила германская армия, стал переносной огнемёт. Несмотря на всю жестокость этого изобретения, оно оказалось довольно эффективным. Хотя техника безопасности накладывала на его использование определенные ограничения. Также в 1915 г. в связи с траншейной войной стали широко применяться окопные миномёты и ручные гранаты.
Война на Море
В 1915 г. подводная и надводная война между противоборствующими сторонами продолжилась. Взаимная торговая блокада выходила на новый уровень. Великобритания еще в ноябре 1914 г. объявила зоной боевых действий все Северное Море. Не пропускались даже суда с продовольствием. В Германии возмутились, посчитав, что страну хотят уморить голодом. И в ответ Берлин с февраля нового года объявил зоной боевых действий все воды вокруг Британских Островов (включая Ла-Манш). Подводные лодки могли топить любые суда. Но пока еще соблюдались определенные правила. Коммерческие корабли были в приоритете на уничтожение. Пассажирским уделялось меньше внимания. Однако при атаке и на те, и на другие людей предписывалось высаживать на лодки, и только после этого открывать огонь (лодки не трогали). К сожалению, в середине года эти нормы морали и чести также пошли ко дну.
Первым крупным морским сражением во второй год войны стало Сражение у Доггер-Банки в Северном Море неподалеку от Британских Островов. Доггер-Банка – это песчаная отмель, в районе которой глубина варьируется от 15 до 36 метров. 23 января немецкая эскадра вышла в море для того, чтобы как-нибудь напакостить англичанам. Планировалось потопить рыбацкие лодки и даже, возможно, обстрелять побережье. Адмирал Франц Хиппер имел в своем распоряжении 3 линейных крейсера, 1 броненосный крейсер и 4 легких крейсера, и еще 18 миноносцев. Однако англичане еще в конце 1914 г. сумели заполучить немецкие книги с кодами доступа к расшифровке радиограмм. Часть из этих книг достали русские водолазы с потопленных немецких кораблей. В общем, британская разведка работала прекрасно, и всё они про этих кайзеровских империалистов знали. Ну, или почти всё. По крайней мере, выход в море эскадры Франца Хиппера с понятными намерениями стал известен. И британский вице-адмирал Дэвид Битти решил эту эскадру перехватить. К месту сражения начали стягиваться достаточно крупные силы: 5 линейных крейсеров, 7 легких крейсеров и 35 миноносцев.
Британцы шли в режиме полного радиомолчания. Они просто хотели устроить своим континентальным приятелям сюрприз. На рассвете следующего дня легкие крейсера в авангардах обеих сторон заметили друг друга и начали обмениваться снарядами (на расстоянии, естественно). Немецкий “Кольберг” получил попадание в капитанский мостик, после чего вышел из боя. Адмирал Хиппер правильно рассчитал ситуацию, и, решив не рисковать, развернул свою эскадру обратно на юго-восток. Англичане бросились в погоню. Вице-адмиралу Битти пришлось разделить свои силы, поскольку не все корабли способны были развить необходимую скорость. Тем не менее, около 9:00 самые быстрые линейные крейсера стали приближаться к своим противникам и начали пристрелку. Замыкающий германской группировки броненосный крейсер “Блюхер” открыл ответный огонь. А вскоре его поддержали и его товарищи. Англичане шли в построении пеленга, пытаясь догнать немцев с правой стороны и ведя огонь с левого борта. Немцы перестроились аналогичным образом, чтобы, соответственно, иметь возможность беспрепятственно вести огонь с правого борта. В течение последующего часа корабли с обеих сторон получили попадания. У британского флагмана “Лайон” образовалась пробоина ниже ватерлинии, в результате чего была затоплена угольная яма. Но германский флагман “Зейдлиц” вообще чуть было не взорвался, когда в его кормовую башню прилетел снаряд, вызвавший возгорание пороха. Трюмной старшина голыми руками открыл раскаленный вентиль, чтобы затопить объятые пламенем погреба.
В 9:45 Дэвид Битти заметил перестроение германских миноносцев. Он подумал об атаке, поэтому свернул влево, сбавил скорость и приказал выдвинуться вперед своим собственным эсминцам. Однако атаки немцев не последовало, и Битти снова приказал ускориться. Между тем, его флагман уже получил множество повреждений. В частности: вышла из строя носовая башня, были затоплены торпедный отсек, угольная яма и отсек с распределительным щитом, но хуже всего по последствиям оказалось засоление воды в котлах, из-за чего остановилась турбина по правому борту. Но у немцев также сильные повреждения получили флагман “Зейдлиц” и броненосный крейсер “Блюхер”. Последний находился в особенно плохом состоянии. А в 10:30 его судьба была окончательно решена: 343-мм снаряд попал в горизонтальный проход для подачи боеприпасов, из-за чего произошел мощный взрыв. Были уничтожены две передние башни и различные коммуникации, в том числе, система рулевого управления, система управления огнем и машинный телеграф, а также повреждена котельная. “Блюхер” сильно сбавил ход и принялся описывать циркуляцию. Его можно было бы оставить на добивание идущим сзади легким крейсерам, продолжив при этом погоню. Однако британский флагман “Лайон” в это время также получил множество попаданий, его вторая турбина остановилась, и он вывалился из строя. При этом Битти показалось, что он заметил перископ подводной лодки. Поэтому он начал отдавать противоречивые приказы, а поскольку радиосвязь прервалась, то приказы были поданы флажками, что внесло еще большую неразбериху. Сначала британский вице-адмирал приказал повернуть влево на 90 градусов (для защиты от торпедной атаки). Затем он понял, что так его эскадра разминётся с противником, и приказал взять курс обратно на северо-восток. Наконец, он приказал сблизиться с врагом. Но в итоге его сигналы были поняты так, что все корабли сконцентрировались на отставшем и уже сильно поврежденном “Блюхере”. Его начали расстреливать с близкого расстояния. Тот пытался отбиваться, и даже попал по одному эсминцу. Однако у него, очевидно, не было никаких шансов. Он получил более 70 попаданий. После 12:00 немецкий бронепалубный крейсер перевернулся на левый борт, подержался некоторое время на воде кверху килем и затонул.
Тем временем, Франц Хиппер, заметив первоначальный резкий поворот британской эскадры, отвернул в противоположную сторону и взял курс на базу. Поначалу он думал оказать помощь “Блюхеру”, но его флагман также пребывал в плачевном состоянии, а силы были не равны, поэтому он решил оставить жертву на съедение врагу и ретироваться.
Британцы организовали спасательную операцию. Но поднять из воды удалось только часть команды “Блюхера” – 281 человека из 1028. Частично этому помешала атака немецкого же патрульного самолета. Вечером английская эскадра ушла к себе домой. При этом флагман “Лайон” из-за повреждений был взят на буксировку.
Итого в Сражении у Доггер-Банки немцы потеряли один броненосный крейсер, и еще один линейный крейсер был значительно поврежден (“Зейдлиц”), в живой силе потери составили около 950 человек убитыми, около 50 раненными и две сотни пленными. У британцев был серьезно поврежден флагман и еще один крейсер, но оба они были впоследствии отремонтированы. В живой силе их потери составили: 15 убитых и около 80 раненых. Примечательно, что в Битве принимал участие также немецкий дирижабль, его пытались сбить картечными снарядами (вероятнее всего – шрапнелью).
Кроме надводных сражений, в Атлантике продолжалась и подводная война. Германские субмарины становились настоящим кошмаром для коммерческих судов и сильно вредили межконтинентальным грузоперевозкам. Всего за 1915 г. немцы потопили в Атлантическом Океане 228 торговых кораблей. Самым эффективным способом борьбы являлось конвоирование, когда военные крейсера и эсминцы сопровождали гражданские пароходы. Но на это требовалось много ресурсов. Нельзя было приставить к каждой лодке отдельный броненосец. К тому же возникали проблемы с организацией таких походов, поскольку их приходилось согласовывать с конкретными капитанами. Британцы придумали другой способ: они стали размещать на торговых судах скрытое вооружение, маскируя его за выдвижными панелями. Дело в том, что у каждой подлодки было весьма ограниченное количество торпед (часто – меньше 10), поэтому при отсутствии явной угрозы подлодки старались всплывать и атаковать при помощи палубных орудий. В этот момент подлодка становилась наиболее уязвимой – ее можно было потопить артиллерийским огнем или даже протаранить.
Тактика работала следующим образом. С виду безобидное торговое судно, одиноко плывущее посреди океана, привлекало внимание германской субмарины. Она поднималась на поверхность для нанесения артиллерийского удара. Но в этот момент на безобидном судне матросы выдвигали свои орудия и открывали огонь. Кроме этого, по тревоге к месту битвы могли приплыть уже военные крейсера, которых вызывали по радио. Подобные судна-ловушки для большей устойчивости везли в качестве груза пустые деревянные ящики или пробковые пиломатериалы, а команда была заранее подготовлена к боевым действиям. Впервые уничтожить немецкую субмарину благодаря такой обманной тактике удалось в июле 1915 г. Но самым известным случаем был инцидент с судном-ловушкой “Баралонг”. Оно шло под американским флагом. Когда поблизости показалась германская подлодка – команда “Баралонга” подняла британский флаг, затем привела свои замаскированные орудия в боевое состояние и открыла огонь. Субмарина начала тонуть, и германские подводники ради спасения поплыли к находящемуся поблизости пароходу “Никозиан”, который действительно был гражданским. Некоторые из них поднялись на борт и спрятались в трюме, другие зацепились за разные части судна. Капитан “Баралонга” решил, что они пытаются захватить “Никозиан”, поэтому приказал сначала расстрелять тех, кто находился в воде, а затем подняться на борт парохода, отыскать спрятавшихся и казнить их. Примечательно, что немецкие СМИ развернули из-за этого большую пропагандистскую кампанию – дескать, расстреляли пленных, то есть совершилось военное преступление. Однако немцы к тому времени наворотили уже столько, что их особо никто не слушал. Великобритания предложила расследовать случаи потопления германскими субмаринами гражданских пароходов, и после этого в Берлине как-то все поутихли.
Несмотря на всё выше написанное, судна-ловушки не имели какой-то заоблачной эффективности. Но это был один из недорогих способов бороться с немецкими субмаринами. Безусловно, англичане использовали и другие способы. Подлодки нередко подрывались на установленных минах. А иногда их даже таранили гражданские пароходы, причем успешно. Всего в 1915 году в Атлантике Германия потеряла 19 субмарин. Среди отдельных инцидентов были и такие, когда немецкая подлодка по ошибке атаковала другую немецкую подлодку. И вполне успешно (для членов Антанты, конечно). А в Эгейском Море одна германская субмарина и вовсе затопила саму себя (без шуток). Но это, скорее, были исключения. Британцы не желали полагаться только лишь на одну карму, и в 1915 г. они разработали первый эффективный вариант глубинной бомбы, которая была успешно применена уже в январе 1916-го.
В мае 1915 г. в Атлантике произошел по-настоящему резонансный случай, который имел далеко идущие политические последствия. Немецкая подлодка U-20 недалеко от ирландского побережья потопила пассажирский лайнер “Лузитания”. Это было огромное судно, на борту которого находилось 1960 человек. Оно шло из Нью-Йорка в Ливерпуль. Германские субмарины в это время у берегов Ирландии вовсю кошмарили торговые шхуны и гражданские пароходы. Пассажиров пойманного корабля заставляли пересесть в шлюпки, после чего открывали по нему огонь. В Берлине предупреждали, что Британские Острова являются зоной боевых действий, и советовали там не плавать. Поэтому “Лузитания” была недозагружена, пассажиропоток упал, однако не исчез полностью. Стоит заметить, что судно перевозило стрелковое оружие и другие грузы военного назначения, но не артиллерийские снаряды – по крайней мере, как утверждают в Великобритании. То есть взрывчатых веществ на борту, вроде как, не было. Перевозка же стрелкового оружия не считалась контрабандой. “Лузитания” принадлежала шотландской компании, британское Адмиралтейство могло частично использовать лайнер в своих целях, поскольку выделяло на его постройку субсидии. Как бы там ни было, но судно было в первую очередь пассажирским, основным его грузом были люди, оборонительных орудий оно на борту не имело. Когда 7 мая оно проходило южную оконечность Ирландского Острова – немецкая подлодка U-20 выпустила по нему торпеду, которая попала в корпус в 14:10. Взрыв был достаточно сильный. Однако через несколько секунд последовал второй, еще более мощный, взрыв, причина которого до сих пор не установлена. Капитан Уильям Тёрнер попытался свернуть влево, чтобы выбросить корабль на мель. Но рулевое управление было повреждено. Тогда Тёрнер приказал остановиться, чтобы можно было спустить шлюпки на воду. До берега было примерно 19-20 км.
“Лузитания” получила сильный крен вправо и вскоре начала тонуть. На борту возникла паника. Шлюпки, спускаемые по левому борту, цеплялись за обшивку и повреждались, а затем – по мере увеличения наклона судна – они и вовсе легли на палубу. Кое-как удалось спустить только шлюпки по правому борту, но в них приходилось запрыгивать из-за образовавшегося зазора. Некоторые шлюпки переворачивались. А в ряде случаев шлюпки по ошибке спускали на другие шлюпки, уже находящиеся в воде. Кто-то из пассажиров самостоятельно прыгал за борт. Возникали драки за спасательные жилеты. Длина “Лузитании” была больше, чем глубина моря в месте крушения. Но когда она ушла под воду, образовалась огромная воронка, в которую засасывало людей. В то же время изнутри утонувшего лайнера выходили большие пузыри воздуха. Немецкая подлодка продолжала тревожить различные суда, которые пытались подобраться к месту трагедии. Так, например, она выпустила свою последнюю торпеду по пароходу “Наррагансетт”, шедшему для спасения людей. Капитан сумел отвернуть свой корабль в сторону. Однако после этого он поплыл прочь от места потопления “Лузитании”, поскольку решил, что немцы специально заманивают новых жертв для очередной атаки (что было типичной тактикой). Вдобавок к этому британское Адмиралтейство допустило несколько ошибок и ввело в заблуждение отдельных капитанов. Поэтому людям, оказавшимся в воде, пришлось несколько часов дожидаться своего спасения. На призыв о помощи откликнулись рыболовецкие шхуны и один греческий пароход.
Из 1960 человек, находящихся на борту “Лузитании”, погибло 1197. Спастись удалось меньше, чем 40%. Большинство погибших – граждане Великобритании (984). Но также среди погибших было 128 граждан США. Трагедия вызвала резкую критику в адрес Германии по всему миру, в особенности в странах Антанты. Впрочем, с осуждением Берлина выступили даже его союзники по коалиции – Вена и Стамбул. Множество людей по обе стороны Атлантики требовали наказать капитана субмарины U-20, считая его военным преступником. Буря негодования и злобы захлестнула различные страны. В США и Канаде прошли погромы в местах проживания немцев, их предприятия – лавки, бары, заводы – подверглись нападению, полиция не смогла справиться с толпой. Крупные СМИ печатали оскорбительные карикатуры на представителей германской власти, в том числе, на кайзера Вильгельма II, которого обвиняли в варварстве и неоправданной жестокости. Германия в глазах всего мира превратилась в монстра. Ее внутренняя пропаганда, обвинявшая во всем Великобританию, и восхвалявшая экипаж U-20 – только усугубила ситуацию, еще больше разозлив общественность в Европе и Америке. Крайне неудачной идеей был выпуск сатирической медали, на одной стороне которой изображалась тонущая “Лузитания” с артиллерийскими орудиями на борту (что было откровенной ложью), а на другой стороне – очередь пассажиров, покупающих в кассе у скелета биллеты на рейс. Это вызвало новую волну негодования и критики Германской Империи. Усилилась ксенофобия.
Немедленной военной реакции со стороны США не последовало. Однако ряд сенаторов высказались достаточно жестко. Президент Вудро Вильсон, конечно же, осудил Германию и предупредил о недопустимости повторения подобных инцидентов. Кайзер Вильгельм II принес свои извинения. Сам он был против нападений на гражданские суда, и в этом вопросе постоянно спорил с морским министром гросс-адмиралом Альфредом фон Тирпицем. На какое-то время атаки на пассажирские пароходы действительно были запрещены, немецкие субмарины ушли из Ирландского Моря, Кельтсткого Моря и Ла-Манша. Однако в 1917 г. началась неограниченная подводная война. Были потоплены, в том числе, американские суда. И после этого Вашингтон объявил Берлину войну. Таким образом, эффект оказался отложенным.
В Великобритании и США по поводу атаки на “Лузитанию” были начаты судебные разбирательства. Однако проходившие процессы сложно было назвать прозрачными. Многие вещи оказались скрыты от общественности. Были зафиксированы случаи давления на свидетелей. Всех волновало два вопроса: 1) чем был вызван второй взрыв (в Великобритании настаивали на второй торпеде), и 2) перевозило ли судно артиллерийские боеприпасы. Однозначно ответить на них не удалось до сих пор. Многие исследователи считают, что Лондон и Вашингтон утаили значительное количество фактов об этой трагедии.
В других морях и океанах в 1915 г. произошло несколько не самых крупных сражений. Например, в июне-июле русская эскадра вышла в Балтику для обстрела захваченного немцами Мемеля (Клайпеды). Отряд состоял из 5 крейсеров (3 средних и 2 легких), а также 8 эсминцев. Примерно в это же время германский минный заградитель “Альбатрос” под прикрытием трёх крейсеров и 7 миноносцев направился к Аландским Островам (Финляндия) для постановки мин. Русские умудрились как-то перехватить сообщение немецких связистов, что было вообще впервые в истории русского флота. И, чтобы не упускать удачного момента, они решили сконцентрироваться на германской эскадре. В районе острова Готланд утром 2 июля адмирал Михаил Бахирев обнаружил корабли противника и отдал приказ открыть по ним огонь. Немецкий отряд в это время был разделен – два крейсера и 4 эсминца накануне ушли в Либаву. Немецкий коммодор Йоханнес фон Карф принял единственно верное решение отступать обратно на юг, а минному заградителю “Альбатросу” приказал укрыться в территориальных водах нейтральной Швеции. Укрыться-то он, конечно, укрылся, но перед этим его успели обстрелять русские крейсера, в результате чего он загорелся и выбросился на берег острова Готланд. Русские крейсера отправились к себе на базу в Финский Залив и повстречали немецкие крейсера, идущие из Либавы. Произошел еще один бой. Германские корабли получили некоторые повреждения. Но русские, истратив большую часть боезапаса, ушли. Тем временем, еще два немецких крейсера вышли в море для помощи своим собратьям. Однако на пути к месту битвы один из них был торпедирован британской подлодкой, которая совершенно случайно и также неожиданно оказалась в данном районе. Повреждения были не катастрофические, но заставили вернуться в Германию. За весь день у немцев погибло 27 человек и еще 49 было ранено.
В Средиземном Море подводная война началась в октябре месяце. Немецкие субмарины в основном ходили под австрийским флагом. Они пока не решались атаковать итальянские корабли, поскольку Рим не объявлял войну Берлину. Однако за три месяца (октябрь-ноябрь-декабрь) немцы потопили 79 коммерческих судов, тем самым существенно ограничив торговлю и в этом регионе.
Турецкий Театр
Дарданелльская Операция
В январе 1915 г. российский князь Николай Николаевич попросил союзников по Антанте провести наступление со стороны Средиземного Моря, чтобы отвлечь турецкие силы с Кавказа. В Лондоне дали свое согласие и стали разрабатывать план операции. Предполагалось прорваться к Стамбулу через пролив Дарданеллы. Но англичане и французы хотели, чтобы атака велась одновременно с Россией – то есть и со стороны Босфора. В Петрограде всё подсчитали и решили, что до 1917 г. собрать достаточное количество сил будет проблематично. Союзники попросили Россию пересчитать, и в качестве стимула пообещали отдать Константинополь с европейской частью Турции. Желание взять под свой контроль Проливы у России имелось уже давно. Фактически появлялся шанс разделить на троих с Францией и Великобританией всю Османскую Империю. Соответствующее соглашение будет заключено в марте. А пока Лондон и Париж начали готовиться к Дарданелльской Операции.
План был таков: сперва уничтожить внешние форты, затем протралить пролив (убрать мины и различные заграждения), потом уничтожить внутренние форты и промежуточные укрепления, и, наконец, войти в Мраморное Море. Великобритания выделила для этого 1 линкор (“Queen Elizabeth”), 1 линейный крейсер, 5 легких крейсеров, 16 броненосцев, 22 эсминца, 9 подводных лодок, 24 тральщика, а также различные вспомогательные суда (медицинское судно, гидроавиатранспортник и проч.) – всего около 80 кораблей. К этим силам присоединилась Франция, выделив несколько броненосцев, крейсеров и подводных лодок. Примечательно, что высадка десанта изначально не предусматривалась, то есть Операцию проводили только морскими силами (что было весьма опрометчиво).
19 февраля крейсера начали обстрел внешних фортов. Он продолжался до 25 февраля, когда, наконец, удалось подавить их сопротивление. В пролив вошли тральщики и приступили к разминированию. За ними пошли крейсера. Однако внутренние форты открыли мощный огонь и заставили объединенный англо-французский флот отступить. Следующая попытка была предпринята 18 марта. Турки за это время успели укрепить свою оборону. Они позволили кораблям углубиться в пролив, и после этого обрушили на них всю мощь своей береговой артиллерии. Два французских броненосца получили достаточно сильные повреждения. Еще два подорвались на минах. Судьбу последних разделили и два британских броненосца, среди которых был “Иррезистибл”. В итоге из минного поля удалось выйти только французскому “Gaulois”. Остальные три броненосца затонули (два британских и один французский). Турецкие силы понесли потери лишь в виде 8 береговых орудий. Фактически Операция оказалась провалена. Британское командование приказало отступить и временно приостановило атаки.
Почесав голову, Союзники пришли к выводу, что без сухопутной армии никак не обойтись. Пехота могла бы помочь разобраться с береговыми орудиями. Поэтому в следующие недели британцы и французы занялись формированием соответствующих дивизий. В них вошли австралийские и новозеландские солдаты, а также индийцы, сенегальцы и даже Еврейский Легион. Представители последнего как раз вели с Лондоном тяжелые переговоры о создании в Палестине собственного государства. Всего для десантирования собрали 81 тысячу человек и 178 единиц артиллерии.
Основным местом для высадки был выбран Мыс Геллес на Галлиполийском Полуострове. Также происходила отвлекающая высадка в Бухте Анзак (севернее) и на азиатской части турецкого побережья в районе Кумкале. Операция началась утром 25 апреля. Мыс Геллес был поделен на 5 участков: Y, X, W, V, S. Самый главный участок для десантирования – V (южный), чуть менее приоритетные – W (юго-западный) и X (западный). На участках Y (северо-западный) и S (восточный) опять же проводились отвлекающие манёвры. Турки хорошо подготовились к десантированию Союзников. Берег был укреплен колючей проволокой и различными заграждениями. Пулеметчики в гнездах поджидали своих жертв. Стояла немецкая тяжелая артиллерия. Как только десантные лодки подплыли к берегу и с них начали спрыгивать солдаты – османы открыли шквальный огонь. На главном участке V первый эшелон был полностью разгромлен: из 700 человек 400 были убиты, остальные ранены. Второй эшелон подходил на углевозе “Ривер Клайд”, однако он сел на мель в 50 метрах от берега и тут же подвергся обстрелу. Британцы несли огромные потери. И, тем не менее, к полудню некоторые солдаты смогли добраться до берега, найти укрытия и окопаться. Аналогичная ситуация была на участках X и W. Здесь, правда, удалось сойти на берег еще в 9 часов утра. Но проволока мешала продвигаться вперед, а разрывающиеся артиллерийские снаряды наносили большой урон. В конце концов, англичане смогли закрепиться на всех трех участках, отбив атаки турецких войск. Но попытки соединиться из-за обстрелов терпели неудачу. Отряды оказались изолированы друг от друга. Хотя ночью им смогли доставить провизию. Самой успешной и простой оказалась высадка на участке S (восточный). Здесь британцы встретили наименьшее сопротивление и сумели быстро закрепиться. Но им приказано было дожидаться дальнейших указаний, поэтому помочь своим товарищам они не могли, а только лишь наблюдали за разгромом на южной оконечности Полуострова. На северо-западном участке Y англичане поначалу высадились вполне успешно. Однако затем подошли турецкие подкрепления и завязались кровопролитные бои. В конце концов, утром следующего дня из-за больших потерь десантники сели обратно в лодки и уплыли. Их отвлекающий манёвр помог собратьям на главных участках. Всего за первый день высадки на Мысе Геллес британцы потеряли до 6500 убитыми и раненными. Турки потеряли около 2000 человек.
На отвлекающем направлении – в районе Бухты Анзак (чуть севернее Габа Тепе) – десантировались австралийские и новозеландские, а также индийские части. Причем здесь высадка началась еще ночью после работы британской корабельной артиллерии по турецким фортам. Союзники должны были захватить ближайшие высоты, а затем продвинуться вглубь до Мал Тепе. Таким образом, они оказывались в тылу у турецких сил, которые обороняли Мыс Геллес, в результате чего османы лишались возможности отправлять подкрепления. Для десантирования использовались гребные лодки, которые буксировались пароходами, а за 50 метров до берега солдаты начинали орудовать веслами. Турки были готовы и открыли огонь по лодкам еще до того, как они достигли пляжа. Неся потери, австралийцы высадились на берегу и стали продвигаться вперед. Траншеи на первом хребте были оставлены османами. Но при подходе ко второму хребту австралийцы уже столкнулись с серьезным сопротивлением. Завязались бои. Гористо-холмистая местность была сложна для наступления и эвакуации раненных. К тому же турки активно использовали снайперов. Кроме прочего, возникли и организационные проблемы – еще при подходе к берегу перепутались лодки разных отрядов, и было непонятно, кто на каком фланге находится. Из-за больших потерь гребные лодки использовались для отправки раненных на госпитальное судно, поэтому высадка третьего эшелона задержалась, она началась только вечером. Десантировать артиллерийские орудия и вовсе не получилось. Тем не менее, австралийские и новозеландские солдаты постепенно углублялись в территорию Полуострова, захватывая траншеи противника. Но к вечеру турки предприняли контратаки. Ими руководил полковник Мустафа Кемаль (Ататюрк) – будущий глава послевоенной Турции. Союзнические войска начали отступать, оставив уже захваченные позиции. Османы успешно теснили своих противников и теоретически могли бы сбросить их в море. Но австралийско-новозеландские отряды на одном из последних холмов пошли в штыковую. Также была запрошена поддержка корабельной артиллерии. В конце концов, турки были остановлены. И союзнические командиры встали перед выбором: объявлять эвакуацию или удерживать небольшой плацдарм, на котором разместились десантные войска. В итоге приняли решение остаться и рыть глубокие, укрепленные траншеи. За день потери Союзников на этом участке составили около 900 человек убитыми и более 2000 раненными. Турки потеряли примерно 2000 человек. В последующие дни обе стороны предпринимали контратаки, но ни той, ни другой не удалось продвинуться на сколь-либо значительное расстояние.
Через четыре недели – 19 мая – турки предприняли попытку выбить австралийцев и новозеландцев с их плацдарма в Бухте Анзак. Они собрали для этого 42 тысячи человек, что вдвое превышало силы противника. Подготовка была на высоком уровне. Даже был прорыт подземный туннель для закладывания мины, правда, к намеченной дате его не успели закончить. Так или иначе, османы рассчитывали на эффект неожиданности. Но британские летчики, патрулирующие небо, буквально за день – 18 мая – заметили в долине большое скопление турецких войск, и предупредили своих товарищей. В ночь на 19 число на укрепленной линии австралийских окопов – на Quinn’s Post – все-таки была взорвана бомба. После этого османские солдаты открыли огонь из стрелкового оружия. Но непосредственно наступление пехоты началось лишь спустя пару-тройку часов, уже глубокой ночью. Основные силы турки сконцентрировали в центре – чуть южнее взорвавшейся бомбы, между German Officers Trench и Johnston’s Jolly. Они подбирались к австралийским окопам в тишине. Однако были замечены по отблескам винтовочных штыков. Союзники подняли тревогу и начали стрелять. Турки попали под анфиладный огонь, поскольку заработали пулеметы с флангов. Поэтому им пришлось отступать. Но в некоторых местах, несмотря на большие потери, османские солдаты сумели прорваться. Ручными гранатами была уничтожена пулеметная позиция. Еще один пулемет заклинило. Австралийским артиллеристам даже пришлось выводить из строя собственные орудия, чтобы их не захватили. Тем не менее, австралийцы перебили всех чужаков, которые оказались в их траншеях и ликвидировали прорыв. Южнее Lone Pine (ближе к правому флангу Союзников) турки продвигались через пшеничное поле. Однако дойти до цели так и не смогли. В целом их атака здесь провалилась. Весьма опасное положение у Союзников было на севере от взорвавшейся бомбы – на Russell’s Top. Там еще не успели закончить укрепления, и поэтому позиции были слабыми. Турки закидывали новозеландские окопы гранатами. Но и здесь их атака была отбита при помощи пулеметов. Когда начало светать, Союзники увидели множество отступающих османских солдат. Это облегчило ведение прицельного огня. Однако турецкое командование получило сообщение, что были захвачены некоторые позиции, поэтому подготовило вторую атаку. Перед ней был проведен артиллерийский обстрел. В районе взорвавшейся бомбы на Quinn’s Post наступали несколько раз. Однако всё безуспешно. В то же время на наблюдательном Посту №1 Кентенберийские Стрелки заметили построение пехоты в овраге Malone’s Gully. Развернув пулемет, они открыли огонь, и фактически сорвали новую атаку. Поражение османских войск было настолько тяжелым, что союзнические командиры даже думали пойти в контратаку. Но в последний момент это решение было отменено. Австралийцы не стали омрачать свою оборонительную победу рискованными действиями. Тем не менее, артиллерийские обстрелы с обеих сторон продолжались до конца дня. В ходе своего провального наступления турки понесли довольно большие потери: 3 тысячи убитыми и 7 тысяч раненными. Союзники потеряли всего 160 убитыми и 468 раненными. На следующий день – 20 мая – было объявлено перемирие для сбора тел и захоронения. Оно закончилось ружейной и артиллерийской стрельбой. И лишь 24 мая установилось уже постоянное затишье. До августа наблюдались только локальные перестрелки. А в августе Союзники все же смогли немного продвинуться вперед. Османам так и не удалось ликвидировать их плацдарм.
Другим местом для отвлечения внимания османской армии стало азиатское побережье Турции – в районе деревни Кумкале (прямо на входе в Пролив). Здесь работали французы. Около 5 часов утра началась артподготовка, в которой участие принимал также русский крейсер “Аскольд”. Сама высадка произошла около 10 часов, сильное течение долго мешало лодкам подобраться к берегу. Французы сравнительно легко смогли захватить саму деревню. Но вечером турки пошли в контратаку. Бои продолжались всю ночь. Французы были выбиты с территории кладбища, после чего решили начать переговоры о капитуляции. Но затем произошло нечто странное. Во время тяжелых ночных переговоров был похищен капитан Рёкель, а когда стало светать – французские корабли с моря открыли артиллерийский огонь. Турки отступили вглубь берега и запросили подкрепление. Впрочем, французы вечером 26 апреля уже начали эвакуацию. В ходе этого отвлекающего манёвра они понесли потери в 786 человек. Потери османской армии составили 1735 человек. В целом французы могли гордиться собой. Главной их целью было – сковать противника и удержать его отряды от переброски на Мыс Геллес. Кроме Кумкале, совершались также отвлекающие действия в других местах, правда, они не сопровождались боями, скорее, являлись имитацией, и до реальной высадки дело не дошло.
Так или иначе, на главном участке – Мысе Геллес – союзнические войска осуществили высадку и сумели закрепиться, окопавшись на своих позициях. К 27 апреля разрозненные отряды соединились между собой и расширили захваченный плацдарм. Все было готово к дальнейшему продвижению. И 28 числа после артиллерийского обстрела с моря англо-французские войска пошли в наступление. Целью было – захватить деревню Критию. Французы шли на правом фланге. Окружающая местность была довольно сложной, с множеством оврагов, проходы через которые турки перегородили колючей проволокой и другими заграждениями. На собственных позициях они оборудовали пулеметные гнезда и различные укрытия. На левом – британском – участке фронта находилось Ущелье Галли, проход через которое также прикрывал пулеметный пост. Для его захвата необходимо было вскарабкаться вверх по вертикальному склону высотой около 90 м. В общем, дойти до населенного пункта представлялось действительно непростой задачей. В своих многочисленных попытках Союзники понесли высокие потери. Но существенно продвинуться им не удалось. А после полудня турки получили подкрепление и сами пошли в контратаку. Она могла бы стать сокрушительной для британцев, если бы с моря им не оказала поддержку корабельная артиллерия. В конце концов, Союзники предприняли последнюю попытку прорыва. Но она также потерпела неудачу, а после нее иссякли запасы патронов и снарядов. В этот момент османы начали оттеснять англо-французские войска обратно. И только героические действия сенегальских (колониальных) отрядов не допустили обхода флангов. К концу дня Союзники прекратили наступление, так и не достигнув своей цели. Британцы потеряли за день около 2000 человек убитыми (из наступающих 14 тысяч). Французы – около 1000. Потери турецких сил оцениваются в 2378 человек убитыми. Таковы были итоги Первой Битвы за Критию.
Османы, после того, как отбили союзническое наступление, сами провели несколько контратак. Однако они успехом не увенчались. Поэтому спустя неделю Союзники решили повторить свою попытку захватить деревню Критию и находящуюся за ней высоту Ачи-Баба. Из Бухты Анзак было переброшено несколько австралийских и новозеландских отрядов. Но британцы до сих пор не знали, где именно находятся турецкие укрепления. Воздушная разведка не помогла обнаружить их. Поэтому новое наступление велось практически вслепую. 6 мая утром была проведена короткая артподготовка, которая оказалась неэффективной. Генералу Айлмеру Хантер-Вестону не хватало снарядов. Тем не менее, в 11 часов, после некоторой задержки, англичане и французы пошли в атаку. Французы опять на правом фланге – по направлению к отрогу Керевес. Несмотря на большие потери, продвинуться удалось не более, чем на 400 метров. Это был скромный результат. На следующий день попытки подойти к деревне продолжились. Англичанам с моря помогала корабельная артиллерия. Но прорыва также не произошло. Удалось преодолеть все те же несколько сотен метров. Третий день наступления снова был тяжелым, и вот он уже окончательно истощил силы Союзников. Из 25 тысяч солдат к тому времени из строя выбыло около 6 тысяч. Британцы не могли позволить себе такие потери, ведь еще нужно было оборонять плацдарм. К тому же вскрылись проблемы в работе медицинской службы. Эвакуация раненых была недостаточно хорошо организованна. Как, впрочем, и весь план атаки был не слишком хорошо подготовлен. В конце концов, наступление остановили. Союзники потеряли около 6500 убитыми и раненными. Османы потеряли около 2000. Так закончилась Вторая Битва за Критию.
Британские командиры просили прислать им подкрепления, т. к. понятно было, что имеющимися силами захватить Полуостров не получится. Подкрепления были присланы, однако не в том количестве, в каком запрашивались – вместо четырех дивизий всего одна. В то же время на артиллерийскую поддержку с моря уже нельзя было рассчитывать в прежнем объеме. Дело в том, что в течение мая немецкие подлодки провели несколько атак на союзнические корабли. Были торпедированы три британских линкора. Из них два затонули: 25 мая “Триумф” – 78 погибших, и 27 мая “Маджестик” – 49 погибших. Тем не менее, в июне, 4 числа, была предпринята третья попытка занять деревню Крития. При подготовке к атаке было решено применить несколько дополнительных приёмов. После первого артиллерийского обстрела создавалась видимость наступления, что заставляло турецких солдат выйти из укрытий и занять позиции в окопах. Но сразу же за этим наступление останавливалось, и следовала новая бомбардировка. Это привело к большим потерям среди османов (до нескольких тысяч солдат). Кроме этого, англичане использовали бронеавтомобили. Возможно, за счет них они сумели достичь относительного успеха в центре – 42-я Дивизия продвинулась почти на километр и заняла траншеи противника. Но на флангах ситуация была не такой замечательной. Поэтому 42-я Дивизия вскоре оказалась под анфиладным (боковым) огнем. Помочь ей было особо нечем. Французы на правом фланге, понеся большие потери, заявили, что не могут больше наступать. После турецкой контратаки 42-ой Дивизии пришлось отойти назад и закрепиться в районе виноградника. В итоге Союзники по результатам всего дня смогли продвинуться не более, чем на 250 метров.
Боевые действия на Мысе Геллес продолжались. В конце июня было проведено наступление на левом фланге – у Отрога Галли (Gully Spur). Ему предшествовала мощная двухдневная артподготовка. Пехота пошла в атаку утром 28 числа. Возможно, из-за предварительной бомбардировки британцам удалось сравнительно быстро занять позиции противника. В Ущелье Галли, в котором османские войска были защищены от снарядов, летящих с моря – поводов для радости было уже не так много. Одна только 156-я Бригада потеряла убитыми около 800 человек. Впрочем, и на Отроге британцам не было времени расслабляться. После того, как они заняли вражеские окопы – турки стали предпринимать контратаки. Желая вернуть потерянные траншеи, османские солдаты ходили в отчаянные штыковые без поддержки артиллерии. Это заканчивалось огромными жертвами. Британцам даже пришлось сжигать трупы противника, потому что их было слишком много. На просьбы заключить перемирие, чтобы забрать трупы – британцы ответили отказом, т. к. поняли, что турки не могут наступать по телам своих бывших товарищей. Тем не менее, атаки продолжались. Последняя живая волна попробовала пробить стену британской обороны 5 июля. Но эта волна была рассечена пулеметными очередями. В конце концов, турецкие командиры отказались продолжать “мясные штурмы”. Атаки прекратились. И в целом линия фронта на этом участке стабилизировалась. Союзники потеряли 3800 человек убитыми и раненными. Турки потеряли около 6000. Пользуясь случаем, британцы провели 12 июля новое наступление – вдоль Achi Baba Nullah, восточнее дороги на Критию. В этот раз массированная артподготовка с моря и суши включала также и бомбардировку с воздуха. После этого началась пехотная атака. Сперва удалось захватить окопы противника. Но затем из-за несогласованности действий разных частей возникла неразбериха. Отдельные отряды продвинулись слишком далеко и оторвались от основной массы войск. Они попали под сильный пулеметный и артиллерийский огонь. И в итоге вынуждены были отступить.
В августе Союзники решили увеличить свой контингент и высадиться в Заливе Сувла, что севернее Бухты Анзак. Но сперва нужно было провести несколько отвлекающих манёвров. Одним из таких манёвров стала Битва за Виноградник. Место боёв располагалось в центральной части Мыса Геллес. Британцы смогли закрепиться там в районе виноградного кустарника (The Vineyard) в начале июня. Какой-то крупной операции не планировалось. Но бригадный генерал Стрит, видимо, решил проявить ненужную инициативу, И в итоге спровоцировал упорное, кровопролитное, но практически бесполезное сражение. Наступление началось 6 августа. Британцам поначалу удалось захватить турецкие окопы. Однако турки в ходе последовавшей контратаки выбили их оттуда. Британцы снова пошли в наступление, и снова захватили турецкие окопы. Но снова турки во время своей контратаки выбили их. На следующий день английское наступление возобновилось. И теперь уже удалось прорвать линию фронта. Но потом опять что-то пошло не так, и турки снова выбили своих противников, но на этот раз, кажется, не отовсюду. Англичане удержали за собой некоторые позиции. В течение последующей недели турки неоднократно ходили в контратаки. Шли ожесточенные бои буквально за каждый куст, за каждую гроздь. Но к каким-либо существенным изменениям они не привели. В конце концов, 13 августа стороны выдохлись. Несмотря на отсутствие значимого результата, Битва оказалась одной из самых кровавых и напряженных. Англичане потеряли более 4000 человек. Турки – около 7500. Наверное, отвлекающий манёвр в целом удался, но, кажется, генерал Стрит слегка перестарался.
6 августа началась высадка в Заливе Сувла. Он находился в 8 км севернее Мыса Анзак, а на берегу располагалось соленое озеро. Необходимость десантирования именно там объяснялась тем, что другие участки (в частности, плацдарм Анзак) были и так уже перегружены войсками. В соответствии с планом требовалось захватить возвышенности, которые как бы окольцовывали равнину Сувла. План казался понятным. Но что-то пошло не так еще на стадии организации. Командующим был назначен генерал Фредерик Стопфорд, который никогда не руководил боевыми действиями, а просто был выбран по старшинству (по выслуге лет). Британцы вместе с солдатами из своих колоний высаживались на южном мысе Бухты (там было безопаснее всего). Первоначально их было около 20 тыс. человек. Стопфорд захотел, чтобы высадка также прошла в самой Бухте, что выглядело рискованным, поскольку в этом месте не было исследовано дно. Турецких войск под командованием немцев здесь было не более 1500. Они были расположены как на холмах, так и внизу на самой равнине. Десантирование началось вечером в 22:00. И сразу же превратилось в катастрофу. На южном мысе британцы смогли занять холм, но понесли большие потери. А вот в самой Бухте все пошло наперекосяк. Десантные корабли сели на мель в 910 м от берега, и морские пехотинцы вынуждены были идти по горло в воде. Затем они оказались зажаты между узкой береговой линией и соленым озером, став подходящей мишенью для снайперов. При этом в кромешной темноте возникла неразбериха между отдельными отрядами. Все это привело к большим потерям Союзников. А в самый ответственный момент стареющий генерал Стопфорд, наблюдающий за высадкой на своем корабле, просто заснул. В итоге вся операция превратилась в один сплошной хаос. Австралийские железнодорожные инженеры, сошедшие на берег уже утром, оставались без приказов до самого вечера. Также у солдат возникли перебои с питьевой водой. Несмотря на это, некоторым частям к концу дня 7 августа удалось захватить два холма к востоку от соленого озера. Но потери были слишком высокими – 1700 человек, что превышало численность турецких войск, находящихся здесь. В последующие пару суток Стопфорд не предпринимал активных действий. Это дало возможность османам перебросить подкрепление. В итоге, когда 32-я Бригада дошла до одного из хребтов, она была полностью уничтожена турецкими солдатами, занявшими эту позицию раньше. В разгар боев 9 августа уже было понятно, что шанс на удачный исход операции упущен. Генерал Стопфорд 15 августа был снят с должности. Но последующие замены и перестановки привели к добровольному увольнению еще некоторых генералов. Все это существенно сказалось на качестве командования и скорости принятия решений.
В конце концов, из Франции был вызван новый командующий генерал-лейтенант Джулиан Бинг. А пока он плыл по морю, его обязанности были возложены на генерал-майора Бовуара де Лиля. Однако, несмотря на переброску в Залив Сувла дополнительного десанта, исправить общее положение дел было уже невозможно. Бомбардировка с моря не давала какого-либо результата, поскольку турецкие позиции были скрыты и часто совсем не видны из-за тумана. Авиация сумела потопить несколько турецких кораблей и ухудшить снабжение, но не критично, поскольку припасы доставлялись также и по земле. Последнее крупное наступление Союзников было предпринято 21 августа. Необходимо было захватить Холм Скимитар на юге. Первыми счастье попытали солдаты ирландского батальона. Однако, захватив опорный пункт, они попали под обстрел артиллерии, расположенной на господствующих высотах, и вынуждены были уйти. Следом за ними через соленое озеро пошла 2-ая Конная Дивизия. Еще во время марша она понесла потери от огня шрапнельными снарядами. А при подходе к самому Холму был убит бригадный генерал. В итоге все попытки занять вершину провалились. Только в этот день британские войска потеряли убитыми и раненными около 5300 человек. Потери османов оказались вдвое меньше. После этого крупных наступлений уже не было. Интенсивность боев резко пошла на спад. Осенью начались дожди, затопившие траншеи, а в ноябре прошла снежная метель. Тысячи солдат простыли и получили обморожение. В конце концов, в декабре британские войска были эвакуированы из Залива Сувла. Общие потери за время этой отдельной операции превысили 21,5 тысячу человек. Турки потеряли меньше 20 тысяч.
Тем временем, на плацдарме в Бухте Анзак без дела тоже никто не сидел. Командующий всей Дарданелльской Операцией генерал Ян Гамильтон решил провести наступление вдоль хребта Sari Bair, чтобы захватить возвышенности и получить возможность для соединения с войсками в Заливе Сувла. Эта подоперация состояла из нескольких частей. Предполагалось, что Союзники захватят Chunuk Bair, Hill Q и Hill 971. А для отвлечения внимания австралийцы должны были атаковать возвышенность Lone Pine (Одинокая Сосна). Последний манёвр оказался вполне успешным. Британцы прорыли тоннели, чтобы уменьшить время перебежки между двумя линиями траншей. Наступающие шли тремя волнами. А перед этим три дня по турецким окопам работала артиллерия. Первая волна сумела продвинуться достаточно далеко, т. к. османы после обстрела не успели еще выйти из укрытий и занять огневые позиции. Но затем австралийцы понесли существенные потери. Тем не менее, им удалось пробиться к штабу и захватить главную линию обороны. Затем несколько дней шли тяжелые бои в траншеях, которые были подготовлены весьма основательно и напоминали лабиринт. Турецкое командование посылало подкрепления. Однако вернуть захваченные траншеи уже не удалось. Австралийцы праздновали победу. Они потеряли убитыми и раненными 2277 человек. Турецкие потери оказались в 2-2,5 раза выше.
Несмотря на этот локальный успех, общий итог всей наступательной операции вдоль хребта Sari Bair оказался для Союзников неутешительным. По плану их силы должны были разделиться на две колонны: правая и левая. Правая шла вдоль отрога Rhododendron Spur и захватывала высоту Chunuk Bair. Левая в свою очередь тоже разделялась на две части: первая – северная – шла через отрог Azma Dere к отрогу Abdul Rahma и захватывала Hill 971; вторая, соответственно, должна была занять Hill Q, расположенный между Chunuk Bair и Hill 971. Что касается Chunuk Bair, то османы не ожидали атаки на эту вершину, считая местность труднопроходимой. Только Мустафа Кемаль (Ататюрк), будущий лидер послевоенной Турции, а тогда командир 19-ой Дивизии, предвидел там боевые действия и пытался укрепить оборону, однако не нашел понимания среди представителей высшего командования. Британцы вышли поздно вечером 7 августа. Малые группы должны были расчистить путь для основной массы войск. Они продвигались в долинах по обе стороны отрога, захватывая один турецкий пост за другим. Бои были тяжелыми, поскольку приходилось ликвидировать позиции пулеметчиков. И до рассвета свою задачу успела выполнить только северная группа. С восходом Солнца османы начали присылать подкрепления, засуетился Мустафа Кемаль и немецкие офицеры. В итоге наилучшая возможность для захвата высоты в ночное время была упущена. Британцы стали нести большие потери от неприятельского огня. Возникли споры между генералами и командирами батальонов: первые требовали продвигаться дальше через высоты Apex и Pinnacle, а также захватить плато Farm; вторые, наблюдая за смертью своих людей, настаивали на том, что атаку следует возобновить лишь ночью. В конце концов, командиры батальонов одержали верх, и наступление было приостановлено. Ночью была осуществлена бомбардировка с моря, которая выбила турецких солдат с их позиций. Благодаря этому к утру британцы смогли занять вершину Chunuk Bair. Однако земля на ней была каменистая и слишком неудобная для окапывания, поэтому закрепиться на ней было сложно. К тому же левая группа, которая должна была захватить Hill Q и Hill 971 (что предусматривалось планом) – не сумела этого сделать. В итоге османы принялись обстреливать с этих холмов британцев на Chunuk Bair. А затем их пехота под командованием Мустафы Кемаля пошла в контратаку. На протяжении всего дня британцы и новозеландцы пытались удержать за собой вершину. Битва была настолько интенсивной, что из-за частой стрельбы нагревались деревянные приклады винтовок. Союзники несли большие потери. Весь холм оказался усеян трупами. А подполковник Мэлоун вообще был убит артиллерийским снарядом, выпушенным с дружественного корабля (по ошибке). В Веллингтонском Батальоне из 760 человек погибло 711. Похожая ситуация была и в других. Наконец, вечером, когда бои стали затихать, британцы и новозеландцы отступили с вершины обратно на Rhododendron Spur. Их общие потери составили 12-13 тыс. человек (из 15 тыс.). Одной из причин неудачи стало то, что левая группа частично заблудилась и не смогла вовремя занять Hill Q. Османы потеряли около 9200 солдат.
Провал наступления на хребте Sari Bair, в общем-то, поставил крест на всей Дарданелльской Операции. Точнее – вбил последний гвоздь в крышку ее гроба. Операция зашла в тупик. Дальнейшие попытки захватить ключевые высоты казались бессмысленными. На других направлениях также не получилось достичь какого-либо успеха. Так, например, в течение всего времени с начала высадки Союзников турки сохраняли контроль над высотой Baby 700. Британцы с австралийцами не смогли взять ее в мае. Попытка захватить ее через перевал Nek в августе также потерпела неудачу. Из 600 отправленных в атаку британцев и австралийцев 372 были убиты или ранены. Солдаты шли в темноте без патронов только с гранатами и штыками (штык-ножами), но попали под мощный пулеметный огонь. Последней более-менее серьезной попыткой что-нибудь занять стала серия атак на Высоту 60 (Hill 60) – 21 августа и 27 августа. Она располагалась на севере хребта Sari Bair и могла связать Бухту Анзак с Заливом Сувла. Союзники потеряли на ней 1100 человек. Но никакого результата не добились. Турки с помощью пулеметов удержали свои позиции.
Осенью британское командование решило эвакуироваться с Галлиполийского Полуострова. Приказ был отдан 7 декабря. И к 9 января 1916 г. войска Союзников оставили османскую территорию. Перед уходом они провели ряд бомбардировок и взорвали мины в туннелях под вражескими окопами. Потери англичан в этой провальной Операции превысили 198 тыс. человек, из которых более 31 тысячи были убиты, более 78 тысяч были ранены и более 78 тысяч заболели. Французы потеряли около 47 тысяч (9 тысяч убитыми). Также отдельные потери Австралии составили более 7,5 тысяч убитыми и более 18,5 тыс. ранеными. А Новая Зеландия потеряла около 7,5 тыс. человек, из которых 3,4 тысячи были убиты. В Лондоне сильно недооценили османскую армию, которая, между прочим, приобрела опыт в Балканских Войнах. Как итог: поражение ударило по британскому престижу в мире. Уинстон Черчилль, возглавлявший Адмиралтейство, будучи главным инициатором Операции, подал в отставку. Турция, наоборот, воспряла духом и доказала всему миру, что способна сражаться за собственные земли. Мустафа Кемаль Ататюрк, будущий лидер нации, проявил себя как способный и решительный полководец, он был повышен в звании до генерал-майора. Общие потери Турции превысили 255 тыс. человек, из которых 56,6 тысяч были убиты (по некоторым данным убито было более 100 тысяч).
Кавказский Фронт
В 1914 г. боевые действия на Кавказе завершились Сарыкамышской Операцией, полное окончание которой пришлось уже на январь 1915-го. Энвер-паша оказался плохим стратегом и организатором, его планы полностью провалились. Турецкая армия потерпела от России сокрушительное поражение. В Стамбуле, чтобы не рефлексировать, во всем обвинили непокорное армянское население. Для этого имелись определенные основания: армяне и вправду вели партизанскую деятельность, они нападали на турецких полицейских и чиновников, портили телеграфные линии, совершали другие диверсии. А многие и вовсе переходили на российскую сторону. Однако стоит заметить, что у самих армян оснований для этого было предостаточно, ведь на протяжении сотен лет их народ в Османской Империи подвергался различным притеснениям и намеренному истреблению. Теперь напряжение между турками и армянами достигло своего пика. Масла в огонь подлили русские генералы, которые на отвоеванных землях (например, в Аджарии) начали карательные операции против мусульман. По данным Стамбула было вырезано более 45 тысяч человек, 10 тысяч депортировано. Все это вело лишь к взаимному озлоблению и разжиганию ненависти. Турецкое руководство, пытаясь остановить развал Империи, стало усиленно искать внутреннего врага. И, конечно же, нашло. Этим врагом были объявлены армяне. Их национальные отряды в турецкой регулярной армии были разоружены. После этого начались расправы. Однако самое ужасное было еще впереди.
В Османской Империи было 6 вилайетов с армянским населением. Наиболее заселенным армянами являлся Ван (53%), граничащий с Персией. Накануне войны турецкие власти обещали предоставить автономию в обмен на предательство России. Но лидеры армян отвергли это предложение. Помня о предыдущих случаях жестокости, они, наоборот, начали усиленно вооружаться. В Стамбуле это вызвало еще большее раздражение. С февраля 1915 г. у армянских солдат в составе турецкой армии начали отбирать оружие и переводить их в строительные батальоны, а затем и просто убивать. В Ванском вилайете турецкая полиция проводила обыски, пытаясь найти контрабандные ружья, но в ряде случаев просто подбрасывала собственные винтовки, таким образом, создавая искусственный повод для ареста. К апрелю в Стамбуле уже был готов план по массовой депортации армян, среди местных чиновников его распространяли в устных приказах. Массовая резня армянского населения началась 19 числа. Турки сжигали целые деревни. В ответ на это армяне стали готовить город Ван к обороне. Он имел сложную схему и был разделен, армяне жили в основном в восточной части, которая была превращена в крепость (некоторые армяне также проживали в Старом Городе). Однако силы защитников были невелики – всего 1500 бойцов с 500 винтовками, 2 пушками и 750 пистолетами. Запас патронов также был весьма ограниченный. Турки же собрали на город 12 тысяч солдат регулярной армии с 12 орудиями, а также привели с собой различные бандитские формирования. Несмотря на очевидное превосходство противника, армяне стойко сопротивлялись на протяжении месяца. Они умудрились взорвать турецкий арсенал и захватить несколько позиций, включая административные здания. Турки потеряли около 1000 солдат. Одновременно были отправлены сообщения русской армии с призывом о помощи. 16 мая генерал Юденич привел на выручку 4-ый Кавказский Армейский Корпус. Османские войска вынуждены были отступить. Казаки, к которым присоединились и армянские отряды, устроили резню мусульманского населения и сожгли мечети. Однако в июле русские вынуждены были уйти из этого региона, организовав эвакуацию 200 тысяч армян. Те, кто остался в городе – был убит вновь прибывшими турецкими солдатами. В итоге Ван практически обезлюдел. А по всему вилайету в различных деревнях турки истребили около 55 тысяч армян.
Еще до событий в Ванском вилайете турки начали массовую депортацию армянского населения. Первыми этой процедуре подверглись жители Зейтуна, расположенного в центральной части Анатолии. Произошло это 8 апреля. Данный факт опровергает версию официальных властей о том, что депортация была ответом на восстание в Ване. На самом деле восстание в Ване стало ответом на действия Стамбула. Османская Империя пребывала в глубоком кризисе. Правительство младотурок не знало, как удержать не титульные нации в составе государства. В условиях внешнего передела – то есть мировой войны – насилие и тирания работали все хуже и хуже. А других инструментов отсталая Турция не знала. Очевидно, что для большинства малых народов деспотическая власть Порты совершенно не являлась привлекательной. Это очень болезненно било по имперским амбициям военных офицеров, которые вышли из числа младотурок и захватили рычаги управления страной. Осознание упадка своей Империи и неспособности сдержать ее развала порождало нечеловеческую жестокость, к которой прибегали глава государства Энвер-паша и его соратники. Желая оправдать собственные неудачи в Сарыкамышской Операции, они обвинили во всем армянское население. И в начале апреля уже фактически организовали депортации. Но оборона города Ван вызвала у них демоническую ярость. После чего депортация стала принимать максимально деструктивные и смертоносные формы. Мужчин вывозили в безлюдные места и убивали. А затем стариков, женщин и детей начинали водить по пустыне, в которой те умирали от истощения, жажды и голода. Многих по дороге сбрасывали в реки или вырезали в ущельях. При этом нападение иррегулярных османских частей, ведущих полукочевой образ жизни, всячески поощрялось. В деревнях армян сжигали заживо в деревянных постройках. А в прибрежной зоне загоняли на корабли и топили в море. По сути, это было намеренное истребление армянского народа. Причем уничтожению подвергались жители не только восточных регионов, граничащих с Россией, но всех областей Анатолии, включая центральные и западные провинции.
Турецкая жестокость в отношении армян мало чем отличалась от жестокости нацистов Третьего Рейха, с которой мир столкнулся через 20 лет и про которую известно намного больше. Османские садисты применяли бесчеловечные казни и пытки. Армян распинали на крестах, подковывали им ноги, убивали их в банях перегретым паром. А также проводили над ними медицинские эксперименты, намеренно заражая инфекционными болезнями и травя различными ядами. Это является ярким примером того, куда может завести безумная идеология радикального национализма и шовинизма. Турецкий врач Мехмет Решид прямо называл армян “опасными микробами”. Агонирующая Османская Империя, находясь в предсмертном состоянии, очевидно, сходила с ума и все больше утрачивала связь с реальностью.
Точные цифры – сколько именно погибло армян в 1915 г. – не установлены. Но в любом случае это сотни тысяч человек. Средние оценки колеблются в диапазоне 0,8-1,5 миллиона. Впрочем, истребление продолжалось и в последующие годы. До Европы и Америки дошла информация о геноциде армян со стороны турок. Страны Антанты осудили эти зверства и стали собирать благотворительную помощь. Однако в условиях войны Западные политики вряд ли могли сделать что-то большее. Разве что усерднее бороться против Османской Империи, стремясь ее поскорее разрушить. Известны случаи, когда сами турки пытались помогать армянам, в том числе, чиновники отказывались выполнять преступные распоряжения. Некоторые немецкие специалисты, находящиеся в Турции, также критиковали жестокости, пытаясь привлечь внимание общественности. Но по большей части германское командование закрывало глаза на действия своего восточного союзника.
Положение армян во многом зависело от действий российской армии. Ее командиры по возможности старались выводить единоверцев из зоны боевых действий. Но это получалось не всегда. В июле 4-й Кавказский Армейский Корпус под командованием генерала Петра Огановского собрался к западу от озера Ван и выдвинулся по направлению на город Муш. Однако очень скоро он столкнулся с превосходящими силами противника. Турки развернули здесь 3-ю Армию численностью около 40 тыс. человек. Огановский располагал лишь 22 тысячами. Начались ожесточенные бои. Буквально через несколько дней османы перешли в контрнаступление и погнали русских обратно. Русские бежали далеко, оставляя за собой целые поезда с боеприпасами. К концу июля они уже покинули пределы озера Ван. Османы дошли почти до Алашкерта, вернув себе контроль над всем Ванским вилайетом. Эта неудачная для России Битва при Манцикерте обернулась потерями в 10 тысяч солдат. В свою очередь турки потеряли около 6 тысяч. Оказавшись в местах преимущественного расселения армян, они занялись очередными убийствами и грабежами. Женщин и детей, не успевших уйти с русскими войсками, сжигали заживо. В городе Муш армяне оказали отчаянное сопротивление. Но из-за своей малочисленности и недостатка боеприпасов были перебиты.
Между тем, у русских после поражения под Манцикертом возникла угроза прорыва фронта. Турки намеревались идти дальше на север, вплоть до Карса. И генерал Юденич, чтобы хоть как-то исправить положение дел, решил нанести контрудар во фланг. В российской историографии это получило название – Алашкертская Операция. Бои развернулись в районе Каракилиса в конце июля. Русским войскам теперь сопутствовала удача, они сумели нанести османам существенный урон – около 10 тыс. убитыми и 6 тыс. пленными (потери с российской стороны неизвестны). В первых числах августа город Каракилис перешел под контроль бойцов 4-го Кавказского Корпуса. На этом фронт временно стабилизировался.
Под конец 1915 г. российское командование спланировало наступательную операцию. Удар предполагалось нанести по направлению на Эрзурум. До войны и варварского геноцида, устроенного турками, этот город населяли преимущественно армяне. Сейчас его захват открывал дорогу в Пасинскую Долину. В перспективе это позволяло пойти как на запад к побережью Черного Моря, так и на юг – в долину реки Евфрат. Османские военачальники понимали стратегическую важность этого места, поэтому построили здесь мощные укрепления, усилив их пулеметными гнездами и артиллерийскими батареями. Впрочем, и генерал Юденич относился к штурму вражеских позиций со всей серьезностью. Операция была тщательно подготовлена: противника вводили в заблуждение дезинформацией, а, между тем, незаметно накапливали войска и боеприпасы, поставляя их небольшими партиями. Наступление необходимо было начать до прибытия турецкого подкрепления с Галлиполийского Полуострова, где войска высвобождались после отражения неудачных атак Великобритании и Франции. Но турки не ожидали, что русские объявятся здесь зимой, поэтому отправили свое подкрепление в Месопотамию. В итоге Юденич смог обеспечить себе некоторое численное превосходство в живой силе и орудиях: почти 180 тысяч бойцов против 144 тысяч. Проблемой оставалась плохая координация действий с Союзниками.
Само наступление началось уже в январе 1916 года. Основные силы – 2-ой Туркестанский Армейский Корпус и 1-ый Кавказский Армейский Корпус – заходили с северо-западной стороны на левый турецкий фланг, пытаясь ударить в тыл. Дополнительные силы – 4-ый Кавказский Корпус – выдвигались восточнее и отвлекали на себя внимание. Также на море поддержку оказывали корабли, затрудняя сообщение с Трапезундом. Действия русских застали врасплох турецкое командование. Переход через горы в это время года являлся крайне трудной задачей. Тем не менее, российская армия с боями успешно продвигалась вперед. Турки попробовали контратаковать. Но у них это получилось не очень хорошо. К 14 января русские смогли подойти к Кеприкею для того, чтобы перерезать коммуникации с Эрзурумом. Генерал Махмут Камиль-паша начал перебрасывать подкрепления на север, и в итоге значительно ослабил свои южные позиции. Этим воспользовался генерал Юденич, нанеся удар в окрестностях Кеприкея. Турки вынуждены были отступить в Эрзурум, поспешно сжигая склады с боеприпасами.
После взятия Кеприкея наступление было приостановлено. Перед захватом Эрзурума требовалось провести тщательную разведку и составить отдельный план, ведь местность была достаточно сложной (множество хребтов и ущелий). Юденич активно использовал авиацию, которой османская армия здесь не обладала. Это стало большим тактическим преимуществом. Атака на форты, окружающие город, началась 11 февраля в самый неожиданный для турок момент – ночью во время снежной метели, после многочасовой артподготовки. Османские солдаты практически не видели своих замаскированных противников. А те постепенно подходили к вражеским позициям и брали их штурмом. Наконец, 15 февраля в наступление пошла кавалерия, чтобы перерезать туркам пути отхода. Это привело к паническому бегству из города. Поэтому сам Эрзурум был занят без боя – османы и немецкие офицеры просто оставили его.
В Эрзурумской Операции российская армия одержала блестящую победу. Турки потеряли по одним данным 15 тыс. человек, по другим данным – 66 тысяч, из которых 13 тысяч были взяты в плен. Потери русских составили 2300 человек убитыми и 14,7 тысяч раненными. Взятие Эрзурума открывало дорогу на прибрежный Трапезунд и в долину реки Евфрат. Но это уже были кампании 1916 года.
Месопотамия
Стамбулу тяжело было контролировать все обширные территории своей разлагающейся Империи. На Кавказе османов теснили русские. А в Ираке, продвигаясь вверх по рекам Шатт-Эль-Араб и Тигр, кусочек за кусочком отщипывали англичане. В апреле генерал Сулейман Аскери Бей привлек на свою сторону некоторые арабские племена и совершил нападение на английский лагерь в Шайбе (рядом с Басрой). Однако его атаки были отбиты. Он потерял 2400 человек, сам получил ранение, и чтобы не растягивать удовольствие – застрелился. Турки начали усиливать Месопотамское направление, создали 6-ую Армию и назначили ее командующим немецкого генерала Кольмара фон дер Гольца. Но британцев это пока не останавливало. В сентябре под началом генерала Чарльза Таунсенда они разбили турецкие войска и вошли в город Эль-Кут (Кут-Эль-Амар). А к ноябрю они уже почти достигли Багдада, заняв руины находящегося неподалеку древнего города Ктесифон. И тут османы психанули не на шутку. Они собрали силы и нанесли мощный удар. Сеча на фоне многовековых развалин продолжалась четверо суток. Нурредин-паша, сменивший зачехлившегося Сулеймана, обладал численным превосходством – 18 тыс. бойцов против 11 тыс. Несмотря на большие потери, он сумел оттеснить британцев обратно к Эль-Куту. Сам он потерял 6200 человек. У британцев из строя выбыло 4600 солдат. Развивая свой неожиданный успех, Нурредин-паша направился к Эль-Куту, в декабре он окружил город и взял его в осаду. Таунсенд успел отправить кавалерию к основному лагерю в Басре. А к Нурредин-паше вскоре присоединился немецкий генерал фон дер Гольц. Он провел три неудачных штурма, которые были отбиты британцами. После этого против города были выстроены долговременные осадные укрепления. В течение января 1916 года британцы пытались снять осаду с Эль-Кута. Их войска под командованием генерала Эйлмера продвигались по обоим берегам Тигра. 6 января они столкнулись с турецкими силами в районе Шейх Са’ада. Сначала англичане разбили турок на правом берегу, а через пару дней – на левом. Османы отошли. Казалось, что британцы имели все шансы, чтобы вызволить своих товарищей. Но когда 13 января они снова атаковали лагерь противника, то потерпели поражение, потеряв более 2700 человек. Новую экспедицию к Эль-Куту возглавил генерал Корридж. Он повел в наступление 30 тысяч солдат. Однако турки к тому времени тоже прислали подкрепления. В марте-апреле состоялись новые сражения. Силы противников были примерно равны. И к большому разочарованию осажденных британские войска оказались разгромлены. По результатам обеих экспедиций они потеряли до 23 тысяч человек убитыми и раненными – в два раза больше, чем турки. После этого англичане с индусами в самом Эль-Куте вынуждены были сдаться, так как в городе уже начинался голод (погибло несколько тысяч человек). Это поражение надолго запомнилось королевским войскам. Некоторым утешением для них стала смерть от тифа немецкого генерала фон дер Гольца 19 апреля. Но вряд ли это могло полностью компенсировать собственные потери.
Египет
Еще в 1914 г. турецкое командование начало разрабатывать план по вторжению в британский Египет. Османы хотели перекрыть Суэцкий Канал – главный транспортный путь стран Антанты в Азию. Также хорошей идеей им показалось устроить на севере Африки мусульманское восстание против Западных держав. Предполагалось, что местные племена объявят “священную войну” иноземным захватчикам. Особая надежда возлагалась на ливийских бедуинов, которые также должны были зайти в Египет с другой стороны. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги. За самым глубоким оврагом британцы заняли прочную оборону. В январе 1915 г. турки оккупировали Синайский Полуостров. И ночью 3 февраля предприняли попытку форсировать Суэцкий Канал. Британцы только этого и ждали. Они открыли мощный артиллерийский огонь по понтонным мостам. Завязалась битва. Англичанам помогали военные корабли. В итоге османские войска понесли большие потери. Некоторые отряды сумели все-таки перебраться на западный берег (например, в районе Исмаилии), но затем они были уничтожены или взяты в плен. В конце концов, турки, лишившись 1500 человек, вынуждены были отступить. Начавшаяся песчаная буря дала дополнительный стимул для возвращения в лагерь. Британские солдаты потеряли в этом сражение всего 32 человека убитыми и 130 раненными – то есть в 10 раз меньше. В неудачной операции на стороне османов также принимали участие немецкие специалисты – например, генерал Фридрих Кресс фон Крессентштейн. После провала он вернулся к себе в преисподнюю и занялся дополнительным набором чертей. Впрочем, англичане тоже без дела не сидели, а принялись наращивать свои силы в Египте.
Персия
Как известно Персия была оккупирована Россией (север) и Великобританией (юг). И обе державы, естественно, имели там свои боевые отряды. Но в ноябре 1914 г. турецкие войска вторглись в Иранский Азербайджан и погнали оттуда небольшие русские силы. А тех, кто не успел убежать – взяли в плен (тысячу человек). Одной из проблем было то, что османо-персидская граница – пролегающая между армянским озером Ван и персидским озером Урмия – была защищена труднопроходимыми горами. Однако в январе 1915 г. ситуация на Кавказе после Сарыкамышской Операции изменилась в пользу России. Генерал Юденич приказал снова занять оставленную территорию в Персии. Русские войска начали с боями захватывать города, и к концу месяца уже вошли в Тавриз (Тебриз). До апреля обстановка оставалась более-менее спокойной. А в апреле турки снова вошли в Персию со стороны озера Ван. Первые атаки русская армия сумела отразить. В частности, 15 числа в ходе Дилиманского Сражения османы потеряли 3500 человек убитыми и отступили. В битве участвовали армяне. Однако в конце месяца турки провели еще одно наступление, и в этот раз им все-таки удалось выбить христиан из городов по западной стороне оз. Урмия. Но это был еще не конец. В мае турки провели новые атаки, и уже потерпели серьезное поражение, потеряв до 1000 человек убитыми. Российское командование осознало важность персидского фронта – страна обладала большими запасами нефти, которая в последние годы приобретала особое значение. Поэтому группировка здесь была усилена. В мае-июне генерал Юденич приказал генералу Шарпантье провести кавалерийский рейд вокруг озера Урмия и армянского озера Ван. Нужно было очистить регион от турок, а также усмирить полудикие племена курдов, которые постоянно совершали разбойничьи нападения, убивали русских офицеров и возили по местным селениями их головы. В целом рейд оказался успешным. Турецкие отряды были разбиты, а курды получили саблями по шапкам. На запад от персидской границы Шарпантье уже не встречал сопротивления.
В то же время летом среди иранцев стали расти националистические настроения, которые всячески подогревались турецкими и германскими агентами. Члены правительства даже требовали русских и британцев убраться из страны. Но британцы ответили на это оккупацией Бушира в Персидском Заливе, после чего правительство, чрезмерно требовательное к иностранцам, ушло в отставку. Однако агенты Центральных Держав продолжали делать свое черное дело. Осенью под их влияние попала персидская жандармерия. Ее бойцы стали оказывать вооруженное сопротивление российским и британским войскам. В частности, в английской зоне оккупации жандармы захватили несколько городов. А на севере страны сумели разоружить Персидскую Казачью Бригаду. Взывая к патриотическому чувству местных жителей, они поднимали народ на восстание и собирали ополченцев. На фоне всех этих событий власть шаха Султан Ахмада, и без того слабого правителя, начала рушиться. Пользуясь случаем, турки принялись обрабатывать членов правительства, чтобы добиться разрешения на ввод собственных воинских частей. В воздухе появился отчетливый запах гражданской войны. Англичане в ответ на образовавшуюся угрозу объявили охоту на германских и турецких засланцев. А русское командование собрало дополнительный кавалерийский корпус (чуть более 15 тыс. человек), переправило его через Каспийское Море и в конце октября высадило на иранском побережье. Корпус быстро занял город Казвин. А оттуда он тремя колоннами пошел на Хамадан, Кум и Тегеран. Жандармерия не могла тягаться с регулярной российской армией. Во второй половине декабря солдаты генерала Николая Баратова взяли под свой контроль Хамадан и Кум. Причем в отношении последнего удалось договориться с местным духовенством, которое сдало город, чтобы не подвергать разрушениям древние религиозные святыни.
Сразу после этого стало известно, что жандармы в союзе с ополченцами и пленными немцами готовят поход на Тегеран с целью похищения шаха. Мятежники располагались в 50 км от столицы в местечке Рабат-Керим. Действуя на упреждение, генерал Баратов отправил туда отряд из 700 человек. В ходе последующей битвы казаки обратили в бегство иранскую жандармерию. Шах остался сидеть в Тегеране под охраной русской армии. Одновременно с этим в сотрудничестве с англичанами были пресечены попытки перехода иранских отрядов через персидско-афганскую границу. Фактически страна оказалась отрезана от внешнего мира, и жандармы не могли призвать на помощь сочувствующих из соседних государств. А чтобы бороться с патриотической пропагандой жандармов, британцы начали набирать в свои ряды бойцов из местного населения. Благо, денег у них для этого было предостаточно.
Балканский Театр
В 1914 году сербы одержали потрясающую победу, фактически разгромив австрийскую армию. Но цена этой победы была высока – Сербия сама потеряла много боеспособных солдат. Ситуация была настолько тяжелой, что даже просьбы России оказать ей помощь во время Великого Отступления были проигнорированы. До осени 1915-го на Балканском Театре, по сути, ничего интересного не происходило. Но это затишье было обманчиво. Берлин и Вена уже готовили планы по совместному вторжению в Сербию. Как показали сражения 1914 г. в одиночку австрийская армия справиться не могла. Но сухопутный коридор к Османской Империи, так или иначе, нужно было пробивать. Поэтому немцы обязаны были поддержать своего младшего партнера. Также к коалиции Центральных Держав собиралась присоединиться Болгария. Ее непутевый монарх Фердинанд I заложил глубокую обиду на всех своих соседей за то, что ему не дали во время Второй Балканской Войны раскатать губу, а придавили ее сапогами. Теперь этот губошлёп решил отомстить своим обидчикам. Глядя на отступления из Польши российской армии, провалы англичан на Галлиполи и неспособность участниц Антанты прорвать Западный Фронт – Фердинанд полагал, что победа точно будет за Германией и Австро-Венгрией. Но будущие события показали, что стратегом Фердинандушка был никудышным и аналитик из него был такой же, как балерина из бегемота.
Тем не менее, для Сербии вступление в войну Болгарии означало огромнейшие проблемы. Страна оказывалась окружена врагами сразу с трех сторон, и отбивать скоординированное нападение в такой ситуации было практически невозможно. Как назло, Союзники тоже проморгали эту угрозу. Лишь 5 октября англо-французские войска начали высадку в греческом порту Салоники – буквально за день до вторжения германо-австрийской армии. Сербы могли выставить около 200 тыс. солдат. Им предстояло сдерживать натиск 330-тысячной немецкой орды, которая была усилена знаменитой германской тяжелой артиллерией, и двигалась с севера. С запада помощь Белграду могла оказать маленькая Черногория со своей 50-тысячной группировкой. Но союзник этот был, прямо скажем, так себе. Возможно, что сербы и продержались бы до прибытия с юга 150-тысячного британо-французского десанта. Но были большие сомнения, что этот десант успеет к началу вторжения с востока более чем 100 тысяч реваншистски настроенных болгар.
Итак, 6 октября немцы начали массированную бомбардировку сербских позиций. Обстрел был настолько мощный, что в одном только Белграде погибло 5 тыс. мирных жителей. Сразу за этим последовала сухопутная атака. Но вначале нужно было форсировать Дунай, предварительно проведя разминирование (город стоит на южном берегу реки). Это было непростой задачей. Тем более что сербы не собирались сидеть сложа руки, а принялись активно долбить по противнику из артиллерии. Тем не менее, под градом снарядов немцы сумели переправиться на остров Велико-Ратно, обустроив себе плацдарм. Далее с него пошла переброска войск уже непосредственно на сербский берег. Солдат подвозили пароходами и различными плавсредствами. Немцы работали четко и слажено, и, видимо, не без энтузиазма. Даже проливной дождь и сильный ветер не могли их остановить. К 9 октября уже развернулись уличные бои в самом Белграде. И в итоге, несмотря на ожесточенное сопротивление, город был захвачен. Уж чего, чего, но упорства немцам было не занимать. Только в первые пару дней они потеряли убитыми более 10 тыс. человек. Однако добились своей цели. Сербы вынуждены были оставить столицу и отступить на юг. Одновременно с этим германо-австрийские войска чуть западнее форсировали реку Дрину и обратили в бегство малочисленную черногорскую армию. Таким образом, балканский фронт был прорван.
В самый тяжёлый для себя момент сербы получили ещё один мощный удар – со стороны православнославянских братьев болгар. Хотя это и было в целом ожидаемо, но защититься от данной подлости не получилось. Чтобы сдержать натиск немцев на столицу, сербский генерал Радомир Путник перебрасывал к ней дополнительные отряды с востока. В результате болгарская граница оказалась ослаблена. Чем и воспользовался Фердинанд I. Утром 15 октября его солдаты начали вторжение в Сербию. Наступали двумя армиями: 1-ая – северная – шла по направлению на город Ниш; 2-ая – южная – двигалась в долину реки Вардар и должна была перерезать сообщение с Союзниками в Греции (самая ответственная задача). Несмотря на упорное сопротивление сербов и плохую погоду, 1-а Армия в течение трех недель дошла до Ниша и захватила его, потеряв около 9 тыс. убитыми и раненными (сербы потеряли 6 тыс.). 2-ая Болгарская Армия продвигалась еще стремительнее, достаточно быстро она оказалась по обоим берегам Вардара и заняла город Велес. Железнодорожное сообщение с греческими Салониками было прервано. Чтобы избежать полного окружения, сербы начали отступать в Албанию. А, тем временем, для восстановления связи с ними был послан французский генерал Саррай с тремя дивизиями. Он перешел границу и занял участок ж/д пути Ниш-Салоники в долине реки Вардар. Однако 3 ноября в районе села Криволак он был атакован болгарами. Поначалу он одерживал победу в сражении. Но затем к болгарам прибыло подкрепление, в результате чего их численность достигла 60 тыс. человек. В конце концов, Саррай, потеряв 3160 бойцов, вынужден был отступить. И хотя его противник потерял почти в два раза больше, но недостаток живой силы ограничивал возможности дальнейшего продвижения.
Положение сербской армии было по-настоящему катастрофическим. Противопоставить тяжелой немецкой артиллерии было нечего. Приходилось просто отступать, уводя с собой гражданское население, а также пленных вражеских солдат. Какое-то сопротивление сербы еще оказывали болгарам – их нужно было сдержать любой ценой, чтобы вывести северную группировку в Албанию. 10 ноября началась так называемая Косовская Операция. У сербов было два варианта: бежать или сражаться. Последний вариант находил у простых бойцов огромный эмоциональный отклик, тем более что сражаться пришлось бы на так называемом Косовом Поле, что в переводе означает “Поле Черных Дроздов” – это было место множества древних битв, в том числе и с Османской Империей. Но самым рациональным все-таки был первый вариант. Поэтому основная часть армии отступала. Только арьергарду выпала доля сражаться с захватчиками – он был принесен в жертву во имя спасения главных сил. Болгарские и австро-венгерские войска, конечно же, разгромили его. Сербы потеряли убитыми и раненными 30 тысяч солдат, и еще множество попало в плен. Однако это дало время 400 000 человек уйти в горы, чтобы далее заснеженными тропами добраться до албанского побережья. Путь был очень тяжелый и опасный. Но другого выхода не было. В свою очередь, преследовавшая австро-венгерская армия, идущая с севера, упёрлась в обледенелую вершину. Поэтому 24 ноября немецкий командующий Маккензен остановил погоню. Сербы продолжили движение через горные перевалы в сторону Адриатического Моря. Теперь и на Балканском участке фронта началось Великое Отступление.
В первых числах декабря британцы совместно с французами снова попытались прийти на помощь сербам. Зайдя с территории Греции, они пошли наперерез болгарской армии. Но еще до начала боев попали под сильный ливень и промокли, что снизило их боеспособность. 4 декабря в районе села Костурино, что недалеко от границы, болгары обнаружили Союзнические войска и начали вести артиллерийский обстрел. Спустя два дня пехота пошла в атаку. Сражение продолжалось до 12 декабря. В конечном счете, британцы и французы вынуждены были отступить обратно на греческую землю. Их общие потери составили более 1200 и более 1800 человек, соответственно (убитые, раненые, пропавшие без вести). Болгары, вероятно, потеряли больше людей, но одержали победу.
Тем временем, сербы продолжали пробираться через горы к адриатическому побережью. Они подвергались постоянным нападениям албанских партизан, чьи действия были согласованы с Веной. В декабре Болгария смогла захватить город Охрид, стоящий на границе с Албанией, что окончательно отрезало путь через Сербию. Фактически вся страна оказалась полностью захвачена Центральными Державами. Что касается самих сербов, то они, добравшись до албанских портов, должны были быть эвакуированы Союзниками. Но если в Косово их преследование было остановлено Маккензеном, то со стороны Черногории по-прежнему давила австро-венгерская армия. Поэтому черногорские войска получили приказ – задержать противника под Мойковацем. Сражение развернулось с 6 на 7 января 1916 г., как раз на православное Рождество. В густом утреннем тумане солдаты сошлись в штыковом бою. Первое столкновение не выявило победителя. Далее на протяжении всего дня каждая из сторон предпринимала атаки и контратаки, пытаясь захватить ключевые высоты. Самая важная из них находилась неподалеку от селения Бойна-Ньива. Хоть и не с первого раза, но черногорцы сумели ее занять. Австрийцы же, несмотря на свое численное превосходство (20 тыс. против 6,5 тыс.), отбить ее так и не смогли. Это заблокировало путь всей австро-венгерской армии. Она вынуждена была выбрать другое направление, пройти немного западнее. В конце концов, она сумела окружить черногорские войска, и 14 января заняла столицу государства. Однако все эти манёвры позволили выиграть время для эвакуации сербской армии.
Правда, сама эвакуация была проведена, мягко скажем, не очень хорошо. Пока Союзники спорили о том, какое место и какой путь лучше всего выбрать – австро-венгерский флот обстреливал албанское побережье и нападал на продовольственные суда. Наконец, в феврале сербов стали вывозить на греческий остров Корфу (Керкира). Вывозили двумя путями: основную массу из Дурреса, и часть из Влёры. Но к тому времени люди уже были настолько измотаны, что начали умирать от истощения. Проблемы со снабжением еще больше усугубили ситуацию. Стоит заметить, что сам переход через горы оказался под силу далеко не всем. Из примерно 400 тыс. человек до албанских портов добрались только 120 тыс. солдат и 60 тыс. гражданских. Еще 11 тыс. умерли во время эвакуационной кампании. Также в Албанию, судя по всему, продолжали прибывать и другие сербские беженцы, пришедшие какими-либо иными путями. Французы, итальянцы и британцы вывозили их всех на своих судах. Страдания сербского народа были огромны. Тем не менее, часть армии удалось сохранить, чтобы позже использовать ее на Салоникском Фронте.
Таким образом, к началу 1916 г. Германия, Австрия и Болгария добились полной оккупации Сербии и Черногории. Малочисленная армия последней была демобилизована. Главной целью Балканской Кампании для Берлина и Вены было: установить сухопутное сообщение с Османской Империей. И это удалось. На фоне поражения России в Польше, провала Галлипольской Операции Союзников и отсутствия каких-либо успехов во Франции – казалось, что война приобретала для Антанты неблагоприятный оборот. Но это был еще не конец.
Другие Театры
В 1915 г. продолжились боевые действия между колониальными войсками стран Антанты и Германии. В первую очередь следует отметить события в Намибии. Солдаты подконтрольного британцам Южно-Африканского Союза (ЮАС) намеревались вторгнуться туда еще осенью 1914-го. Но бурский генерал Мани Мориц поднял вооруженное восстание. Его, конечно же, подавили, однако сроки вторжения сдвинулись. А пробный заход в Намибию ограниченными силами ни к чему хорошему не привел (для Лондона). В феврале 1915 г. немецкие войска, действуя на опережение, сами пошли в атаку и попытались захватить переправы через Оранжевую Реку. У них ничего не получилось. Следующий ход был за пробританскими силами. И эти решили играть уже по-взрослому. Они собрали многотысячную армию и стали высаживаться в порту Свакопмунда. Примечательно, что это был порт на берегу самой же Намибии, только подконтрольный ЮАС – анклав, короче говоря. Странно, что немцы его не ликвидировали сразу. Но, видимо, просто сил было недостаточно. Пробританские войска использовали этот анклав как базу, сосредоточив там большое количество людей с оружием. В марте они пересекли намибийскую границу и пошли вдоль железной дороги захватывать город за городом: Очимбингве, Карибиб, Окаханджа, в мае остановились в Виндхуке. Немцы перепугались и запросили мира. Но им его никто не дал. Южноафриканцы несколькими группами стали продвигаться на север к Цумебу – в направлении соленого озера Этош. В первых числах июля германские войска дали отчаянное сражение в районе Отави, и закономерно были разгромлены. Все-таки нужно понимать, что пробританские силы располагали 70 тысячами человек, против которых Берлин имел возможность собрать немногим более 10 тысяч. Тем временем, на юге вторжение осуществляли другие группы южноафриканцев. Первая опять же высадилась на побережье, но уже не в анклаве, а в Людерице. Быстренько захватив его, она пошла дальше, и к маю заняла Китмансхуп. Там ее встретили две группы, вторгнувшиеся по суше: одна шла с прибрежного южноафриканского Порт-Ноллота, а вторая приперлась из совсем не прибрежного восточного города Кимберли (эти долго шагали). После Китмансхупа был захвачен более северный город Гибеон. Остатки германских войск попытались отступить в столицу Виндхук, но там их, как можно догадаться, уже поджидали (с чаем и печеньками). Собственно говоря, на этом история германской Намибии закончилась, и началась история британской Намибии. Потери от боевых действий не превысили 1800 человек у Южно-Африканского Союза и 1000 человек у немцев.
С окончанием боевых действий в Намибии связано и окончание боевых действий в соседней Анголе. Эта страна находится севернее, и она была колонизирована португальцами. Немцы надеялись, что с началом войны торговля между ними не прекратится. Но португальцы, наоборот, стали воротить носы. Немцы были назойливы и периодически захаживали в Анголу с оружием в руках. Португальцам это надоело, и они принялись отстреливать офицеров заблудившихся германских колонн. После этого немцы обиделись и стали нападать на португальские приграничные посты. А 18 декабря 1914 г. устроили прям всамделешное вторжение, с пулеметами, с артиллерией – все, как полагается. Португальцы потеряли больше 140 человек и вынуждены были отойти от границы (немцы потеряли около 40 убитыми и ранеными). Германские колонисты вошли во вкус и принялись взрывать в Анголе оружейные склады. Португальцы отправили в свою Анголу мощное подкрепление. И, вообще, неизвестно еще, каким бы кровавым месивом все это закончилось, если бы британские силы не захватили немецкую Намибию в июле 1915 г. После этого португальцы вернули себе южные провинции Анголы. Но возникла новая напасть: партизанскую войну начали подстрекаемые немцами местные ангольские повстанцы. Боевые действия с ними продолжались до 1916 г. В конце концов, португальцы зашли в контролируемую британцами Намибию, оккупировали ее и обстоятельно поговорили со своими германскими соседями. После этого воцарился мир.
Другая западноафриканская страна – Камерун – к 1915 г. уже частично находилась под оккупацией Союзников. Но маленький германский корпус продолжал сопротивляться. До корпуса он, конечно, по факту не дотягивал – число солдат удалось увеличить с 1855 до 6000. Немцы с прибрежных районов отступали вглубь страны, и в итоге сделали новой столицей Яунде, стоящий на возвышенности (является ей до сих пор). Между тем, в Камерун, кроме французов и британцев, также зашли бельгийцы из своего Конго. Британцы провели ряд успешных атак на севере страны, и взяли его почти под полный контроль. Поэтому к концу года только Яунде, по сути, оставалась не занятой солдатами стран Антанты. Штурму города мешали проливные дожди. Но его захват, очевидно, был делом времени. Наконец, в феврале 1916 г. немцы бежали в Испанскую Гвинею, где были хорошо приняты. А на севере в городе Мора (Маруа) сдался последний германский гарнизон. Всего за время боев немецкие силы понесли потери в 5000 человек. Британцы потеряли 917 человек, а французы 906.
Что касается Восточной Африки, то там немцы продолжали напрягать англичан. Задача оставалась прежней – оттянуть с Европейского Театра как можно больше сил Союзников. И это командующему Паулю фон Летов-Форбеку частично удавалось. Именно здесь германские войска оказывали наиболее ожесточенное сопротивление и вполне успешно громили своих врагов. Например, в январе они напали на занятый британцами город Яссини. Смело и дерзко. Хотя поначалу взять его не получалось. Даже артиллерия не могла пробить его стены. Но затем британцы сами совершили ошибку – сделали неудачную вылазку, в ходе которой попали в окружение. Без припасов и питьевой воды они вынуждены были сдаться. Их потери составили 200 человек убитыми и 400 взятыми в плен. Сами немцы потеряли 86 убитыми и 200 ранеными. Однако их потери в условиях блокады были невосполнимы. Потенциал для новых подобных нападений сокращался. Так что Летов-Форбек избрал тактику партизанской войны, чтобы тревожить британцев, но не подставлять собственных людей. Состав своей армии он пополнял за счет местного населения. Ему удалось резервировать до 12 тысяч негров. Благодаря этому немцы в Восточной Африке успешно сражались вплоть до окончания войны.
Пару слов нужно сказать про Японию. В 1914 г. она уже защемила Германию, отобрав у нее Циндао и Микронезию. Но, например, Циндао являлась китайской провинцией. Поэтому получилось так, что Япония защемила сразу двоих. В 1915 г. Япония продолжила щемить Китай. Поднебесная в то время пребывала в тяжелом состоянии – там шла революция и внутренние проблемы раздирали страну. Токио выдвинул так называемые “21 требование“. Они касались в основном получения прав на аренду китайской земли, железных дорог, добычи природных ископаемых, благоприятных условий торговли и свободы передвижения на отдельных территориях (например, в Южной Маньчжурии и Внутренней Монголии). Причем, пятая группа требований расширяла эти права и на другие регионы Китая, добавляя право на религиозную пропаганду и введение в правительство своих советников. Эта последняя группа была отвергнута Пекином. Тогда Япония убрала ее, сократив список требований до 13-ти. Китай вынужден был эти требования принять. В итоге он становился зависимым от Страны Восходящего Солнца. Настолько, что Западные державы напряглись еще больше, чем они напряглись в 1914 г. Особенно возмущались британцы и американцы.
Также стоит отметить, что в феврале 1915 г. в Сингапуре, где базировались британцы, произошло восстание индийских сипаев. Участвовало в нем более 400 солдат. Были убиты десятки британских военных и гражданских людей. Бунт подавляли в том числе при помощи французов, японцев и русских. В итоге 47 сипаев было казнено. Точные причины восстания до сих пор не выяснены. Произошло оно то ли под влиянием индийской социалистической партии Гхадар, то ли под влиянием исламистов, для которых турецкий султан являлся халифом (самым авторитетным мусульманином, главой мусульманского мира, грубо говоря). Таким образом, Центральные Державы пытались разложить и ослабить многонациональную британскую армию, перетянув на свою сторону лояльных индусов. Наиболее активна в этом была Германия. И здесь открывается большая тема для исследования. Дело в том, что Германия использовала социалистические идеи для подрыва внутреннего политического режима своих врагов. В частности, известно, что Ленин в России получал финансирование из Берлина, и в итоге устроил государственный переворот в октябре 1917 г. А что касается Великобритании, то у нее наиболее проблемными регионами были колониальные территории – например, Индия и Ирландия. Обе хотели независимости. Немецкие социалисты поставляли индийским националистам оружие в расчете, что те начнут борьбу за отделение от британской метрополии. Надо сказать, для Лондона это было серьезной проблемой. В условиях войны и социалистической пропаганды удерживать колонии под полным контролем становилось все труднее. Британская Империя, хоть и являлась наиболее сильной и мощной среди равных себе, но и она испытывала центробежные процессы. И это тоже было частью глобального передела.
[Раздел не закончен]
Итоги и Последствия Первой Мировой Войны
Первая Мировая Война стала одной из самых кровавых в истории не только Европейского Континента, но и всей планеты. Начиналась она как драка между крупнейшими Западными Державами, но вскоре втянула в себя остальные государства и превратилась в общечеловеческую трагедию. В итоге она унесла жизни около 10 миллионов солдат и офицеров, и еще миллионы погибли среди гражданского населения, точные потери установить невозможно, однако, судя по всему, количество умерших превышает 20 миллионов человек (все причины). Как это часто бывает, война привела к настоящей научной и производственной революции. Великобритания, сухопутная армия которой никогда не была многочисленной, впервые вывела на поле боя танки – это, безусловно, свидетельствует о высоком промышленно-техническом уровне развития страны. Немцы в свою очередь обладали самой мощной среди участников конфликта тяжелой артиллерией, применение которой навсегда изменило характер боевых действий. Берлин имел и множество других инновационных разработок, например: огнемет и отравляющие газы. Русские ничего не могли противопоставить этому. Также в войне широкое применение получили самолеты в воздухе и подводные лодки в море. Германия вела против Англии неограниченную подводную войну, топя вообще все, что плавало, и в результате потопила парочку американских судов, что и заставило Вашингтон присоединиться к странам Антанты.
Когда дым от пороха и гари рассеялся, стало ясно, что мир изменился до неузнаваемости, и возврата к прошлой системе отношений уже быть не может. Результаты войны были интересными. В ней победили развитые либерально-демократические страны: Великобритания, Франция и США. А проиграли отстающие монархические державы: Германская Империя, Австро-Венгерская Империя, Османская Империя и Российская Империя. Оказалось, что первые были лучше подготовлены экономически, могли дольше выдержать социальное напряжение, были внутренне более устойчивыми, имели более патриотичное и лучше замотивированное население, и обладали техническим превосходством. А все четыре империи, находящиеся в лагере проигравших – распались и больше уже никогда не смогли собраться в прежнем виде.
Особый интерес представляет Россия. Несмотря на то, что она находилась в Антанте – союзе победителей – она стала проигравшей страной. Россия оказалась слабым звеном. В разгар войны в 1917 году ее потрясла вторая (Февральская) Революция, а позже Октябрьский вооруженный переворот большевиков. Народ не выдержал полномасштабных боевых действий и мобилизационной экономики, отягощенной несправедливыми порядками. Внешний глобальный передел застал Россию врасплох, наложившись на процессы внутреннего передела. Все глубинные противоречия архаичной и закостенелой системы, которые долгое время игнорировались и загонялись внутрь – в один момент вырвались наружу и разорвали страну на части. Оказалось, что эту отсталую империю невозможно было реформировать. Ее насквозь проржавевшая конструкция скрипела и скрежетала. И в итоге, когда ее попытались реставрировать – она просто поломалась и рухнула. Позорный Брестский Мир лишил Россию экономически и промышленно развитых территорий. И только дальнейшая победа Союзников над Германией ликвидировала Брестский договор, и основные территории были возвращены. Правда, не все. Польшу, Прибалтику и Финляндию вернуть не удалось. Причем, Финляндия ушла насовсем. Ну, а далее, не сумев принять участие во внешнем переделе – Россия погрузилась в агонию передела внутреннего. Гражданская Война унесла жизни более 10 миллионов человек и стала настоящей катастрофой. Экономика была разрушена. Произошло значительное сокращение промышленного производства – до 50-60%. При этом были полностью ликвидированы старые порядки. После 1922 года это была уже другая страна, пусть и сохранившая в себе пережитки феодального мышления.
Преобразования действительно были огромными. Была свергнута монархия, произошел отказ от парадигмы наследственного правления. Это важно само по себе, даже несмотря на то, что устанавливалась однопартийная диктатура и позже страна погрузилась в тоталитаризм. Была свергнута власть Русской Православной Церкви, которая наживалась на обязательных платных обрядах и владела большими земельными угодьями – соответственно, после отмены обязательных обрядов произошло перераспределение денежных средств. Началась мощная секуляризация, в обществе становилось все больше людей со светским образом мышления, свободным от религиозных предрассудков. Была демонтирована сословная система, дававшая несправедливые привилегии одним представителям общества и ограничивающая в реализации личных способностей других, что ранее порождало неэффективность. Все эти изменения были необходимы. Однако, несмотря на всю их необходимость – методы, которые применялись для их проведения, были деструктивными и бандитскими. Поэтому итоговая результативность оказалась не слишком высокой.
Отдельного внимания, конечно, заслуживает экономическая политика. На страну попытались натянуть (как сову на глобус) новомодную коммунистическую модель. Это потребовало массового террора и репрессий. Вообще, преступления коммунистов отличались не просто крайней жестокостью, они сопровождались откровенно иррациональными действиями. Ленин, захватив рычаги управления в 1918 году, попытался построить полностью безденежную систему централизованного распределения товаров, исключавшую торговые отношения. Крупные и средние предприятия национализировались. А сельскохозяйственные работники должны были сдавать зерно государству по фиксированным ценам, причем на фоне устроенной самими же большевиками гиперинфляции. По сути, это был эксперимент. И жертвами данного эксперимента стали миллионы людей. Система не заработала. Крестьяне в отсутствии каких-либо стимулов для увеличения производства хлеба – начали сокращать посевные площади. Ведь хлеб у них изымали по цене ниже рыночной, полученные деньги обесценивались моментально, и поэтому никто не видел смысла выращивать больше. Тогда Ленин приказал просто отбирать зерно силой, послав на село отряды грабителей, чем спровоцировал ожесточенные вооруженные восстания. Коммунисты убивали крестьян, истребляя целыми деревнями, травили их газом, брали в заложники членов семей и активно применяли пытки. Но в результате так ничего и не добились. В России начался массовый голод. Экономика лежала в руинах. В городах царила дичайшая спекуляция. На заводах пролетарии, несмотря на запреты, тайно торговали всем, чем ни попадя. Система централизованного распределения потерпела полный крах. Тогда было принято решение перейти к НЭПу – Новой Экономической Политике – она восстанавливала торгово-денежные отношения, а в сельское хозяйство возвращались капиталистические принципы, хотя промышленность оставалась под контролем государства.
Стоит заметить, что все отсталые проигравшие государства – сменили Парадигмы и перешли к новым, более эффективным, моделям управления. Это характерная особенность повышательной фазы каждого Цикла. Кроме России, революция также произошла, например, в Германии. В ноябре 1918 г. в городе Киль восстали матросы. А через несколько недель кровавые бои завязались уже в самом Берлине. Кайзер Вильгельм II, видимо, осознав, к чему все идет, сбежал из страны. Воспользовавшись случаем, радикальные коммунисты попробовали взять власть в свои руки, они устраивали вооруженные восстания как в столице, так и за ее пределами, но их отряды были разгромлены весной 1919 г. В итоге победили умеренные и более адекватные социалисты (СДПГ). Так или иначе, монархия, даже конституционная, была окончательно свергнута, и под пристальным взглядом США была установлена демократия с нормальным парламентом. Правда, ненадолго. Вскоре началась ожесточенная борьба между левыми и правыми силами. Эта борьба выливалась на улицы. В 1920-ые гг. происходили регулярные столкновения противоборствующих сторон. Исторически Германия обладала высоким уровнем развития свободно-рыночных отношений, поэтому коммунисты в ней закрепиться не смогли (несмотря на многочисленные вооруженные восстания). Но зато на фоне тяжелого поражения в войне и экономических потрясений в ней смогли закрепиться фашисты-националисты. Подробнее об этом будет рассказано в разделе “В Преддверии Четвертой Волны”. Сейчас лишь кратко опишу территориальные потери Германской Империи. Итак, по Версальскому Миру (1919 г.): Эльзас и Лотарингия возвращались Парижу; к Бельгии отходили округа Эйпен-Мальмеди и нейтральная зона Мореснет; воссоздавалась Польша, и поэтому Берлин утрачивал контроль над польскими землями, новая Германия (Веймарская Республика) оказывалась разделенной на две части; Данциг (он же Гданьск) становился вольным городом; большая часть Шлезвига после референдума была отдана не участвовавшей в конфликте Дании (пруха); к Чехословакии отходила Глучинская Область – небольшая часть Верхней Силезии; к образовавшейся Литве в 1923 г. была присоединена Мемельская Область; берега Рейна становились демилитаризованной зоной и оккупировались войсками Союзников на 15 лет. В общей сложности Германская Империя потеряла около 13% своей территории. Берлин также утратил контроль и над всеми колониями, которые были разделены между Великобританией (Танганьика, Того, Камерун), Францией (Того, Камерун), Бельгией (Руанда-Урунди), Южно-Африканским Союзом (Юго-Западная Африка), Австралией (северо-восточная Новая Гвинея), Японией (тихоокеанские острова) и Новой Зеландией (Западное Самоа). Кроме этого, Берлин в течение 30 лет обязан был выплатить огромные репарации всем пострадавшим странам (как деньгами, так и товарами), передать значительную часть своих судов и построить новые (взамен потопленных), снять все ограничения на импорт, разрешить свободный пролет самолетов над своей территорией и свободное судоходство по своим рекам. Отдельным пунктом ограничивался военный потенциал Германии: отмена всеобщей воинской повинности, сокращение численности армии до 100 тыс. человек; уничтожение тяжелой артиллерии, запрет на производство подлодок, бронетехники и военной авиации, также лимитировался надводный флот. Берлин был главным виновником Первой Мировой Войны. И за свои деяния ему пришлось платить.
Ближайшего союзника Германской Империи – Австро-Венгерскую Империю – постигла еще более трагичная судьба. Это государство перестало существовать полностью. Впрочем, жалеть об этом не следует. Австро-Венгрия представляла собою пример устаревшего во всех смыслах феодального государства, в котором власть над народами удерживалась только силой и религиозной пропагандой. Но к началу 20 века эти инструменты управления уже потеряли свою эффективность. Люди становились образованнее, их кругозор расширялся. И представители одного и того же этноса внезапно оказались способны объединяться между собой против тирании. В Австро-Венгрии насчитывалось около 20 различных народов. Почти каждый из них тяготился господством Вены и желал независимости. Националистическая парадигма в Европе стала приобретать популярность еще в середине 19 столетия. Но в то время даже у венгров (самого многочисленного народа в империи после немцев) не хватило сил, чтобы полностью выйти из-под власти Габсбургов. Однако тяжелая война 1914 г. заставила монархию вооружить своих подданных. А, собственно, австрийцы составляли не более 24% от общей численности населения. То есть контролировать все националистические движения в новых условиях становилось крайне сложно. Тем более что многие радикальные сепаратисты приобретали теперь боевой опыт на фронте. В течение 1914-18 гг. стало понятно, насколько же непрочной на самом деле была империя Габсбургов – страна конкурировала с Россией за лидерство по числу дезертировавших и сдавшихся в плен солдат. Чехи, словаки, поляки, венгры, украинцы и прочие народы совершенно не ощущали своей идентичности с австрийцами. В 1918 г. по всей империи прокатилась волна вооруженных восстаний. В самой столице начались массовые забастовки и бунты. В ноябре Австро-Венгрия уже окончательно расползлась по швам и разделилась на ряд многочисленных мелких государств (все это сопровождалось вооруженными столкновениями, хаосом и голодом). Как и Россия, потерпев поражение и не сумев поучаствовать в глобальном переделе, новообразованные государства бывшей империи занялись переделом внутреннем, нападая друг на друга и сами на себя. На территории Венгрии прошла революция. Причем даже не одна. Под чутким руководством Ленина коммунисты попытались там создать Венгерскую Советскую Республику, но потерпели поражение. Вообще, понятие “Советская Республика” благодаря большевикам стало просто каким-то эпическим оксюмороном. Это понимали и в Антанте. Поэтому когда против огромной Венгрии начали войну Чехословакия, Румыния и Югославия (Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев) – то Союзники поддержали последних. Причиной конфликта были территориальные споры. Венгры, хоть и выступали против австрийского имперства, но сами были имперцами ничуть не меньшими. Они хотели удержать за собой как можно больше земель, в том числе заселенных преимущественно не венграми. На эти хотелки в Праге, Бухаресте и Белграде достали губозакатывающие машинки. И Антанта их благословила. В августе 1919 г. союзники заняли большую часть Венгрии, даже вошли в Будапешт. Все коммунисты куда-то разбежались. И странами Антанты был навязан Трианонский Договор, по которому Венгрия потеряла 71,4% территории в пользу своих соседей. Власть в Будапеште взял в свои руки местный вице-адмирал Миклош Хорти. Правил он авторитарно вплоть до WWII. Все свое правление он боролся с коммунистами и скучал по флоту, поскольку выхода к морю Венгрия лишилась.
С распадом Австро-Венгрии также активизировались поляки, решившие восстановить свою государственность. Их устремления сразу же натолкнулись на несколько препятствий. Территориальные споры начались как с чехами, так и с украинцами. Но с чехами вопрос решен был малой кровью, и при содействии Антанты. А вот с украинцами, отделившимися от Российской Империи, началась кровопролитная война. Боевые действия шли до лета 1919 г. и унесли жизни около 25 тысяч человек. В конце концов, Украинская Галицийская Армия потерпела поражение и была рассеяна, ее остатки ушли на территорию еще продолжавшей существовать Украинской Народной Республики (образовалась в ноябре 1917 г). Впрочем, существование УНР было не долгим. В ноябре 1920 г. ее территорию заняла Красная Армия РСФСР. Таким образом, большевики вернули под свой контроль Украину. Но в январе 1919 г. – в разгар Гражданской Войны в России – началась еще и Советско-Польская Война. Была она еще более кровавой, чем Польско-Украинская (около 120 тысяч убитых). В этой войне большевики потерпели поражение. Исход во многом решила Варшавская Битва. В итоге в 1921 г. был заключен Рижский Договор, по которому к Польше отходили значительные территории к востоку от Линии Керзона. Эта линия ранее предлагалась британским министром лордом Керзоном и в целом учитывала этнический состав региона. По Рижскому же Договору Польша смогла получить земли, заселенные преимущественно не поляками (украинцами и белорусами). Для Варшавы это стало большим достижением. Страны Антанты приветствовали возрождение Польши, которая отчасти выполняла функции санитарной зоны с коммунистическим Советским Союзом, Но ситуация изменится с началом WWII.
На Балканском Полуострове Габсбургов тоже не любили. Поэтому в октябре 1918 г. из повиновения начали выходить славяне. Сперва они образовали отдельное Государство Словенцев, Хорватов и Сербов, куда входила также Босния и Герцеговина. Однако на международном уровне с его признанием возникли проблемы. Итальянцы всячески щемили его по берегу Адриатического Моря. А общее его состояние можно было охарактеризовать так: хаос и продовольственный кризис. В конце концов, националистическая Сербия решила взять его под свое крыло. Она уже давненько вынашивала планы создания большого южнославянского государства. И таки создала – Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (в декабре). Находилось оно под главенством Белграда, конечно же. В Антанте поморщились, но куда деваться. В 1929 г. его переименовали в Королевство Югославия. Таким образом, Австро-Венгерская Империя распалась на Венгрию, Чехословакию, Польшу, Югославию и, собственно, Австрию. Пару кусочков у нее отщипнула даже непутёвая Италия (Истрия и Южный Тироль). На Вену были наложены те же ограничения, что и на Берлин, плюс Австрия не могла ни с кем объединяться, особенно с Германией. И еще она должна была выплачивать репарации.
Османская Империя также не избежала центробежных процессов. Причем, если распад Австро-Венгрии стал для членов Антанты неприятным сюрпризом, изначально никто не хотел ее ликвидации (как-то вот само собой получилось) – то Османскую Империю делили целенаправленно. В последние лет сто турки регулярно шокировали Европу какой-нибудь очередной жестокой резней местного населения. Теперь Турция огребала за это по полной программе. Греки и армяне хотели поквитаться за долгие годы притеснений и собирались отхватить себе кусочек бывшей восточной империи. Вскоре она оказалась оккупирована войсками победителей и подверглась грабежу. Предложенный Союзниками Севрский Мирный Договор существенно урезал Турцию в ее границах. В частности, предполагалось, что: проливы отойдут под контроль международного сообщества; греки получат земли на территории Малой Азии (Смирна – он же Измир); вместе с итальянцами и французами они также получат в Малой Азии свои зоны влияния; будет создано армянское государство (Первая Армянская Республика), возможность создания своего государства на востоке Малой Азии появлялась и у курдов; за пределами Малой Азии Анкара лишалась всего. Кроме этого, Договор предусматривал ограничение вооруженных сил до 50 тыс. чел. и введение контроля над финансами со стороны Западных Держав. Таким образом, Турция превращалась в абсолютное ничтожество. Поэтому, вопреки протестам официального правительства, в ней началась так называемая освободительная война под руководством Мустафы Кемаля Ататюрка. Война в целом оказалась победоносной. Английские и французские войска не имели какой-либо мотивации активно участвовать в очередных боевых действиях, поэтому вся тяжесть сражений легла на греков и армян. А греки и армяне, к сожалению, не смогли разбить турецкую армию, тем более что ей материально помогал СССР (несмотря на то, что в самом СССР в это время люди миллионами умирали от голода). Активные боевые действия проходили с мая 1919 г. по октябрь 1922 г. Они унесли огромное количество жизней, вместе с мирными жителями: от 400 до 600 тысяч. В итоге условия раздела Османской Империи были пересмотрены. По новому Лозаннскому Договору (1923 г.) Турция удерживала за собой полуостров Малая Азия вместе с зоной армянского расселения (включая Эрзурум и Ван), а также сохраняла контроль над проливами, хотя обязывалась пропускать гражданские и военные суда. В то же время Турция полностью отказывалась от современных Сирии, Ирака, Палестины, Иордании, Аравийского Полуострова, и переставала претендовать на Египет. В общем-то, она превращалась примерно в то, чем является сейчас. Изначально для нее все могло быть намного хуже. Что касается армян – то они потеряли возможность создания своего государства и вынуждены были перейти под власть Советского Союза, образовав Армянскую ССР. Также возможности обретения государственности лишились курды. А греки были высланы из Малой Азии, чтобы не допустить новых актов геноцида и этнических чисток.
Так или иначе, Оттоманская Империя была уничтожена. Институт султаната – упразднен. Мусульманский мир потерпел сокрушительное поражение в войне с миром христианским. В обновленной Турции были проведены масштабные реформы, среди которых: установление республиканской формы правления, секуляризация и отделение церкви от государства, введение светского образования, ликвидация феодальных пережитков, принятие новых гражданских и уголовных кодексов. Началась активная европеизация Малой Азии.
Как видно, Первая Мировая Война, унесшая миллионы жизней и ставшая сама по себе огромной трагедией, спровоцировала еще и несколько других, более мелких, конфликтов, которые привели к дополнительным смертям. Процесс распада проигравших империй проходил тяжело и весьма кроваво.
Если же говорить о тех, кто заработал на конфликте, то безусловным Бенефициаром стали США. Приняв участие в войне, они не понесли больших издержек, но смогли загрузить свои предприятия промышленными заказами и получили новую долю рынка. Производственно-экономическая мощь Америки еще больше возросла. Также она смогла укрепить доверие к своей финансовой системе – доллар стал теснить британский фунт и постепенно превращался в новую резервную валюту. Впрочем, Штаты, как было отмечено выше, не избежали процесса внутреннего передела. Но по сравнению с тем, что происходило в России или даже в Германии – это был относительно мягкий передел в масштабах страны. От ПМВ же американцы явно получили выгоды. Кроме того, США стали играть большую роль в международной политике, хотя раньше избегали вмешиваться в европейские дела. По сути, именно с 1918 года американцы начали строить свою Империю, могущество которой зиждилось на ином основании – не на физическом захвате территорий, а на финансовом, торговом и технологическом влиянии.
Другим Бенефициаром можно назвать Францию – она вернула себе Эльзас и Лотарингию, и получила возможность грабить ненавистную Германию. Под контроль Парижа перешли некоторые бывшие колонии Берлина, в частности – африканские. Также был предоставлен мандат на управление османских территорий: Сирии и Ливана. Правда, за Сирию пришлось немного побороться. Националистические группировки в Дамаске не желали французского мандата, а желали полной независимости с королевской властью в лице Фейсала I. Они фактически подняли восстание, начав серию нападений на оккупационные, по их мнению, войска. Все решилось на поле боя – 24 июля в ущелье Майсалун французская армия при помощи танков и самолетов полностью разгромила отряды местных националистов. Фейсалу в итоге пришлось бежать. Власть Парижа оказалась неоспоримой. Вообще, там вышла довольно интересная история. Во время войны британцы вели переговоры с отцом Фейсала – королем Мекки и Хиджаза (область в Саудовской Аравии) Хусейном ибн Али. Он должен был поднять восстание против турок, причем конкретно его сын Фейсал это восстание организовывал и непосредственно им руководил. Взамен Хусейну давали согласие на образование единого арабского государства с довольно широкими границами. Хусейн так обрадовался, что забрызгал слюнями всю карту, запачкав также территорию Сирии. И, как оказалось – преждевременно. Британцы сделали оговорку, в соответствии с которой они обязаны были учитывать интересы своих союзников французов. Хусейн и Фейсал, видимо, этот абзац недопоняли. А британцы разъяснять не стали. Поэтому вышло этакое разночтение. Хусейн был недоволен. Но его вместе с его недовольством съели соседние аравийские племена. Фейсалу, чтобы он не сильно за папу переживал, британцы в качестве утешения предложили стать королем Ирака. Ну, а зачем эффективному менеджеру пропадать? Фейсал согласился. Подробнее об этом будет ниже. А сейчас вернемся к, собственно, Франции. Она в будущем еще столкнется с новыми бунтами местного населения. Ей досталась довольно специфическая территория, населяемая различными кочевыми и полукочевыми племенами. Эти племена вели свой традиционный образ жизни, привыкли скакать на лошадях по степям и плавать на верблюдах по пескам пустыни. И они очень удивились, когда обнаружили на своих землях какую-то инфраструктуру, железные дороги, там, автомобильные шоссе, заправочные станции, магазины, и прочие признаки индустриализации. Еще больше они удивились появлению блок-постов. Границы сирийского государства были проведены искусственно и не учитывали национального состава населения (которое отнюдь не было единым). И теперь получалось, что французы ограничивали местные племена в передвижении. Но на этом сюрпризы не заканчивались. Кочевникам запретили приходить в города с оружием, а новая администрация стала вмешиваться в процессы их внутреннего управления и до кучи обложила налогами. В итоге в 1925 году повелители барханов подняли восстание. Как можно догадаться, оно не увенчалось успехом. Верблюды не смогли осилить танковую броню. Тем не менее, Париж предпочел больше не раздражать пустынных жителей и смягчил свою политику. В начале 1930-ых годов была отменена монархия и провозглашена республика с возможностью проведения свободных выборов. Однако Сирия еще оставалась под контролем французов до конца Второй Мировой Войны.
Короче, так или иначе, Франция увеличила свои владения – получив кое-что в Европе (назад свое родное), кое-что в Африке (немецкое), и кое-что на Ближнем Востоке (османское). ВВП Франции на душу населения вырос даже больше, чем у США. Но здесь нужно учесть, что Франция понесла большие человеческие, а также инфраструктурные потери, война шла на ее территории, лишь с огромным трудом французам удалось остановить наступление немцев на Париж (это был вопрос выживания и национальной гордости). После войны Франция испытала мощный экономический рост. Она даже на мгновение (несколько лет в историческом контексте – это мгновение) обогнала Германию по ВВП на душу населения, хотя ранее отставала. Но немцы на то и немцы, вскоре они смогли возвратить себе утраченные позиции.
Что же касается Великобритании, то, несмотря на победу, из-за напряжения сил она утратила свой вес в мировой политике и экономике. Фактически это означало ее ослабление. Многие ее колонии получили статус доминиона (почти независимое государство) и вошли в Британское Содружество Наций, в котором они обладали равными правами и являлись самостоятельными, хотя продолжали испытывать влияние бывшей метрополии. Данный процесс, конечно, начался еще в последней четверти 19 в. (с Канады). Однако после ПМВ вступил в активную фазу: сперва в 1926 г. была принята Декларация Бальфура, а затем в 1931 г. Вестминстерский Статут, который юридически регламентировал довольно сложные отношения между Короной и доминионами. Так или иначе, Лондон постепенно утрачивал контроль над своими заморскими владениями, они приобретали независимость. Канада, Австралия, Новая Зеландия, ЮАС (современная ЮАР) по факту стали независимыми еще до войны, после войны – их независимость была закреплена юридически. Некоторые страны – например, Ирак и Египет – скажем так, встали на путь приобретения независимости. Ирак на этом пути подошел к конечной цели в 1932 г. Египет – в 1936 г.
На Египте, наверное, следует остановиться поподробнее. Будучи оккупированной англичанами, страна, по сути, являлась английской полуколонией. Местное население этому, прямо скажем, не очень радовалось. Поэтому в 1890-ые годы в Египте начинают расти националистические настроения, которые усиливаются с наступлением XX столетия. Хедив Аббас II Хильми имел сложные отношения с Лондоном. Периодически он публично выказывал свое недовольство действиями англичан и демонстрировал пренебрежение к ним. И плюс ко всему тайно поддерживал националистов. В то же время он проводил грамотную внутреннюю политику, нацеленную на развитие страны. При его одобрении строились ирригационные сооружения, развивалось сельское хозяйство, осуществлялись реформы образования и налоговой системы. Даже велась работа по созданию парламента. Но в Лондоне считали, что он испытывает симпатии к Странам Оси, в особенности к Османской Империи (и не безосновательно). Накануне Первой Мировой Войны англичанам не нужны были какие-либо сюрпризы. Поэтому в 1914 г. Аббаса свергли и вместо него поставили править его дядю Хусейна Камиля. Власть Порты, которая и так-то была чисто номинальной, теперь окончательно ликвидировалась. А после поражения в ПМВ Турция уже не могла ничего возразить. Казалось бы, Британия полностью подчинила себе Египет. Однако за время войны в нем смогла укрепиться местная буржуазия, она сколотила капитал на резком росте стоимости сырьевых товаров. Заручившись поддержкой бедняков, которые как обычно считали себя несправедливо эксплуатируемыми, египетская буржуазия начала национально-освободительную борьбу. К ней быстренько присоединилась интеллигенция. Была создана партия “Вафд”, выдвинувшая свою программу: получение независимости и превращение страны в конституционную монархию. Ее лидер Саад Заглул пользовался большим авторитетом в обществе. Поэтому когда его сослали на Мальту от греха подальше – то все египетское население поднялось на его защиту. Начались масштабные акции протеста и гражданского неповиновения. Это был новый метод борьбы, который не предполагал насилия и применения оружия, как при обычных восстаниях и бунтах. Люди просто выходили на улицу и громко заявляли о своих требованиях, отказываясь до их выполнения сотрудничать с колониальными властями (позже подобное повторится в Индии). Движение было по-настоящему массовым. Женщины участвовали в нем наравне с мужчинами. Даже христиане с мусульманами на время отложили свои разногласия ради совместного выступления против протектората Великобритании. Впрочем, несмотря на то, что борьба велась ненасильственными методами, избежать кровопролития с обеих сторон не удалось. Английские войска стали расстреливать протестующих, что в свою очередь вызвало ответную реакцию. Вскоре нападению подверглись как британские военные, так и семьи европейского происхождения. Особенно ожесточенными были столкновения в сельской местности.
Все это счастье затянулось на 3 года и совершенно парализовало жизнь страны. Лондон сформировал комиссию, чтобы лучше изучить ситуацию и начал переговоры с представителями “Вафд”. В конечном счете, комиссия пришла к выводу о целесообразности отмены протектората. В 1922 году Египет получил независимость, но на определенных условиях: во-первых, англичане продолжали контролировать Суэцкий Канал, они сохраняли в его зоне значительный военный контингент, так как для них это был стратегически важный маршрут, который позволял быстро добираться до индийских и азиатских колоний, а также обеспечивать дешевую и бесперебойную транспортировку нефти; во-вторых, оборона страны в целом оказывалась прерогативой британцев; в-третьих, Лондон совместно с Каиром управлял территорией Судана, соответствующее соглашение было подписано еще в 1899 г., Египет хотел владеть Суданом единолично, что установило бы его полный контроль над бассейном Нила, однако в Великобритании не желали подобного усиления Каира. В 1936 году Египет стал полностью независимым государством. Но британцы еще оставались в зоне Суэцкого Канала и участвовали в управлении Суданом. Эти противоречия будут разрешены на повышательной фазе следующего Цикла.
В то же время стоит заметить, что Великобритании достались бывшие немецкие и турецкие колонии – она разделила их вместе с Францией и другими странами-победительницами. Особый интерес представляла территория Ирака, на которой, как предполагалось, должны были находиться большие запасы нефти (и впоследствии это подтвердилось) – здесь еще до войны начались разведочные работы англичан и немцев. Впрочем, новые полуколониальные владения вряд ли могли скомпенсировать потерю старых. Однако тут следует заострить внимание вот на чем. Лондон получил мандат на управление территорией не только Ирака, но также – что очень важно – Иордании и Палестины. Теперь на головы британских чиновников тяжелым грузом ложился арабо-израильский вопрос. Еще с конца 19 века среди евреев по всему миру набирало силу сионистское движение. Его лидеры предложили Великобритании сотрудничество – организовали боевые отряды для участия в войне против Турции, а также предоставили некоторые передовые научные разработки. Взамен Королевство обязалось создать в Палестине государство, в котором могли бы проживать евреи на равных правах с уже проживающими арабами.
При этом англичане по другим каналам вели переписку с шерифом Мекки и королем Хиджаза – Хусейном ибн Али (тот самый). Его владения лежали по западному побережью Аравийского Полуострова (исключая Йемен). Формально он подчинялся Порте, но уже давненько планировал выйти из-под ее контроля. Накануне Первой Мировой Войны такая возможность засверкала вероятностью реализации. Британские переговорщики наобещали ему с три короба. Он хотел заделаться королем всего огромного арабского государства с границами от турецкой Аданы до Аравийского Моря и от побережья Палестины до Персидского Залива. Это предполагаемое государство должно было образоваться в будущем. И англичане, вроде как, были согласны, но с некоторыми оговорками. Взамен Хусейн поднимал восстание против османской власти в наиболее неподходящий для нее момент. Эти секретные договоренности были зафиксированы в переписке. И, как оказалось позже, они противоречили другим секретным договоренностям, но уже с Францией и Россией – так называемое Соглашение Сайкса-Пико. В соответствии с ними Сирия отходила Парижу, а Ирак – Лондону, кое-что перепадало и Петрограду. Но это еще не все. Договоренности с Хусейном и договоренности с Францией и Россией противоречили еще и еврейским договоренностям, и как бы получалось, что они все в какой-то степени противоречили друг другу. Принадлежность Палестины при этом оказывалась неопределенной.
Все тайное стало явным с захватом Петрограда большевиками, которые в 1917 г. обнародовали заключенные договоры царской власти. Возник скандал. Хусейн-то восстание поднял, и при поддержке британских войск оно оказалось вполне успешным. Османская Империя развалилась на радость практически всем. И тут вдруг выяснилось, что оговорки имеют значения, а при ведении международной переписки особое внимание следует уделять нюансам перевода. Каждая сторона по-своему определяла границы единого арабского государства. На Сирию уже претендовала Франция, и пойди попробуй у нее отбери, она держала дулю наготове. Палестина в свою очередь оказывалась не только арабской, но и еврейской. Хусейн, конечно, возмущался. Великобритания пыталась его задобрить. Она сделала его сыновей Фейсала и Абдаллу – королями Ирака и, соответственно, Трансиордании. Эти территории, подмандатные Лондону, в будущем должны были получить независимость. Англичане все равно считали, что не смогут управлять ими, как обычными колониями, слишком сильно было сопротивление народов. В Ираке население вообще подняло восстание в 1920 году. Оно, конечно, было подавлено, однако жертвами стали тысячи иракцев. Сами англичане потеряли от 500 до 1000 солдат убитыми. В итоге Великобритания решила выработать иную стратегию подчинения, более мягкую, и ей в качестве проводника ее интересов нужен был уважаемый всеми человек, с которым она могла бы заключить выгодные соглашения. Для изгнанного из Сирии Фейсала это было как елей на рану. Что же касается Хусейна, то англичане, ко всему прочему, помогли ему в войне с другими аравийскими правителями, которые в отсутствие османской власти готовы были прибрать к рукам его родной Хиджаз прямо вместе с Меккой.
Но обидчивый Хусейн все никак не унимался. Его истошные крики негодования периодически долетали до Лондона. Амбиции и мечты о великом арабском государстве затмевали присущий западному человеку рационализм и мешали трезво оценить ситуацию. В действительности Хусейн не контролировал территорию даже по периметру своих границ. Англичане, отлично это понимая, просто перестали оказывать ему военную поддержку, и, как следствие, конкурирующие аравийские эмиры его быстренько захватили, проглотили, и даже не поморщились. Проблема была решена.
Между тем в Палестину была официально разрешена иммиграция евреев, и установлены соответствующие квоты на их приезд. С самого начала это вызвало возбужденно-негативную реакцию арабского населения. Уже 1920-1921 гг. отметились массовыми еврейскими погромами, которые сопровождались убийствами и грабежами, их жертвами становились десятки человек. Британцам приходилось привлекать войска, чтобы остановить насилие. Совместное проживание двух народов оказывалось весьма затруднительным. Обеспечить безопасность новых поселенцев становилось крайне сложно. Все последующие годы Лондон будет пытаться управлять этими процессами, разруливая спорные ситуации и препятствуя вооруженным столкновениям, периодически ограничивая иммиграцию евреев. Однако число погромов только вырастет, они станут приобретать все более ожесточенный характер, унося жизни сотен людей. Евреи додумаются скупать земли арабских владельцев, живущих за границей. Крестьяне-арабы, арендующие эти земли, будут согнаны новыми еврейскими собственниками, в результате чего начнет расти количество безземельных крестьян. А поскольку евреи будут отказывать арабам в устройстве на работу – то среди них начнет расти и безработица. Все это будет провоцировать новые вспышки насилия. В 1930-ые годы с началом Великой Депрессии ситуация усугубится. В регион хлынут потоки контрабандного оружия. Евреи начнут закупать винтовки и пистолеты. Арабы – создавать подпольные террористические организации. Британская полиция будет проводить рейды и аресты боевиков, что нередко будет заканчиваться перестрелками. На улицах постоянно будут возникать как спонтанные, так и организованные демонстрации, перерастающие в кровавые побоища. Периодически в жилых районах и на площадях будут греметь взрывы бомб. Поддержание порядка станет по-настоящему непростой задачей. У Великобритании начнут портиться отношения с представителями обоих народов – и те, и другие будут считать, что Корона недостаточно заботится об их нуждах. Впрочем, евреи в большей степени будут пользоваться благорасположением англичан. Однако их численность будет оставаться сравнительно небольшой по сравнению с арабским населением, т. е они по-прежнему будут находиться в уязвимом положении. В 1936 году при поддержке нацистов и фашистов произойдет полноценное арабское восстание против Лондона, подавление которого затянется вплоть до 1939 г. С приходом к власти Гитлера в Германии и с началом Второй Мировой Войны начнется массовая иммиграция евреев в Палестину, что приведет к небывалому росту напряженности. К концу Второй Мировой Войны Великобритания, уже заметно подустав, признает, что неспособна урегулировать данный конфликт и передаст его на разрешение в ООН.
Итак, на Ближнем Востоке Великобритания что-то потеряла, а что-то приобрела. На собственных же островах она, очевидно, столкнулась только с потерями – из ее состава вышла многострадальная Ирландия. Изумрудный Остров боролся за свою независимость уже более 8 столетий с переменным успехом. И вот, наконец, когда Великобритания вступила в тяжелую Мировую Войну – перед ирландцами замелькала возможность освободиться от многовекового гнёта. Чем они и воспользовались. Еще в 1916 г. группы мятежников при поддержке Германии устроили Пасхальное Восстание. Население, будучи застигнутым врасплох, отнеслось к нему весьма неоднозначно, кое-где реакция мирных ирландцев была даже негативной. Погибло около 260 человек. Англичане особо не церемонились и для подавления использовали артиллерию, что привело к разрушениям в городах. В итоге восстание не увенчалось успехом. Однако это было только начало. В парламенте активизировались национальные и в том числе националистические политические партии. Особое влияние приобрела радикальная Шинн Фейн. Получив на выборах декабря 1918 года более 70% голосов, она, будучи представительницей Ирландии в парламенте Великобритании, заявила о формировании собственного законодательного органа и об отделении от Королевства. Организованная по этому случаю Ирландская Республиканская Армия (ИРА) начала нападения на британские силы правопорядка. И уже вскоре по всему острову гремели взрывы, а на улицах городов шли полномасштабные бои. Вооруженные столкновения продолжались почти 3 года. Погибло около 2000 человек. На фоне послевоенного кризиса в Лондоне пришли к выводу, что в сложившейся ситуации дешевле ирландцев отпустить. Только без северо-восточной области (Ольстера) – она была в значительной степени заселена протестантами, поэтому была лучше развита в промышленно-экономическом отношении. В итоге ее англичане оставили себе (при согласии самих жителей), а остальной части Ирландии предоставили сначала статус доминиона, а потом и полную независимость. Правда, наиболее горячие головы возмутились наличием переходного периода, а также тем, что Ольстер не попал в зону влияния Ирландского Свободного Государства. В итоге произошел раскол уже внутри ирландского парламента. И дело дошло до гражданской войны, которая унесла жизни еще пары тысяч человек. Члены ИРА в этом конфликте в основном занимали непримиримую позицию, не желая идти ни на какие уступки англичанам. Однако они были хуже вооружены, что не помогла скомпенсировать даже их относительная многочисленность. В конечном счете, победили сторонники договора с Великобританией при частичной поддержке самой Великобритании. С того времени существует независимая католическая Ирландия – занимающая большую часть острова, и северо-восточная область Ольстер – подчиненная Лондону, заселенная в основном протестантами. Что порождает свои специфические проблемы.
Вообще, необходимо заметить, что важным итогом Первой Мировой Войны стало начало деколонизации. В полную силу эти процессы развернутся уже после Второй Мировой Войны, однако маховик был запущен именно в 1910-20-ые годы. И это не случайно. ПМВ очень сильно изменила мир. Принцип территориального подчинения колоний уходил в прошлое. Теперь власть одного государства над другим приобретала совсем иной характер. Это особенно ярко было видно на примере сравнения Великобритании и США. Вашингтон устанавливал свое влияние мягкой силой: торговыми, экономическими и политическими методами, предлагая в некотором роде сотрудничество, пусть даже не всегда равноценное. Это давало Америке преимущество перед империями старого порядка. В Лондоне это понимали. Ведь у британцев был богатый опыт колонизации и решения различных, связанных с этим, проблем. Взять, к примеру, хотя бы Индию. Именно в начале XX века – сразу после Первой Мировой Войны – Махатма Ганди начинает восстание против английского господства. В 1919 г. он прибегает к методам ненасильственного сопротивления (забастовки, бойкоты, митинги, походы, отказ в сотрудничестве). В 1920-30-ые гг. эти методы получат массовое распространение среди индийцев, а движение достигнет своего апогея. К началу Второй Мировой Войны британцы уже будут готовы к тому, чтобы отпустить свою колонию, но обязательным условием поставят участие в боевых действиях против Нацистской Германии.
Ближний Восток и Африка
Персия
В начале 20 столетия революции происходили не только в Европе (и в Америке). В Иране люди тоже боролись за свои политические права, одновременно выдвигая требования и национально-освободительного характера. Об этом уже было рассказано выше. Революция в Иране была подавлена русскими и англичанами. Но затем буквально через пару-тройку лет началась Первая Мировая Война.
Официально страна сохраняла нейтралитет. Но кого это волновало? Турки, объявив войну России, вторглись в Иранский Азербайджан, заставив отступить малочисленные русские отряды. В ответ Петроград послал подкрепления, и вскоре русская армия смогла вернуть часть территорий. Город Тебриз несколько раз переходил из рук в руки. Так началась Персидская Кампания. Теперь Иран становился ареной борьбы уже трех европейских держав. Даже четырёх. Германия, задействовав своих агентов, смогла разжечь в некоторых областях крупные восстания против русских и англичан, а в 1916 г. вообще произошла попытка государственного переворота. Впрочем, в 1917 г. уже и Россия погрузилась в хаос революции, ей стало не до Ирана. Вся тяжесть войны за Персию ложилась на плечи Великобритании, но одновременно она же получала в случае победы самые ценные трофеи.
Лондон волновала, прежде всего, безопасность его нефтяных промыслов, расположенных в районе Персидского Залива. Их защите и уделялось наибольшее внимание. Турция же пеклась только о военных действиях в Закавказье и сохранении собственных иракских земель, видимо, недопонимая значимость как нефтяных месторождений, так и южных территорий Ирана в целом. Британцы, высадившись в районе Залива и выполнив свои первостепенные задачи, стали продвигаться дальше на северо-запад уже по османскому Ираку. Поначалу их действия были успешны: в 1915 г. они захватили город Эль-Кут, намереваясь наступать на Багдад. Но что-то пошло не так, англичане оказались заперты в Эль-Куте, осажденные турецкой армией, и, в конечном счете, в апреле 1916-го под угрозой голодной смерти они вынуждены были сдаться. Это нанесло удар по престижу Великобритании. Она занялась совершенствованием инфраструктуры своих логистических путей. И уже в 1917 г. смогла выбить турецкие войска из Эль-Кута. А затем захватила и Багдад, что было воспринято местным населением весьма позитивно. Основную массу войск составляли индийские отряды. В 1918 г. Османская Империя уже была в значительной степени ослаблена, но продолжала сопротивляться. Однако в октябре Стамбул вынужден был капитулировать. Воспользовавшись случаем, англичане прибрали к рукам и нефтеносный Мосульский Вилайет, включив его позже в свою подмандатную Иракскую Территорию. После этого Великобритания стала господствовать на Ближнем Востоке, деля его только со своими французскими и американскими союзниками. Активно развивалась созданная еще в 1909 г. Англо-Персидская Нефтяная Компания, которая сейчас известна под именем British Petroleum (BP).
В самой Персии обстановка в первые послевоенные годы оставалась неспокойной. То и дело вспыхивали восстания. В 1920 г. на южном побережье Каспия при поддержке СССР была создана Гилянская Советская Республика. Но она просуществовала недолго (чуть больше года), после вывода советских войск была ликвидирована иранскими войсками. В том же 1920-ом из-под контроля вышел Азербайджан. Лидер бунтовщиков Мохаммед Хиябани, возможно, и не был настроен просоветски, но осуществленные им реформы были вполне в духе марксизма-ленинизма. Через полгода центральная власть подавила движение и вернула область под свою юрисдикцию. В 1921 г. генерал Реза Пехлеви под предлогом восстановления порядка совершил государственный переворот, сместив с должности премьер-министра. Результатом этого стало возвышение самого Пехлеви, который был назначен шахом на высокие правительственные посты. Буквально через два года Реза уже возглавлял правительство страны. А в 1925 году он при поддержке меджлиса сверг последнего шаха из Каджарской династии и занял его трон. С того момента началось правление династии Пехлеви (он и его сын).
Реза решил плотно сотрудничать с Лондоном, предоставляя англичанам концессии, заключая с ними торговые соглашения и перенимая европейскую культуру. В Персии была запущена индустриализация и модернизация. Частично отменялись мусульманские порядки. Многие даже напрямую называли Пехлеви человеком Великобритании. При этом было распространено мнение, что иранцы недополучают свою долю от разработки нефтяных месторождений. Страна оставалась нищей. Земельная реформа, обещанная новой властью, так и не была проведена. Все это послужит источников противоречий и выльется в новый передел на следующей повышательной фазе.
Ливия
Как уже было отмечено, в 1911 г. бравые итальянцы вторглись в Ливию, находящуюся под юрисдикцией Стамбула. Война шла чуть больше года. И, как ни странно, Италия ее выиграла, впервые в истории применив авиацию для разведки и поражения сил противника. Самолеты и дирижабли сбрасывали бомбы на турецкие позиции. Сложно сказать, внесло ли это какой-то большой вклад в успех боевых действий. Сражения также велись и на море. Но, как бы там ни было, римляне смогли принудить Порту к выводу войск из страны. Хотя кампания оказалась дорогостоящей. Война преподносилась как освобождение ливийцев от османского владычества. Однако в реальности ливийцы не были рады приходу освободителей. Начав колонизацию, Рим достаточно быстро столкнулся с сопротивлением местного населения, которое продолжалось вплоть до окончания Второй Мировой Войны. Первые годы итальянцы вообще не могли справиться с восстаниями аборигенов. Продвижение вглубь страны шло медленными темпами. Нередко приходилось прибегать к дипломатии и заручаться поддержкой глав отдельных племен. Только приход к власти фашистов смог повысить эффективность в процессе освоения захваченных территорий. В 1931 г. был пленен и казнен лидер национально-освободительного движения Омар аль-Мухтар. Рим активно использовал для борьбы с повстанцами концентрационные лагеря, истреблял население и целенаправленно уничтожал скот. При этом самих итальянцев стимулировал переселяться на североафриканское побережье. Но в конечном итоге Ливия не стала для Рима тем же, чем стала Северная Америка для Англии. Во время ВМВ британские и французские войска смогли выдавить фашистов из Африки, фактически освободив от черной чумы местных аборигенов. В конце 1940-ых гг. в ООН был запущен процесс оформления и регистрации Ливии как суверенного государства. Он завершился в 1951 г. Ливия стала конституционной монархией, а ее первым королем был назначен Идрис из рода Сенуситов, который сотрудничал с англичанами во время военных компаний.
Афганистан
Ранее уже было рассказано о том, как англичане пытались взять под контроль Афганистан на рубеже 1830-ых и 1840-ых годов. Результаты их усердий были неоднозначными. В этой проклятой горной стране были похоронены тысячи подданных королевы Виктории и миллионы фунтов стерлингов. Но и русские тоже ушли ни с чем, поэтому главная задача, в общем-то, была выполнена. Хотя заплатить за это пришлось высокую цену.
Второй поход англичан в Афганистан в 1878-90 гг. оказался более успешным. Причина была та же – попытка Петербурга и Кабула установить тесные дружеские отношения. Лондон отговорил афганских эмиров от этой затеи. Особенно убедительными были шотландцы с винтовками в руках и в своих шерстяных юбках, называемых килтами. Одна только угроза задрать повыше килты могла нанести афганцам непоправимую психологическую травму. В общем, после непродолжительной войны Кабул согласился вести торговлю и дипломатическую переписку только с Лондоном, англичане получали право свободного передвижения по стране и некоторые другие привилегии. Зато в Афганистан стали поступать кое-какие деньги и даже последние новинки научно-технической мысли.
В 1885 году произошло столкновение между афганскими и русскими войсками, ставшее известным как Бой на Кушке. Русские, продвигаясь в Южной Азии, захватили спорный оазис Пандждех, который сами русские считали туркменским, но афганцы были с ними не согласны. Англичане же полагали, что русские готовятся к вторжению в Индию. Этот инцидент стал кульминацией Большой Игры между Лондоном и Петербургом, но в итоге был урегулирован дипломатами. Россия отказалась от дальнейшего продвижения. А в последующие годы британцы и русские совместно определили границы Афганистана, договорившись между собой друг на друга не нападать. Немецкая угроза обоим народам виделась все более устрашающей. И уже в начале XX века в 1907 г. было заключено Англо-Русское Соглашение, разрешившее основные противоречия перед мировой войной.
Афганистан сильно зависел от финансовых вливаний из Великобритании. Но ее протекторат давил на самолюбие афганских эмиров. Поэтому, нахватавшись реформаторских и либеральных идей от османов, которые в свою очередь нахватались их от всё того же ненавистного Запада, эти эмиры решили из-под британского протектората выйти. В 1919 году Аманулла-хан, воспользовавшись усталостью Лондона от сражений Первой Мировой Войны и последовавших за этим восстаний то там, то сям – объявил борьбу за независимость. Причем сам напал на англичан. Вторгся в Индию на территорию современного Пакистана. Однако афганская армия не была достаточно хорошо подготовлена к боям с ведущей европейской державой. Поэтому в чисто военном отношении Аманулла-хан проиграл. Его войска были разгромлены, а города еще и подверглись бомбардировке с воздуха. Но британцы потеряли больше, чем могли себе позволить. К тому же в их рядах начиналось брожение, откровенное недовольство новыми боевыми походами. В итоге Лондон, как и в случае с Ирландией, решил, что дешевле будет отпустить Кабул на все четыре стороны. Далеко-то он все равно не убежит. Кому он нужен – такой нищий и ободранный? В общем, Афганистан получил полную независимость, в том числе в своей внешней политике. Между ним и английским Пакистаном была окончательно утверждена граница – так называемая Линия Дюранда. И денег ему Корона больше не предоставляла. Бюджет сразу же лишился половины средств. Как видно, Первая Мировая Война привела к масштабному переделу по всему миру, даже в самых темных его уголках.
Дальнейшие события в Афганистане (уже на понижательной фазе Цикла) представляют собой иллюстрацию стандартного паттерна поведения недоразвитого общества, засевшего в религиозном болоте ислама и не желающего из него выбираться. Подробнее эти паттерны будут описаны в разделе – “Холодная Война. Ближний Восток”. Сейчас же коснемся только темы Афганистана.
Добившись независимости, Аманулла-хан установил дипломатические отношения с московскими коммунистами, которые как раз в это время завершали Гражданскую Войну и прибирали к рукам отколовшиеся от Российской Империи территории. Под влиянием советских советников Аманулла-хан запустил в стране масштабные реформы, в том числе провел секуляризацию, ограничив власть религиозных лидеров. Система образования приобретала более светский характер, а женщины получали дополнительные права в ношении одежды и защиту при вступлении в брак. Жена Амануллы вообще была феминистской, ходила без чадры в европейском платье, распространяла идеи эмансипации и строила школы для девочек.
“Ну, удачи вам!”, – сказали англичане и принялись ждать, попивая у себя в Лондоне чай с печеньками. Долго ждать не пришлось. Религиозные лидеры, имевшие особое влияние на нищих простолюдинов (которых в Афганистане было немало), подняли их на восстание, пообещав снижение налогов, прощение долгов и возвращение законов шариата. Тут же появились и военные лидеры – такие как Ибрагим-бек и Хабибулла Бачаи-и Сакао, весьма колоритные личности, надо сказать. Первый уже некоторое время возглавлял крупные формирования басмачей – по сути, вооруженные банды мусульманских фанатиков, которых большевики выдавили из Туркменистана и Узбекистана. Второй был каким-то мутным не то дезертиром, не то бандитом, а, скорее всего, и тем, и другим одновременно. Оба начали борьбу за все традиционное и против всего иноземного, развязав, таким образом, гражданскую войну.
Самим-то англичанам были глубоко до фени вопросы отставания в развитии афганского общества. Страну они рассматривали исключительно в качестве буферной зоны, преграждаюшей русским путь в их (англичан) азиатские колонии. А вот советские коммунисты ставили перед собой цели преобразования темного безграмотного религиозного населения в современное образованное атеистическое общество. Поэтому периодически попадали в курьезные ситуации.
Зимой 1929 г. Хабибулла Бачаи-и Сакао со своими скрепными отрядами занял Кабул, где начал уничтожать все атрибуты современной Западной Цивилизации, в том числе светские школы, радиостанции, промышленные предприятия, а также население, которое успело немножко секуляризоваться. Он объявил себя ни много ни мало новым эмиром Афганистана. Прежний эмир Аманулла-хан по такому случаю бежал в Кандагар и запросил у Москвы помощи. В стране же началась полная анархия.
Весной 1929 г. специально подготовленные советские отряды под предлогом восстановления власти законного правительства вошли в Афганистан. Бравые красноармейцы, хоть и не без труда, но достаточно быстро и технично заняли несколько городов, покрошив при помощи пулеметов и артиллерии тысячи плохо вооруженных афганцев. Однако Аманулла-хан неожиданно сдриснул в Британскую Индию, немало озадачив своих сторонников. В итоге бравые красноармейцы, почесав затылки, вскоре вынуждены были вернуться в Москву. В образовании такой вот непонятной ситуации они обвинили Лондон.
После этого за дело взялись профессионалы, то есть англичане. Они оказали помощь родственнику бежавшего Амануллы-хана – Мухаммеду Надир-шаху, который заручился поддержкой пуштунских племен и повел их на Кабул. Столица была отбита у мятежников уже в октябре 1929 г. А Бачаи-и Сакао, провозгласивший себя эмиром, лишился не только этого титула, но и своей собственной жизни. Через 2 года были разгромлены и отряды Ибрагим-бека. Надир-шах стал новым королем. Афганистан возвращался в сферу влияния Великобритании. А куда ему еще было податься? Не к коммунистам же идти в самом деле.
Однако в 1933 г. Мухаммед Надир-шах будет убит. Ему наследует его сын Мухаммед Захир-шах, который в 1960-ых годах запустит новый этап либеральных и демократических реформ. После же Второй Мировой Войны Британская Индия (включающая в себя современный Пакистан и Бангладеш) получит независимость от Лондона, и для англичан вопрос присутствия в Афганистане уже не будет столь актуальным. Подробнее об этом будет рассказано в разделе “Холодная Война”.
Понижательная Фаза
Понижательная фаза Третьего Цикла, как и полагается, отметилась экономическим кризисом. Хотя начался он не сразу. В США экономика, получившая мощный импульс к развитию, еще какое-то время достаточно сильно росла. Но образовались определенные дисбалансы. Все большую роль приобретал спекулятивный элемент. И в 1929 году грянула Великая Депрессия. Это был самый страшный экономический кризис в истории Штатов (впрочем, и самый хорошо изученный). Он также затронул Европу и многие другие страны. Однако стоит заметить, что Великая Депрессия протекала везде по-разному. Например, Великобритания пострадала не очень сильно и смогла восстановить свой ВВП на душу населения уже к 1934 г. За первые 3 года Депрессии ее промышленное производство сократилось на 23%. Кому-то может показаться, что это много. Но вот Штаты за те же 3 года столкнулись с падением промпроизводства на 46% (почувствуйте разницу). Это было самым глубоким падением в Западном мире и напоминало катастрофу. Существенно сократилось ВВП на душу населения – на 31%, достигнув дна в 1933-ем, и вернуться к значениям 1929 года оно смогло лишь через 10 лет. Фактически потерянное десятилетие. Как будто и не было его. Если не считать страданий миллионов разоренных и обанкротившихся, толп безработных и оголодавших людей. В то же время уровень богатства в Америке все равно оставался выше, чем у европейских стран (даже в 1933 г.), и по этому показателю она конкурировала разве что с Великобританией. Однако менее богатая Франция, например, меньше и пострадала – ее промышленное производство сократилось на 24%, а ВВП на душу ужалось на 15%. Короче, именно США, больше всех выигравшие от ПМВ и сильнее всех выросшие – больнее всех упали. И это очень интересно.
Вообще, я в последнее время прихожу к выводу, что главной причиной Великой Депрессии был стремительный рост Америки, получившей основные выгоды от глобальной войны. Просто Штаты слишком сильно разогнались, и при этом подняли вверх много спекулятивной пены на финансовом рынке. Так что вряд ли протекционистский закон Смута-Хоули сыграл в событиях Великой Депрессии ключевую роль (как некоторые утверждают). Протекционизм являлся основной торговой политикой США на протяжении ста лет – с начала 19 века. Эта политика обеспечила стране индустриальный рост и процветание. Закон Смута-Хоули 1929 г., еще больше увеличивший тарифы, лишь усугубил проблемы международной торговли. Но он сам был в некотором роде ответом на кризис. Причины же Великой Депрессии лежали глубже. Как оказалось, капитализм, ни чем не сдерживаемый, приводит к очень большим перекосам. Его колебания порой могут быть разрушительными для общества. Поэтому его неплохо бы дополнять социальными мерами поддержки и регулирования, сглаживая амплитуду волнений.
Дело в том, что война привела к очень большому скачку товарных цен. На этом хорошо можно было заработать (если тебя никто не захватывает). После войны цены рухнули. У фермеров скопились излишки запасов, и часть посевных площадей оказалась избыточной. Однако общий рост экономики еще продолжался. Ее относительно быстро смогли переориентировать на гражданское производство. А бурно развивающиеся города предъявляли все больше спроса на товары и услуги. Поэтому первое десятилетие после ПМВ вошло в историю как “Ревущие Двадцатые”. Общество обогащалось, росло потребительское кредитование, люди вовсю тратили деньги. В культуре произошла своеобразная революция. Появились новые виды искусства, такие как: кинематограф, радио, телевидение. Расцвели новые виды музыки (джаз, блюз, кантри) и танцев (свинг, чарльстон, степ). Эмансипированные женщины получили избирательные права, стали работать, активно сниматься в кино и выступать на сцене. Зарождалась сексуальная революция. Началась повсеместная электрификация, появились неоновые вывески, ночной город засиял иллюминацией. Также в это время автомобиль впервые становится массовым товаром. И по этой причине началось масштабное строительство шоссейных дорог. В общем, мир изменился до неузнаваемости. Настала новая эпоха. Экономика, впитывая в себя свежие технологии, расширялась и усложнялась.
Но в то же время все больше увеличивался разрыв между городом и деревней. А ведь население, так или иначе связанное с аграрной деятельностью, до сих пор составляло половину от всего населения страны. По причине сокращения доходов эти люди не могли позволить себе новые товары, которые потреблялись в городах. Вот на это расхождение (рост в городе и кризис в деревне) в мегаполисах обращали мало внимания. Падение товарных цен на сельхозпродукцию по большей части игнорировалось. Но деревья не растут до небес. Вскоре городское потребление начало замедляться, а деревенские жители из-за своего плачевного состояния не смогли предъявить дополнительный спрос на новые товары и услуги. Это был тупик. Здесь стоит заметить, что в то время у руля ФедРезерва еще не было упоротых монетаристов. Поэтому система, достигнув точки насыщения, стала возвращаться к равновесию, от которого она слишком сильно отклонилась. Вскоре вся экономика отправилась туда же, где уже находились товарные цены. Великая Депрессия выявила необходимость в новом переделе, который начался достаточно скоро.
Последствия кризиса были огромны – как финансовые, так и социально-экономические, и даже политические. Что касается первого, то фактически можно было говорить о крахе прежней финансовой системы, основанной на Золотом Стандарте. В то время курс валюты жестко привязывался к драгоценному металлу, а сама валюта свободно конвертировалась в его физический объем. Главной резервной валютой мира являлся британский фунт стерлингов. С началом Первой Мировой Войны он отошел на второй план, а на Олимп взошел американский доллар. Когда война закончилась, Англия попыталась восстановить доверие к своему фунту, дополнив систему Золотого Стандарта долларовыми авуарами. Но наступила Великая Депрессия, и финансы затрещали по швам, причем у всех. Доходы резко сократились. А расходы никуда не делись – их пришлось покрывать за счет печатанья новых объемов валюты. Но это еще не все. Поскольку данный кризис был классическим кризисом перепроизводства – то возникла дичайшая дефляция (удешевление стоимости товаров – процесс обратный инфляции). К тому же из-за биржевой паники возник резкий спрос на наличные деньги. Все были по уши в кредитах и акциях, купленных под залог с большим плечом. Но кэша (налички) ни у кого не было. А долги нужно было как-то отдавать. А как отдать долги, если нет денег (а есть только долги)? Те, у кого были деньги на счетах в банках – начали их в спешке забирать. Что в итоге привело к краху множества банковских учреждений и вызвало ситуацию тотального недоверия участников рынка друг к другу. Наличные деньги становились дефицитом. Возник кризис ликвидности. Отказ от Золотого Стандарта был предопределен. Первой это сделала Великобритания – в 1931 году. Фунт становился свободно плавающей валютой. В условиях оттока золота из страны привязывать к нему курс было уже невозможно. Другие европейские страны пока сопротивлялись. Они создали так называемый Золотой Блок – в него вошли Франция, Нидерланды, Бельгия, Люксембург, Швейцария, Италия, и даже Польша. Однако в 1934 г. власти США, проведя частичную конфискацию золота у населения, девальвировали свою валюту, подняв курс к желтому металлу с 20 долларов до 35 (за тройскую унцию). После этого посыпался и Золотой Блок, который тоже полагался на крепость доллара. Страны одна за другой начали отвязывать свои валюты от золота, что вело к их ослаблению. Наряду с печатаньем денег это хоть как-то помогало сократить дефицит бюджета и скомпенсировать дефляционные процессы. Затем началась Вторая Мировая Война. После нее Штаты создадут свой золото-долларовый стандарт (Бреттон-Вудская Система). Он продержится до 1970-х годов. Таким образом, США, несмотря на то, что испытали самое сильное падение, все же остались в выигрыше. Они не просто сохранили более высокий, чем в Европе, уровень благосостояния, они еще аккуратненько подвинули Царицу Морей в системе международных финансов. Окончательно это станет понятно – равно как и наступление гегемонии США в мировом производстве и в политике – после 1945 года. Но это уже другая история (будет рассказано позже).
Серьезные изменения произошли и в социально-экономической сфере. До начала Великой Депрессии считалось, что экономика должна развиваться свободно и самостоятельно без вмешательства государства. Как говорится, невидимая рука рынка все выровняет и расставит по своим местам. В соответствии с этим уровень регулирования был минимальным, особенно в Штатах. Такая политика носила название Laissez-Faire, что по-французски означает: “позвольте делать”, или в другом варианте – “отпусти ситуацию”. Некоторые экономисты в шутку называли эту политику идеологией “ленивых фей” – за созвучие с англоязычным “lazy fairies”. И действительно, секта “ленивых фей” довела ситуацию до того, что амплитуда рыночных колебаний становилась просто разрушительной для общественной жизни. Резкий подъем цен во время войны сначала вызвал дефицит товаров, простимулировал их усиленное производство и, в конечном счете, закономерно привел к их перепроизводству, то есть возникло затоваривание, переизбыток продукции. Затем после войны цены упали, что вызвало сокращение выпуска продукции, и, как следствие, начались разорения и банкротства предприятий по всей торгово-производственной цепочке. Что в свою очередь привело уже к массовым увольнениям людей и всплеску безработицы. Продукция-то на рынке была. Ее было завались. Но купить ее позволить себе мог уже не каждый – т.к. из-за потери работы не имел денег. И плюс к потере работы многие еще и проигрались на бирже, и оказались должны брокерам и прочим кредиторам. Отсутствие денег у потребителей означало сокращение спроса – что в свою очередь еще больше увеличивало затоваренность, еще больше заставляло производителей сокращать выпуск, и, соответственно, подталкивало еще активнее увольнять занятый на предприятиях персонал. Это приводило к раскручиванию спирали дефляции и усугублению кризиса. Ситуация становилась настолько критической, что продукцию начинали целенаправленно уничтожать – чтобы сократить на рынке ее предложение и тем самым повысить на нее цены.
В конце концов, Штаты вынуждены были постепенно перейти к регулированию экономических процессов. Для начала были введены определенные ограничения в биржевой торговле – например, широко известный закон Гласса-Стигола 1933 г. запрещал банкам смешивать традиционные услуги (кредитование, открытие депозитов) и спекуляцию ценными бумагами. Банки разделились на: коммерческие и инвестиционные. Также этот закон вводил практику обязательного страхования вкладов – в случае банкротства банка вкладчики получали назад свои средства за счет государства (оно в свою очередь создавало некий резерв за счет обязательных отчислений из самих банков). Учрежденная в 1934 году Комиссия по Ценным Бумагам (SEC) устанавливала прочие правила работы на бирже. Для поддержки аграрного сектора фермерам были выделены субсидии и разработаны меры по контролю за ценами. Ну, и самое главное – были приняты достаточно мощные социальные программы помощи населению. Пособия по безработице, пособия по инвалидности, обязательные пенсии, 8-часовой рабочий день, минимальный уровень зарплаты – эти и многие другие механизмы защиты трудящихся были введены в период 1933-38 гг. Борьба за реализацию подобных инициатив ожесточенно велась еще с 19 в., обострившись к рубежу столетий. Кое-что принималось в отдельных штатах или в частном порядке некоторыми компаниями. Но на федеральном уровне социальные программы в США полноценно были введены только после Великой Депрессии. Все это получило название – Новый Курс Рузвельта. Парадигма изменилась. Люди достигли следующего уровня понимания реальности. Невидимая рука уже не пользовалась доверием. Рынок рано или поздно, конечно, достигает равновесия. Он сбалансируется самостоятельно. Но, как оказалось, в процессе балансирования он может похоронить под собой множество людей.
В политической области последствия кризиса проявились, прежде всего, в том, что было подорвано доверие к либерально-демократической системе и капитализму. Голоса коммунистов, которые были слышны и до этого, теперь зазвучали истошным криком настолько сильно, что эхом докатились даже до Вашингтона. А в наименее развитых странах Европы коммунисты начали приобретать особую поддержку населения. В тех странах, которые были чуть более развиты, но все равно не дотягивали до уровня США и Великобритании – там активизировались радикальные националистические движения, которые стали представлять альтернативу коммунистам. В Германии падение промышленного производства в 1929-1932 гг. составило 41%, что было сопоставимо с американским провалом и почти в 2 раза превышало падение в Англии. ВВП на душу населения снизилось на 18%. Но только нужно учитывать, что немцы падали с более низкой базы, да к тому же кризис у них был отягчен недавним поражением в войне, потерей колоний и необходимостью выплачивать репарации. В итоге общенациональная горечь и озлобление достигли такого уровня, что у населения сформировался запрос на агрессивный фашиствующий режим. Об этом и будет рассказано в следующей главе.
Иногда приходится слышать, что, дескать, во время Великой Депрессии, пока Запад был погружен в кризис – в коммунистическом СССР, наоборот, наблюдался индустриальный подъем. Это особенно смешно звучит на фоне того, что именно во время Великой Депрессии в СССР от голода умерли миллионы человек (1931-33 гг.). Вина за это полностью лежит на коммунистах и лично Сталине. В США, конечно, тоже люди местами голодали. Но миллионами не умирали при этом. В капиталистическом государстве работали благотворительные организации. К процессу кормления безработных подключалась даже мафия. И, в конце концов, хоть и не без труда, но были приняты программы помощи нуждающимся на законодательном уровне. В СССР же Сталин целенаправленно ограничивал перемещение голодающих крестьян, чтобы их умерло как можно больше – таким образом он стремился сломить их сопротивление. Подробнее об этом написано чуть ниже – сразу в следующей главе. А здесь лишь остается отметить, что голод 1932-33 годов в Советском Союзе является трагедией для всех нормальных людей. Но для коммунистов это до сих пор предмет насмешек и анекдотов. Настолько они ущербны, настолько они ненавидят и презирают человечество. Они готовы истребить еще больше ради собственных прихотей и воплощения в жизнь своих влажных фантазий. В моральном отношении коммунисты абсолютно ничем не отличаются от нацистов. Они в дальнейшем устроят массовый голод во многих уголках планеты – например, в Китае, Камбодже и Северной Корее.
Понижательная Фаза в России (СССР)
В “Итогах и Последствиях Первой Мировой Войны” уже было написано, как Ленин, захватив рычаги управления Россией, попытался построить систему безденежного распределения товаров. У него ничего не получилось. Он только демотивировал крестьянских работников и вызвал в стране массовый голод. Проблема заключалась в том, что он выкупал у крестьян зерно по цене ниже рыночной, и крестьяне, лишившись стимула, закономерно сократили посевные площади. Тогда Ленин принялся силой изымать зерно у крестьян. Это ни к чему не привело, а только спровоцировало вооруженные крестьянские восстания. В городах возник дефицит продовольственных товаров, и рабочие на заводах тайно занимались спекуляцией. В условиях Гражданской Войны это всё вело к экономической и социальной катастрофе. Поэтому Ленин вынужден был объявить Новую Экономическую Политику – по сути, допустив рыночные отношения.
Так вот, пока коммунисты не трогали систему – все работало прекрасно. Крестьяне увеличивали посевные площади, росло производство зерна, хлеба и других товаров. Но в конце 1920-ых (конкретно – с 1927 г.) по приказу Сталина снова начали выкупать у крестьян хлеб по цене ниже рыночной. Причем на тот момент для этого уже не было никаких оснований, гиперинфляция закончилась, курс рубля более-менее стабилизировался. В итоге крестьяне снова начали сокращать посевные площади, ибо не видели никакой выгоды для себя в том, чтобы выращивать зерно, сдавая его фактически по себестоимости. Для любого человека, обладающего хотя бы зачатками интеллекта, понятно: чтобы заставить кого-то производить больше – нужно показать ему выгоду, дать ему стимул. Но коммунисты зачатками интеллекта не обладали. У них не хватало ума даже на то, чтобы просто поднять налоги (чтобы заплатить налоги, крестьяне вынуждены были бы понести зерно на рынок, увеличив его производство). Просто коммунистами становились исключительно безграмотные люди, которые умели только грабить и убивать. Именно этим они и занялись. У крестьян под дулами винтовок стали изымать зерно. Выносили все под чистую. В ряде случаев забирали даже посевные семена – что закономерно приводило не только к голоду, но и к сокращению будущего урожая, ведь очевидно, что без посевных семян невозможно ничего вырастить (этого коммунисты не знали). Затем началась насильственная коллективизация – все земельные участки объединялись в колхозы и совхозы, частное землевладение полностью ликвидировалось. Проводилось тотальное обобществление – всю скотину и птицу принуждали сдавать в единый фонд, отбирали даже единственную курицу, имевшуюся в хозяйстве. Крестьяне, понимая, что свою скотину они больше никогда не увидят – начали ее забивать. Это привело к настоящей катастрофе в животноводстве и коневодстве: поголовье коров, свиней и лошадей сократилось наполовину, а поголовье овец и коз – в 3 раза. Животные также умирали из-за ненадлежащего ухода в неприспособленных для этого колхозных помещениях.
Впрочем, пострадали и те крестьяне, которые не оказывали никакого сопротивления. Из-за плохого управления и ошибок в планировании многим хозяйствам спустили сверху нормы сдачи хлеба, которые превышали возможности их посевных площадей – проще говоря, они физически не могли вырастить столько зерна. Однако невыполнение норм влекло за собой жестокие наказания. Другим хозяйствам – которые все-таки выполнили нормы сдачи – дополнительно выставляли новые нормы, которые они осилить, естественно, уже были неспособны. Делалось это по той причине, что в целом план по сбору зерна срывался, и на местах стремились закрыть дыры, взваливая на успешные хозяйства дополнительные обязанности – то есть пытались выехать за счет добросовестных работников, повышая им нормы сдачи. В ряде случаев из-за некомпетентности властей на хозяйства налагали сразу два, а то и три плана. Очевидно, что коллективизация была продумана крайне плохо. Из-за низкого интеллекта управленцев – начиная с партийной верхушки в Москве и заканчивая местными органами – погибло много людей, а также было потеряно большое количество урожая и животного фонда. Изъятие у крестьян зерна и обобществление собственности сопровождалось насилием, убийствами и пытками. Людей избивали, душили, калечили, ломали пальцы, раздевали до гола и заставляли часами сидеть в снегу. Целые семьи выгоняли из собственных домов. На морозе оказывались даже женщины с грудными детьми, причем соседям запрещалось принимать их к себе в жилище. Часть людей после ограбления подверглась репрессиям и перемещению в Сибирь, их транспортировали в нечеловеческих условиях, в результате чего многие погибли. В конечном итоге жертвами всего этого безумия стали миллионы – по разным данным от 4,5 до 10 млн. крестьян умерли от голода, пыток, были расстреляны или замерзли на улице.
Насильно изымаемое у крестьян зерно продавалось на экспорт, и полученные деньги тратились на приобретение иностранного оборудования и машин, а также шли на оплату американским специалистам – инженерам, строителям и агрономам (последние разрабатывали для советской деревни планы севооборота). В страну завезли трактора и комбайны, построили собственные промышленные мощности по их дальнейшему выпуску, осуществили модернизацию устаревшего производства, и проложили соответствующую инфраструктуру. Некоторые заводы были напрямую привезены из США в разобранном виде (например, Волгоградский Тракторный Завод). Автомобильные заводы ГАЗ и АЗЛК проектировались американским бюро Альберта Кана, производственные мощности на них были установлены компанией Ford, и первые годы эти заводы выпускали модели Ford-A и Ford-АА, а впоследствии был налажен выпуск лицензированных копий других американских автомобилей. ДнепроГЭС возводилась по проекту и под руководством американской команды Хью Купера, гидротурбины для нее поставила General Electric, а трансформаторы, паровые турбины и камнедробилки – немецкий концерн Фридриха Круппа, мосты строили чехи. Таким образом, Сталин просто импортировал американские и европейские технологии. Это стало, пожалуй, единственным конструктивным решением. И, по сути, это все, до чего додумался Иосиф Джугашвили (странно, что он додумался хотя бы до этого). Именно промышленной модернизацией коммунисты и пытаются оправдывать все зверства и грабежи советской власти. Ведь собственными силами, без помощи Запада, индустриализацию провести было невозможно. Своих технологий у русских людей не было. А коммунисты создавать технологии в принципе не умели. Поэтому они сначала ограбили крестьян, затем продали их зерно, получили деньги, и только потом импортировали технологии. Но, как уже было отмечено, повысить сбор зерна можно было и другими способами. Для этого просто нужно было продолжать выкупать у крестьян хлеб по рыночным ценам, что подтолкнуло бы их к увеличению производства. Можно было еще поднять налоги. Или прибегнуть к иным мерам. Все это прекрасно работало во всем мире. Поэтому в XX веке в капиталистических странах в невоенное время не было массового голода. Массовый голод был только у криворуких коммунистов, которые ничего не умели. Проведенная ими коллективизация вообще оказалась провальной. Ее результатом стало сокращение поголовья скота в два раза (вообще-то, тоже еда). Даже на полях в голодные годы произошло снижение сбора зерновых культур. Практика обобществления хозяйств обернулась огромными потерями. Катастрофу в животноводстве удалось ликвидировать только к началу 1960-х гг.
Необходимость создания колхозов часто объясняется тем, что агротехника (трактора и комбайны) наиболее эффективна на больших земельных участках, а на мелких участках ее использовать довольно сложно. К началу же 1930-ых годов крестьянское хозяйство отличалось малоземельем, оно было, что называется, парцеллярным, то есть миллионы работников владели – каждый небольшим участком. Однако парцеллярным крестьянское хозяйство сделали именно коммунисты. Придя к власти, большевики отменили помещичье и частное землевладение, и далее земля была перераспределена между общинами. Крестьян было очень много. А земли не очень. Поэтому основной массе крестьян достались маленькие наделы. Значительной части крестьян при этом не досталось вообще ничего. Если бы большевики не приняли Декрет о Земле – то как раз на крупных землях бывших помещиков можно было бы применять агротехнику. При этом стоит отметить, что с начала Столыпинской Реформы крестьяне активно продавали свои небольшие участки, которые они считали недостаточными для прокорма семейства, и мигрировали в города. Таким образом, росла урбанизация и напряжение в деревне постепенно рассасывалось. А крупные землевладельцы могли крестьянские участки выкупить, еще больше увеличив свои наделы. Другими словами: в стране существовали как крупные землевладельцы (бывшие помещики), так и мелкие в лице бывших крепостных крестьян, и многие крестьяне избавлялись от своих мелких наделов, уходя в город и пополняя класс рабочих. Этот процесс шел постепенно, и он мог относительно безболезненно сократить численность сельских жителей. Но большевики своим Октябрьским Переворотом прервали его. Революция и анархия в обеих столицах, а затем и ленинский Декрет о Земле – привели к миграции населения из городов обратно в деревни. Крупное землевладение было ликвидировано, и крестьянское хозяйство снова стало парцеллярным. Все результаты Столыпинской Реформы были перечеркнуты в одночасье. Как видно, у коммунистов изначально не было никакого адекватного плана по решению существующих в стране проблем. Они вообще не задумывались об угрозе перенаселения деревни. Их основной целью было – захватить поскорее власть. Ленин желал превратить Россию в лабораторию для своих экспериментов, а ее граждан в подопытных крыс. Он ненавидел крестьян и считал их реакционным классом, о чем сам неоднократно писал. Он дал крестьянам землю только для того, чтобы избавиться от них – ибо знал, что они не будут бороться за свои политические права и не станут ему мешать в Петрограде устанавливать диктатуру, а разбегутся по своим общинам делить земельные наделы. На это и был сделан основной расчет. Таким образом, большевики, придя к власти незаконным вооруженным путем, просто обманули крестьян. Те поначалу радостно восприняли декрет Ленина о земле. Но потом очень удивились, когда коммунисты пришли у них забирать зерно, а еще позже – пришли отбирать и землю, насильно сгоняя всех в колхозы.
Чтобы крестьянское хозяйство не становилось парцеллярным, и чтобы не прерывался процесс урбанизации, нужно было: во-первых, не устраивать Октябрьский Переворот, Антанта бы победила Германию, и процессы, начатые реформой Столыпина, возобновились бы после войны; во-вторых, не принимать Декрет о Земле, оставить крупные землевладения. В-третьих: если бы Ленин не кинул союзников по Антанте, не заключил бы с Германией позорный Брестский Мир, не отказался бы от кредитных обязательств перед Францией, Великобританией и США, и не декларировал бы цели свержения законных правительств в капиталистических странах – то Россия (СССР) не оказалась бы в изоляции, в страну бы снова потекли инвестиции и промышленная модернизация продолжилась бы. Но даже после того, как все уже произошло и стало печальной реальностью, в качестве альтернативы насильственной коллективизации можно было бы, опять же, поднять налоги на землю – это вынудило бы крестьян продавать ее и уходить в города на производства. Это могло бы стать решением проблемы аграрного перенаселения. Однако коммунисты предпочли наиболее деструктивный и кровавый путь – путь грабежа и убийств.
Пока население СССР умирало от голода, Сталин решил воспользоваться случаем и организовал по всей стране работу печально известной сети Торгсин. Ее магазины поначалу продавали иностранцам предметы антиквариата. Но уже в 1931 г. стали продавать еду советским гражданам за золото, серебро и валюту. Причем цены были завышенными. Таким вот незамысловатым способом советская власть изымала у людей драгоценности, взамен предоставляя им низкокачественные продукты питания (например, подпорченную ржаную муку). Злоупотребления среди работников Торгсина случались регулярно. Уровень коррупции зашкаливал. Обманы покупателей, обвешивания и даже обыкновенное воровство были чем-то самим собой разумеющимся. Коммунисты только на словах боролись со спекуляцией и отстаивали принципы равноправия. В действительности в условиях жесточайшего дефицита спекуляция в СССР процветала и была повсеместной, а в тяжелые годы приобретала крайне аморальный характер. Выручка от работы Торгсина для государства была значительной. По некоторым данным на нее смогли закупить до 20% всей импортной техники и оборудования.
Тем не менее, индустриализация и коллективизация, несмотря на всю деструктивность и бесчеловечность, имели определенный результат. Массовый голод в деревне, а также механизация труда, в 1930-ых гг. привели к внутренней миграции. Многие работники на селе, чтобы выжить, вынуждены были перебраться в города. Возросшая урбанизация сократила рождаемость, и это позволило выйти из Мальтузианской Ловушки. Сталин, конечно, решил проблему аграрного перенаселения – но решил самым тупым и примитивным способом, просто истребив миллионы крестьян и насильно согнав избыточную массу в мегаполисы.
Индустриализация также вывела страну на новый промышленно-технический и экономический уровень. Производительность труда значительно выросла. Однако для достижения всего этого можно было использовать более гуманные и адекватные методы. Просто нужно было руководствоваться не религиозными коммунистическими догматами, а рациональными установками.
Забегая вперед, стоит отметить, что коммунизм в России построить так и не получилось. Просто не удалось достичь необходимого уровня производства. Какое-то время советская промышленность держалась на полученных разными способами западных технологиях. Потом началась деградация и отставание. После Сталина в угасающую экономику, чтобы хоть как-то ее поддержать, все больше внедряли капиталистические элементы. Сначала это помогало. Но, в конечном счете, кривая и перекошенная система просто развалилась. Однако парадигму наследственного правления, сословную иерархию и церковные институты – то, что было характерно для Царской России – восстановить уже не представлялось возможным. Эти изменения были необратимы.
Экономические Выводы
Третий Кондратьевский Цикл, пожалуй, является наиболее простым с точки зрения доказывания моей гипотезы. График самого Кондратьева наглядно демонстрирует, что товарные цены сильнее всего выросли во время Первой Мировой Войны. До этого они медленно ползли вверх, начиная с 1895 г. Стоит заметить, что и в период 1895-1914 гг. (т. е. до ПМВ) наблюдались различные локальные конфликты, например: Война за Независимость Кубы (1895-98 гг.) Испано-Американская Война (1898 г.), Тысячедневная Война в Колумбии (1899-1902 гг.) и последовавшее за ней отделение Панамы (1903 г), Восстание Ихэтуаней в Китае (1899-1901 гг.,), Русско-Японская Война (1904-05 гг.), Революция в Мексике (1910-20 гг.), Синьхайская Революция в Китае (1911-12 гг.), Балканские Войны (1912-13 гг.), также активно шла колонизация Африки, в ходе которой произошла Англо-Бурская Война (1899-1902 гг.). К сожалению, я пока не успел достаточно хорошо изучить войны на Американском Континенте, чтобы уверенно что-то утверждать. Но в ходе Русско-Японской Войны точно применялась морская блокада (правда, непонятно, насколько сильный эффект оказала). Балканские Войны сопровождались морскими сражениями в районе Балканского Полуострова, что затрудняло судоходство через турецкие проливы. Во время Восстания Ихэтуаней и последовавшей за этим интервенции европейских держав Поднебесная пребывала в хаосе, что наверняка тоже сказывалось на торговле. Однако все это были игры в песочнице до наступления 1914 года, когда разразился по-настоящему глобальный конфликт. Именно во время Первой Мировой Войны товарные цены улетели в небеса. И совершенно очевидно, что причиной был не ускоренный экономический рост и не обновление основных фондов, а именно торговые ограничения. Кроме обычного эмбарго и привычных уже морских блокад в этот раз появился новый инструмент воздействия – подводные лодки. Они могли скрытно подойти в любую точку мирового океана и угрожали не только коммерческим судам, но и пассажирским лайнерам. Германская Империя вела подводную войну и топила своими субмаринами абсолютно любые корабли. С 1916 г. подводная война стала неограниченной. Всего за четыре года немцы отправили на дно более 5 тыс. различных судов (не военных). И это не могло не отразиться на мировой торговле. Сам Кондратьев в одной из своих работ показывает, насколько в военный период сократился морской грузооборот. У Великобритании и Франции тоннаж прибывающих в порты судов упал примерно в 2 раза. У США и Японии – на 20-30%. Тоннаж отбывающих из портов судов у Франции и Великобритании упал в 3-5 раз. У США и Японии – опять же на 20-30%. А у Голландии тоннаж и прибывающих, и отбывающих судов упал в 12 раз. Очевидно, что по мировой торговле был нанесен мощный удар. Однако именно в это время максимально выросли цены на товары. Фрахты на зерно подскочили в десятки раз. В действительности, похожая картина наблюдалась во время Революционных и Наполеоновских Войн в конце 18 в. и начале 19 в., только тогда она была растянута во времени, потому что войны шли 23 года. А во время ПМВ все произошло очень быстро, но привело к огромным разрушениям (4 года интенсивнейших боевых действий). Не случайно во время Второго Кондратьевского Цикла на графике цен мы не видим такой же внятной и яркой картины, динамика цен “рваная” – это потому что в данный период времени не было какого-то глобального конфликта, были конфликты хоть и крупные, но, скорее, локальные. Однако передел шел полным ходом.
Но если попробовать опровергнуть тезис об экономическом характере Кондратьевских Циклов данными по ВВП от Ангуса Мэддисона – то придется столкнуться с кое-какими нюансами. С повышательной фазой все более-менее ясно: она началась в 1895 г. (минимум цен) и закончилась в 1918 г. (максимум цен). Сам Николай Кондратьев определил датировку. Правда, у него конец повышательной фазы лежит в диапазоне 1914-1920 гг. Но его же собственный график сужает диапазон до 1918-20 гг. Ну, и началась повышательная фаза разве что у США не в 1895-ом, а в 1896-ом. Мне кажется, что все это не так страшно. Куда страшнее пытаться определить датировку понижательной фазы. К сожалению, Николай Кондратьев не смог этого сделать, поскольку не дожил до нового Цикла (его расстреляли коммунисты в 1938 г.). Поэтому понижательную фазу я попытаюсь определить сам. И вот тут возникает проблема. Дело в том, что Вторая Мировая Война началась всего лишь через 21 год после окончания Первой, хотя понижательная фаза должна длиться 25-30 лет. Более того: после окончания ВМВ ситуация в мире не разрядилась, а вместо этого началась Холодная Война между США и СССР, которая длилась еще 35-40 лет (формально чуть дольше – более 40 лет, но по факту в 80-ые годы СССР уже начал сдавать и наметилась разрядка в отношениях). Как будто произошел некий сбой в цикличности Кондратьевских Волн. Здесь можно попробовать найти несколько объяснений. Первое: понижательная фаза Третьего Цикла оказалась очень короткой, повышательная фаза следующего Цикла как бы отобрала у нее 10 лет. Второе: сам по себе Третий Цикл оказался коротким – примерно 45 лет, а вот следующий Цикл был уже очень длинным – более 60 лет (60-70). Третье: WWII произошла в конце понижательной фазы Третьего Цикла (что выглядит странным с учетом ее масштабов и кровавости). На мой взгляд, истина лежит где-то посередине между первым и вторым объяснением. Но, так или иначе, смещение очевидно.
В связи со всем, написанным выше, возникает вопрос: как считать данные по ВВП на душу населения – то есть до какого года рассматривать понижательную фазу? Мне кажется, что правильнее будет считать до 1939 г. потому что ВВП считается по итогам года, и если в 1939-ом война развернулась только осенью, то в 1940-ом она уже шла полным ходом. Правда, в этом случае повышательная фаза 1895-1918 гг. будет на целых 2 года длиннее понижательной, что дает ей несправедливое преимущество в расчетах. Но это, пожалуй, меньшее из зол. Все-таки залезать на территорию следующего Цикла было бы еще более грубой ошибкой.
Начнем с самой крупной экономики мира на тот момент времени – США. Американский ВВП на душу населения за период 1895-1918 гг. (повышательная фаза) вырос на 55%. А за период 1918-1939 гг. он вырос всего на 21%. Это, вроде как, опровергает мою гипотезу о том, что на повышательной фазе Цикла никакого ускоренного экономического роста нет. Ну, пусть будет так. Только не стоит забывать, что в данном случае повышательная фаза получилась на два года длиннее понижательной. Также интересно отметить, что до 1930 г. американская экономика продолжала уверенно расти. Но Великая Депрессия уничтожила весь послевоенный и даже военный рост, вернув благосостояние населения к уровню 1914 г. То есть от кризиса перепроизводства Штаты пострадали действительно очень сильно.
Далее – Великобритания, которая на тот момент времени являлась второй экономикой мира после США (считается, конечно же, вместе с Индией). На повышательной фазе 1895-1918 гг. ее ВВП на душу населения вырос на 23,4%, а на понижательной фазе 1918-1939 гг. всего на 15,7%. Согласно другой методике: на повышательной фазе 1895-1918 гг. британское благосостояние увеличилось на 34,5%, а на понижательной фазе 1918-1939 гг. – на 27%. Хоть так, хоть эдак, но опять не в мою пользу.
Но это только две экономики из первой пятерки (пусть и самые крупные). А что с остальными? Вот, например, весьма интересны данные по Германии. На тот момент времени она являлась третьей или четвертой по размерам экономикой мира (в зависимости от методики подсчета). В этом звании она соревновалась с Китаем и Россией. И, честно говоря, разница по объёму ВВП между этими тремя странами была невелика, в пределах статистической погрешности. Итак, ВВП Германии на душу населения в период 1895-1918 гг. вырос всего на 11%, в то время как за период 1918-1939 гг. он вырос аж на 81%. Согласно другой методике в период 1895-1918 гг. (повышательная фаза) рост был еще меньше – всего 3,5%, а на понижательной фазе – все те же невероятные 81%. Это уже, наоборот, подтверждает мою гипотезу и одновременно опровергает мнение о том, что повышательная фаза является фазой повсеместного экономического роста. На самом деле все зависит от конкретной страны, и очень часто оказывается, что на понижательной фазе у ряда стран экономика растет сильнее. При этом сразу замечу, что демографический фактор здесь не играет особой роли. Население Германии за время войны, хоть и выросло слабо, но все же не сократилось. Оно сократилось в 1919 г. из-за раздела ее территории. Однако ВВП на душу населения в 1919-1921 гг. тоже снизился, так что дело не в уменьшении населения как таковом. Просто США и Великобритания за время войны сумели нарастить свое благосостояние. А Германия столкнулась с большими потерями (в частности, лишилась некоторых колоний). После войны и раздела Германской Империи потери только выросли. А гиперинфляция 1922-23 годов нанесла еще один сокрушительный удар. Однако после 1925 г. экономика Германии встала на траекторию уверенного роста. Конечно, этот рост вряд ли можно назвать гармоничным и сбалансированным. Он во многом был милитаристским. И тем не менее. Великая Депрессия, конечно, затронула Германию, но нацистский режим быстро восстановился, подготовившись ко Второй Мировой Войне.
Еще более показательны данные по экономике Российской Империи (третья по размерам в мире согласно одной методике и пятая согласно другой). За период 1895-1918 гг. ее ВВП на душу населения СОКРАТИЛСЯ(!!!) на 36%. Именно сократился, а не вырос. Таких данных, пожалуй, больше ни у кого нет. Это была настоящая катастрофа. На самом деле до 1913 г. благосостояние русского человека постепенно повышалось. Разве что Русско-Японская Война и Революция 1905 г. спровоцировали временное обнищание. Тем не менее, после 1907 г. экономика снова пошла вверх. Но попытка заступиться за Сербию привела страну к ужасающим последствиям. В 1919-21 гг. – то есть в период уже Гражданской Войны и массового голода – ВВП продолжил снижаться. Однако затем во времена НЭПа началось восстановление. А после индустриализации благосостояние населения и вовсе достигло новых значений. В конечном счете, за период 1918-1939 гг. – на понижательной фазе – ВВП на душу населения бывшей Российской Империи (ставшей Советским Союзом) вырос аж на 236%, то есть в 3,3 раза. Впечатляющий результат. Еще раз подчеркну: на повышательной фазе ВВП на душу населения России сократился на треть, а на понижательной, наоборот, вырос более чем втрое. Это лишний раз доказывает, что повышательная фаза Кондратьевского Цикла является в первую очередь фазой войны, которая сопровождается огромными разрушениями и потерями. И никакого отношения к экономическому росту она не имеет. Растут лишь те экономики, которые извлекают из войны прибыль, не участвуя при этом напрямую в боевых действиях или участвуя в них ограниченно. Это можно сказать о Соединенных Штатах Америки, которые вступили в Первую Мировую Войну уже в самом конце и не понесли больших потерь. В отношении Великобритании такое сказать уже нельзя – британцы участвовали в боевых действиях с самого начала, и потери их были значительны. Так или иначе, данные по Германии и России, скорее, доказывают мою версию, чем общепринятую.
Следующая экономика, которую я бы хотел привести в пример – это Французская. Она являлась 6-ой в мире по размерам. Хотя по уровню благосостояния, безусловно, обгоняла Российскую и Китайскую (просто в последних двух было значительно больше населения). Итак, Франция – подтверждает мою гипотезу. Ее ВВП на душу населения на повышательной фазе (1895-1918 гг.) сократилось на 6,8%, и произошло это из-за войны. Хотя до 1914 г. благосостояние французов повышалось. Но война привела к разрушениям и потерям. Зато на понижательной фазе Цикла запустился мощный рост – ВВП на душу за период 1918-1939 гг. взлетел на все 100%. То есть увеличился вдвое. Конечно, Париж сумел вернуть себе Эльзас и Лотарингию, а также поучаствовал в разделе колоний бывшей Османской Империи, но французское благосостояние, как видно на графике, выросло не одномоментно, а увеличивалось постепенно на всем протяжении 1920-ых гг. Великая Депрессия затронула Францию, однако не лишила нацию всех результатов “Золотого Десятилетия”.
Если уж анализировать всю мировую 10-ку крупнейших экономик, то не менее интересная статистика будет у Италии. Эта страна по объёму ВВП занимала 8-ое место после Австро-Венгрии. Но данных по динамике Австро-Венгрии у меня нет, да и после войны эта империя все равно развалилась, поэтому ее пропускаем, и переходим сразу к Италии. Благосостояние итальянских граждан за период 1895-1918 гг. (то есть на повышательной фазе) выросло на 24%. При этом за период 1918-1939 гг. (то есть на понижательной фазе) благосостояние выросло на 30-36% (в зависимости от методики подсчета). Таким образом, Италия тоже подтверждает мою гипотезу и опровергает общепринятые представления о Кондратьевских Циклах. Стоит заметить, что до 1913 г. дела на Апеннинском Полуострове шли довольно-таки неплохо, ВВП на душу постепенно увеличивалось. Но война привела народ к некоторому обеднению. Затем Великая Депрессия уже на понижательной фазе снова отняла у людей часть богатства. Разрушительный эффект от этих двух факторов был сопоставим. Но все же в целом понижательная фаза принесла итальянцам больше материальных благ, чем повышательная – за счет роста в 1920-ые и в конце 1930-ых.
Далее: Япония – это еще одна экономика, которую можно добавить в копилку доказательств моей гипотезы (9-ая в мире по объему). ВВП на душу населения Страны Восходящего Солнца на повышательной фазе (1895-1918гг.) выросло на 48%, а вот на понижательной фазе (1918-39 гг.) – уже на 68%. Причем данный кейс отличается от Итальянского. Первая Мировая Война привела к обогащению Японии. Затем Великая Депрессия отняла часть “нажитого непосильным трудом”, однако большого вреда нанести не смогла. Экономика довольно быстро восстановилась (быстрее, чем в других странах). И во второй половине 1930-ых гг. продолжился мощный рост. В итоге на понижательной фазе благосостояние японцев выросло сильнее, чем на повышательной. При этом не будем забывать, что понижательная фаза у меня на два года короче.
Ну, и последняя экономика – Испанская. Она замыкала мировую 10-ку. Хотя по ВВП на душу населения обгоняла Японию, но дело в том, что в Японии людей проживало в 2,5 раза больше. Вообще, Испания в Первой Мировой Войне участия не принимала. За период 1895-1918 гг. – на повышательной фазе – благосостояние граждан выросло на 15%. При этом интересно, что в “Золотые Двадцатые” население обогатилось аж на 40%. Страна могла бы стать примером, подтверждающим мою гипотезу. Но что-то пошло не так. Сначала Великая Депрессия. А затем в 1936 г. началась гражданская война – между левыми и правыми силами. Жертв было много. Разрушений тоже. Последствия для экономики – катастрофические. В итоге к концу 30-ых государство откатилось по уровню благосостояния аж к довоенному периоду, растеряв, таким образом, все нажитое за последние 30 лет. Такая вот печальная история.
Итак, из 10 крупнейших экономик мира на начало XX столетия только Американская, Британская и еще Испанская как бы подтверждают тезис о том, что повышательная фаза Кондратьевского Цикла является фазой ускоренного экономического роста. Причем по Испании результаты могли бы быть иными, если бы не гражданская война. В то же время целых пять экономик: Немецкая, Российская, Французская, Итальянская и Японская – опровергают данный тезис и подтверждают мою гипотезу о том, что повышательная фаза Цикла НЕ является фазой ускоренного экономического роста. Далее: Китайская экономика – ничего не опровергает и не подтверждает, поскольку является на тот момент времени настолько отсталой, что не имеет внятной и четкой статистики. А еще одна экономика из ТОП-10 – Австро-Венгерская – так надорвалась, что сразу же после войны прекратила свое существование, причем навсегда. Здесь и добавить больше нечего.
Я уже отмечал ранее, что мне с самого начала казалось странным интерпретировать повышательную фазу Цикла, как фазу экономического роста, происходящего на фоне войн и потрясений. Это выглядит противоречием. Случаи Германии, Франции, России, Италии, а также Японии подтверждают, что никакого повсеместного экономического роста на повышательной фазе не наблюдается. Рост может быть у тех государств, которые на фоне общего передела стоят в стороне и зарабатывают деньги, продавая оружие или другие важные товары. Это случай Соединенных Штатов Америки. Они приняли хоть и важное, но ограниченное участие в ПМВ, подключившись уже к концу боевых действий. Немного особняком здесь стоит Великобритания. За время войны ее благосостояние слегка увеличилось. Однако сил на противостояние с Центральными Державами было затрачено слишком много, и в итоге сразу после войны Царица Морей потеряла Ирландию. А Вашингтон продолжил отъедать у Лондона часть пирога в мировой торговле. Поэтому формально Великобритания конкретно в этом случае не подтверждает мою интерпретацию Кондратьевских Циклов. Но по факту она, скорее, потеряла от войны, хотя и могла получить какие-то утешения после раздела доли проигравшей Германии. Что же касается самой Германии, а также Франции, России и даже Италии, то они за время войны однозначно понесли большие потери – их экономики сократились.
Данные по ВВП от Ангуса Мэддисона косвенно подтверждаются исследованием самого Кондратьева. Так, например, добыча угля в Германии, Франции и Великобритании во время войны снизилась. В то время как в США выросла (также выросла она и в Италии, но общий объем был незначительный). Производство чугуна в Германии, Франции и Великобритании с началом боевых действий тоже упало, а в США опять-таки выросло. Похожая картина и в производстве стали: Германия и Франция показали сокращение в период 1914-1918 гг., а США показали существенный прирост. Увеличить производство стали сумела и Великобритания. К сожалению, в источнике, который я использую, содержатся опечатки: производство стали в Германии в 1913 г. было не 12.763 тыс. метрич. тонн, а 1.276. Тем не менее, совокупный массив данных дает вполне понятную картину. Франция и Германия сильно пострадали за время Первой Мировой Войны. Однозначно выиграли – Соединенные Штаты Америки. По Великобритании вывод не такой однозначный. Она столкнулась с определенными потерями, у нее упала добыча угля и снизилось производство чугуна. Но производство стали она сумела нарастить (этот сплав был уже более актуален к тому времени). В целом ее благосостояние за время войны немного подросло. Хотя баланс торговли стал сильно отрицательным: экспорт упал (в отличие от США), а импорт вырос. При этом совсем интересный случай представляет собой Япония. Эта страна получила от Первой Мировой Войны намного больше выгод, она смогла нарастить свой экспорт, да и уровень благосостояния в ней вырос куда существеннее. И все равно понижательная фаза дала ей больше, чем повышательная. Вероятно, еще и потому, что в 1930-ые годы Япония приступила к постепенной оккупации новых китайских территорий, а в 1937 г. и вовсе начала полномасштабную войну.
Пять проанализированных выше экономик, входящих в ТОП-10, у которых на понижательной фазе благосостояние населения выросло сильнее, чем на повышательной – они составляли 29% от всей мировой экономики. Но справедливости ради следовало бы проанализировать и другие страны, чтобы картина была статистически более убедительной. Этот абзац будет скучным, но важным для понимания. Начнем с Индии. Она находилась под владычеством Великобритании, которая вместе с ней по размерам была второй экономикой на планете. Но данные по ВВП на душу населения с Великобританией у них раздельны. Итак, Индийская экономика на повышательной фазе 1895-1918 гг. показала прирост благосостояния всего на 5%, а на понижательной фазе (1918-1939 гг.) – на 11%. Эта экономика добавляется в копилку доказательств моей гипотезы. Сама по себе она по размерам лишь слегка уступала чисто Британской (если их все же разделить). Далее: Австрийская экономика (не вся Австро-Венгрия, а только одна Австрия): на повышательной фазе благосостояние ее населения сократилось на 5% (из-за войны), а на понижательной – выросло аж на 60%. Еще одно доказательство в мою пользу. У Бельгии по понятным причинам (война) ВВП на душу населения на повышательной фазе сократилось на 18,5%, а на понижательной – выросло на целых 80%. У Нидерландов ВВП на душу населения на повышательной фазе выросло, но всего на 2,5%, а вот на понижательной – выросло аж на 65%. Дания неплохо обогатилась на повышательной фазе – на 25% (хотя на войне потеряла), однако на понижательной фазе она увеличила свое богатство уже на 73%. Швеция разбогатела на повышательной фазе на 51,5%, но на понижательной – на целых 89%. Маленькая Норвегия смогла на повышательной фазе увеличить свой ВВП на душу населения на 31,8%, но на понижательной – на целых 76%. Богатая Швейцария во время войны слегка обеднела, но в целом на повышательной фазе разбогатела на 26%, однако на понижательной фазе ее богатство выросло на 30% (разница небольшая, но, тем не менее). Даже Португалия увеличила свое благосостояние на понижательной фазе сильнее, чем на повышательной: 52% против 2,9%. Аналогично и Греция: на повышательной фазе рост ВВП на душу составил 6%, а на понижательной – целых 84%. Также Финляндия: повышательная фаза – снижение на 8%, понижательная – рост на 148%. Все перечисленные страны можно записать в доказательства моей гипотезы. На самом деле туда, наверное, можно записать также и Болгарию, Румынию, и Венгрию, но по ним статистика обрывочная, отсутствуют данные за ключевой 1918 год, однако в целом картина понятна, война принесла им большие разрушения. Далее – страны Латинской Америки. Аргентина: на повышательной фазе ВВП на душу сократился на 3,9%, на понижательной – вырос на 27,7%. Бразилия: на повышательной рост на 3,2%, на понижательной – рост на 56%. Колумбия: повышательная фаза – рост на 37,5%, понижательная – рост на 98%. Уругвай: повышательная фаза – сокращение на 3,5%, понижательная – рост на 36%. Венесуэла: повышательная фаза – падение на 16%, понижательная – рост на 122%. ЮАР (ЮАС): повышательная фаза – падение на 10%, понижательная – рост на 76%. Совокупный объем экономики перечисленных стран (без Болгарии, Румынии, Венгрии) составлял примерно 45% от мировой экономики.
Далее рассмотрим страны, у которых статистика не полная. Чехословакия: с 1900 г. по 1913 г. – рост на 21%, с 1920 г. по 1937 г. – рост на 49%. Венгрия: С 1900 г. по 1913 г. – рост на 24%, с 1920 г. по 1939 г. – рост на 66%. Болгария: с 1899 г. по 1911 г. – рост на 15%, с 1921 г. по 1939 г. – рост на 67%. В целом картина понятная. Вместе с ними, но без Турции совокупный объем экономики составлял 46,7% от мировой.
С Турцией есть некоторые сложности, но на повышательной фазе в военное время – с 1913 г. по 1918 г. – она испытала падение на 43%, а понижательная фаза принесла ей рост на 179%. Вместе с Турцией совокупный объем перечисленных экономик составлял примерно 47,45% от всей мировой экономики. Во всех этих странах повышательную фазу Цикла нельзя назвать фазой какого-то исключительного роста. Наоборот. Большинству из этих стран военные 1914-1918-ые годы не принесли ничего хорошего. А вот на понижательной фазе – когда наступил мир – у них начался по-настоящему бурный рост, который не смогла стереть даже Великая Депрессия.
Я посчитал понижательную фазу Цикла до 1939 г. Но, как я уже отметил, она получается слишком короткой, и это дает несправедливое преимущество повышательной фазе (2 года). Если же попробовать уравнять шансы понижательной фазы и добавить ей еще два года (т.е. продлить до 1941-го), чтобы можно было сопоставить равные промежутки времени – то результаты окажутся еще интереснее. Американский ВВП на душу населения вырос за этот период (1918-41 гг.) на 48,5%. Это лишь немногим уступает росту повышательной фазы (55%). Британское же благосостояние за период 1918-41 гг. и вовсе выросло на 38,2% – что больше роста в 23,4% на повышательной фазе (согласно другой методике: 46,9% против 34,5%, но тоже в пользу понижательной). То есть в этом случае Британская экономика уже подтверждает мою интерпретацию, а не общепринятую. Немецкая экономика тоже подтверждает мой тезис – ее ВВП на душу в период 1918-41 гг. выросло на 91%, что вполне объяснимо, ведь нацисты в первые годы войны очень легко продвигались по Европейскому Континенту и грабили захваченные территории. Но даже Французское благосостояние за 1940-41 гг. (начало оккупации) упало не настолько сильно, чтобы полностью нивелировать рост с 1918 года. То есть данные по Франции также подтверждают мою интерпретацию. По Советскому Союзу цифры есть лишь до 1940 г., а военное время остается в темной зоне. Однако это мало что меняет, в конечном счете.
Как бы ни считать понижательную фазу, но очевидно, что в Германии, России, Франции, Италии, а также во многих других странах во время войны резко упал уровень благосостояния. Что вполне закономерно. Однако это опровергает утверждение о том, что повышательная фаза Цикла – это фаза ускоренного экономического роста. Повышательная фаза – это фаза войны. И рост товарных цен с ростом экономики не связан. Он связан с ростом военного напряжения и торговыми ограничениями. Когда военное напряжение спадает и эмбарго отменяются – цены падают, а экономики возвращаются к гражданскому производству, что частенько сопровождается кризисом (перестройка проходит с трудностями). Но кризис не длится всю понижательную фазу. В ряде случаев он оказывается коротким по времени, а его эффект – ограниченным (лишним подтверждением чего является Япония). После перестройки экономики с военного производства на гражданское, а также после сдутия финансовых пузырей – во многих странах начинается мощный рост. Кое-где запускается индустриализация. Кстати, это еще один примечательный паттерн, который прослеживается во всех Циклах. Так, например, индустриализация запустилась во Франции после Наполеоновских Войн в 19 в. – на понижательной фазе. Индустриализация запустилась в США после Гражданской Войны (в 1870-80 гг.) и в Италии после Рисорджименто (объединения земель) – также на понижательной фазе. Индустриализация была запущена в России/СССР в 1930-ых гг. – опять же на понижательной фазе. Она, конечно, была проведена очень криво, что вызвало массовый голод среди крестьян (миллионы погибших). Но, тем не менее, после нее страна вышла из своего сельскохозяйственного статуса и превратилась в промышленную державу (ну, или на тот момент времени – державочку). Как бы там ни было, но именно понижательная фаза часто представляет собой период ускоренного экономического роста. А повышательная фаза – это фаза глобального передела, который сопровождается большими потерями и разрушениями. Значительная доля промышленного производства в этот период времени сгорает в хаосе войны.
Перфильев Максим Никооаевич (С)
Рейтинг: +1
293 просмотра
Комментарии (2)
| Доброхотов # 15 октября 2025 в 22:25 +1 |
| Перфильев Максим Николаевич # 18 октября 2025 в 01:33 0 | ||
|
Новые произведения

