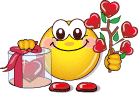[Скрыть]
Регистрационный номер 0071935 выдан для произведения:
Лявон сидел на крылечке и тихо плакал. Слёзы сбегали по сморщенному лицу и больно дотрагивались до разбитого носа и губ. Так же больно сжимало и сердце, что просто не было сил сдерживать эту боль, она пронзала всё тело, подчиняя себе и все остальные чувства старого человека. В избе было тихо и неуютно, гости уже давно уехали. Вот только их отъезд не принёс особой радости, как желалось, более того – осталась горечь потери. Ибо то, что случилось, было за гранью человеческого понимания.
Вот здесь, на ступеньках, под горькие слёзы и припомнилось, какими счастливыми были первые его шаги по родной земле, как хорошо ему, ребятёнку, игралось с братиками и сестричками, ибо кроме Лявона были ещё и Агуся, и Савка, и Стёпка, и маленькая Маруська. Отец, насколько помнилось, хозяином был справным, имел неплохое хозяйство, коровку, лошадку, немного земли, с которой и кормилась их большая и дружная семья. Жили – не бедовали, так как работать всегда умели.
Но вдруг в мире стало твориться нечто непонятное, чего даже детское сердце не могло принять: стали отнимать у крестьян землю, их нехитрый скарб, и загонять в колхозы, где всё должно было стать общим – и земля, и хозяйство, и даже свобода. Отец тогда упёрся: не хотелось ему – за несколько лет почувствовал волю – снова в пригон. Только не по нраву пришлось властям подобное упрямство, - и в злостные «кулаки» его определили. Только какой из отца «кулак» - хороший хозяин всего лишь.
Время настало лихое. Людей отрывали от земли, словно вырывали с корнем, и гнали, как скотину, а то и хуже, на чужбину, где всё нужно было начинать всё сначала, на голом месте цепляться до земли, которая и родила бедно, и никак не желала принимать пришлых. Унесли на погост одного за другим – вначале Савку, затем Агусю со Стёпкой. Маруська долго болела, но и она вскоре покинула этот злой мир. От непосильного труда надорвал жилы и в страшных мучениях помер отец. А вскоре за ним ушла и мама.
Остался Лявон один среди чужих людей. Прижился у одного хозяина, такого же горемычного белоруса-переселенца. И пока хозяин с хозяйкой работали с утра до вечера, Лявон присматривал за их небольшим хозяйством, а так же за Аней, дочерью хозяев. Зимой стал бегать в школу, учился хорошо, знания давались ему легко. Лучшими друзьями мальчика стали книги. С огольцами не очень-то и тянуло на игрища, потому что иной раз невмоготу было от их насмешек. А что поделаешь – сиротинка горемычная, каждый, кому не лень, может обидеть. Поэтому и возился с Аней, вечерами рассказывал ей сказки и разные истории. И девочка льнула к Лявону, ходила за ним, словно тот телок за коровкой. Хозяевам нравился послушный и трудолюбивый мальчик, и они не обижали его, считали за сына. Как говорят: где один – там и другой.
Вскоре и до их деревни докатилась волна коллективизации. Отец Ани одним из первых вступил в колхоз, на себе изведал, до чего иной раз доводит непослушание. Впрочем, никто и не рискнул пойти супротив – дальше сослать уже вроде бы и некуда, а вот в острог можно угодить за милую душу.
Лявон рос, крепчал, и вскоре из худого заморыша превратился в статного юношу, после школы жил мечтами о поступлении в лесохозяйственный техникум. Но эти радужные мечты вмиг порушила война. Всех мужчин и парней подходящего возраста сразу призвали в армию, и остались в деревне только одни старики да бабы, и они – ребятня. Война шла где-то далеко, но её страшные отголоски долетали в сибирскую глубинку довольно часто – в виде похоронок. И долго тогда стоял горький плач над тем домом, куда приходила лихая весть.
Кроме колхозной работы все заботы по хозяйству легли на плечи Лявона. Жили с надеждой, что вот-вот закончится война, вернётся с фронта живым и здоровым отец, и всё наладится. Только беда не минула их подворье: вначале сорок четвёртого пришла похоронка. Не успели они, как следует оправиться от страшного горя, как настал черёд и Лявону идти на фронт. Воевал он хорошо, от пуль не хоронился, но и не подставлялся по дурости, хотя и был ранен дважды, но, слава богу, легко. Дошёл до самого Берлина, даже расписался на рейхстаге. Казалось, скоро и домой, но опять закрутило адское колесо войны, только на Дальнем Востоке. И лишь в конце 1945 вернулся гвардии старший сержант Лявон Врублевский к родному порогу.
Мало кто из их деревни дожил до Дня Победы, а вот ему повезло. Только какая тут радость, если след в след за тобой идут только одни потери. Приёмная мать дождалась Лявона, но и недели не прошло, как вдруг померла. Так они и стали жить одни. Лявон уже и не мог мечтать о том, чтобы учиться дальше. На девчат он не засматривался, да и сам не замечал нескромных взглядов местных красавиц. Парней в деревне было раз-два, и обчёлся (почти всех забрала война), поэтому Лявон считался первым женихом на деревне. Только парня, словно кто околдовал – не тянуло до девчат, и всё. Зато он стал всё чаще и чаще засматриваться на Аню. Всё ему в ней нравилось: и как ходит, и как говорит, особенно, как улыбается, и девичья стыдливость. В общем, стало их тянуть друг к другу, а если ещё и живут под одной крышей, то тут и до греха не далеко. Только этот грех был сладким, а искушение легким и радостным, - так зарождалось счастье. А то, что они считались братом и сестрой, не имело под собой основания, потому что родными по крови никогда не были.
Когда Аня достигла совершеннолетия, то молодые расписались в сельсовете и стали жить-поживать, как и до этого – в любви и согласии. Через полгода родился у них мальчик, которого в честь деда назвали Ефимом. Ещё через год родила Аня девочку, хорошенькую-прехорошенькую, назвали Марусей.
И жить бы им тихо и мирно, но как говорится: дай языку волю – заведёт в неволю. Как-то за чаркой начал рассказывать Лявон про то, как воевал, про Германию. Уж очень его поразило, как жили немецкие крестьяне, и главное - у них был достаток во всём. И ещё ляпнул Лявон, что если бы не забрали землю и не позагоняли людей в колхозы, а дали волю жить так, как кто хочет, то и у них жизнь была бы не хуже. Короче, договорился. Кто-то ненароком, а может, и от лихого намерения, довёл те слова куда следует. Арестовали Лявона без всяких разговоров и сразу определили десять лет лагерей. Мол, нечего было язык распускать. Мало кто где и что видел.
Тяжело Лявону пришлось в неволе, но ещё тяжелей было его любимой с двумя малыми на руках. Время от времени получал он скупые весточки из родного дома, но не слишком радовали его те письма, много было пролито горьких слёз над каждой строчкой. Но это было единственным, что связывало его с родными и волей. Только вдруг и эта ниточка оборвалась – письма перестали приходить. Лявон даже не знал, что и думать. Хотелось верить, что письма потерялись где-то в дороге.
В 1956 отпустили Лявона на свободу, и даже прощения не попросили, мол, нет у нас без вины виноватых, власть никогда не ошибается. Ещё «спасибо» скажи, что в живых остался. Домой Лявон торопился со всех ног, только на том месте, где стоял их дом, было пепелище. Лявон словно окаменел, чёрное горе сжало в кулак его сердце, а из глаз покатились горючие слёзы. И не стеснялся Лявон тех слёз, а из груди рвался крик боли и отчаяния, - только не мог он кричать, словно онемел…
После соседи рассказали что случилось: Аня поутру убежала на ферму доить коров, скорей всего, затопив в печи, тогда морозы стояли просто жуть, а дети малые ещё, видимо, спали. Короче, занялась их избушка, что та спичка, и сгорели его ребятёнки живьём. Аня после всего этого тронулась умом, стала бросаться на всех, вот её и забрали в психушку, где она и померла.
Долгое время не мог найти себе места в этой жизни Лявон, ко всему стал безразличен. Даже не пытался унять свою боль, а может и не получалось – боль словно охватила его, оплела, всё больше укоренялась в его сознании, как не стирались из памяти любимые образы жены и детей. Всё вокруг напоминало о них. И возможно поэтому, чтобы не сойти с ума, Лявон решил покинуть эти места, с которыми столько было связано. Здесь его уже ничто не держало, разве что – могилки.
Вернулся Лявон в Белоруссию, в родное Заполье, что на Минщине. Сам себе хозяин, ни от кого не зависит, только вот ни кола, ни двора, из всего скарба один фибровый чемоданчик, где лежало две-три чистые рубахи, пара носков и немного белья. Как только он приехал, сразу пошёл в контору местного колхоза и, не таясь, поведал о себе всё. Председатель внимательно выслушал Лявона, покрутил седой головой – «Это ж надо! И хлебнул же ты горя, человече», - помолчал, словно размышляя, а потом предложил ему пойти на курсы трактористов.
Три месяца учился Лявон мастерству тракториста в райцентре, а потом сел за новенький трактор. В родительском доме сейчас жили другие люди, но Лявон не стал предъявлять к ним претензий, а стал на постой к одной пожилой женщине, дальней родне по линии матери. Старуха очень обрадовалась свойственнику, ибо жить в одиночестве было и скучно, и порой тяжело, а тут такая радость.
Через два года на свадьбе, куда Лявона пригласили по-соседски, что в деревне обычное дело, он познакомился с одной женщиной, вдовой, которая растила двух мальчишек. Звали женщину Галиной. Так сошлись две одинокие души – пошёл Лявон, как говорится, в «примы». Стали жить хорошо, мальчишек Лявон воспитывал и смотрел, как своих, и был им за отца. Пытались они с Галей родить совместного ребятёнка, но из этого ничего так и не получилось. Вскоре дети выросли, выучились и ушли в большой мир строить своё личное счастье: Гриша стал военным, служил где-то в Забайкалье, а Миша – врачом, и работал в Минске.
По старости начала оседать и разваливаться Галина избушка. Тогда Лявон, навозив на тракторе каменья, сладил хороший фундамент. Затем выписал лесу, и, разрываясь между колхозной работой и своим хозяйством, перекинул старый сруб на новое место, добавив новых брёвен. Миша приезжал за это время всего два раза, но и его посильная помощь была всегда кстати. В последний свой приезд он вдруг заявил, что собирается жениться, и потому приглашает родителей на свадьбу, праздновать которую будут в дорогом ресторане. Галя поехала, а вот Лявон не смог - нельзя было бросить строительство, да и хозяйство требовало ежедневного ухода. К тому, он не представлял, что это за свадьба может быть в казённом учреждении, пускай и самом престижном.
К октябрю месяцу всё было улажено, и вскоре дом, как игрушка, красовался на радость хозяевам и зависть всем соседям.
Неожиданно объявился Гриша – заскучал по родным просторам. Стал служить в воинской части недалеко от дома. И до сих пор не женился. На слова Лявона «Почему не женишься, не пускаешь в землю свои корни?» только и отмахивался шуточками: «А зачем мне это, батя? К тому, я ещё не тронулся умом, чтобы потерять свою личную свободу. Посмотри вон на Миху – сейчас сам не рад. Подавился своей Настёной, да и детками подавно. Так что мне и без жены неплохо. К тому, я ещё не встретил ту, единственную, с которой и рай в шалаше».
Родителей Гриша навещал почти каждую неделю. Стал часто наезжать и Миша, уже на собственной машине. Миша сильно похудел, был какой-то нервный, раздражительный, заметно, что часто прикладывается к бутылке. Летом на месяц-другой привозил своих мальчишек, близнецов Сашу и Колю. Лявон вначале путал кто где, но потом научился их распознавать. Детишки целыми днями гоняли лодыря, могли спать до самого обеда. И не удивительно, баба Галя баловала любимых внучат, а те этим и пользовались. Лявон иной раз пытался вразумить мальцов, что им нужно хотя бы немного да помогать бабушке по хозяйству. Только близнецы поднимали слова деда на смех, мол, «работа дураков любит», это «пускай дебилы косят траву и ковыряются в г…не».
Редко, но заглядывала в гости к старикам и Настя, Мишина жена, красивая, видная во всех отношениях женщина, но слишком уж высокомерная. Работала она в Доме Правительства, возможно, поэтому и была такой заносчивой, мол, я – это всё, а вот вы для меня – никто. Лявон с Галей, простые крестьяне, подобных отношений к себе никогда не позволяли, но тут молчали и сердечно приветствовали невестку. А что дамочка с червоточинкой, то не им с ней жить, а сыну. Только догадывались, что не всё у них ладно. И уж если между близкими людьми чёрная кошка пробежала - быть беде. Так и случилось. В конце семьдесят девятого, считай под самый Новый год, Миша разбился на машине. Ехал в деревню, перед этим поругавшись с женой, и, видимо, в хорошем подпитии, вот и не справился с управлением.
Едва они отошли от горя, как в восемьдесят втором не стало и Гриши – погиб в Афганистане. Хоронили гвардии майора в цинковом ящике, открывать который военные власти строго запретили, ибо мало что осталось от их сыночка.
После всего, что произошло, Галя совсем расхворалась. Начал сдавать и Лявон, но пока держался – работа не давала согнуться. Пошёл на пенсию, стажу было прилично, да и не те уже годы, чтобы растрясать старые кости на тракторе. С головой ушёл в хозяйство. С Гали помощница была уже никакая, и Лявон один заботился на достаток в семье. Но деньги не очень-то и задерживались у стариков, ибо всё, до последней копеечки, шло в город, к внукам. Что деньги – бумага. Главное, чтобы внучата не забывали и навещали стариков. И те не забывали, более того полными сумками тянули в город разную деревенскую поживу. Внуки заканчивали учёбу в МГУ и скоро, дай Бог, пойдут на свой хлеб. У Насти же была своя жизнь. Правда, замуж та не слишком и рвалась – для интимных отношений мужиков и так хватало. Подобное поведение невестки очень обескураживало стариков, но что поделаешь – чёрное белым никогда не станет.
Зимой вначале 1994 ушла из жизни в лучший мир Галя, отмучилась горемычная. Тяжело стало одному и грустно. Хозяйство больше не увлекало. Корову Лявон вынужден был продать – силы были уже не те, чтобы запасти для той сена на зиму. Свинку подкормил с пару месяцев, а потом, как только ударили морозы, освежевал. Внуков не известил, чтобы те приехали на свежину. К тому, те за последние полгода даже не навестили деда. Видимо, у них хватало заботы и без него: в столице творилось черти что, боролись за власть, и каждый тянул одеяло на себя. Но сегодня внезапно понаехали все скопом. Видимо, кто-то из деревенских услужливо доложил, что старый сошёл с ума – всю живность пускает под нож. Явилась и невестка, которая за столько лет, после смерти Миши, больше ни разу и не была, даже на похороны Гали не приехала. А тут, не успев ещё преступить порог, сразу заверещала:
-И что это ты, пень старый, делаешь? Мама старалась, всё наживала.
Приезд родственников был полной неожиданностью, Лявон даже ничего не смог выговорить в ответ, как услышал уже от Саши:
-Где, старый, деньги за корову?
Лявон стал объяснять, что часть денег пойдёт на памятник и ограду для Гали, а что останется, будет ему на проживание. Пенсия, если присмотреться, маленькая.
-Достаточно маме и креста деревянного, - сразу определила невестка. – Старухе уже всё равно, какое у неё будет надгробие – камень или дерево. А тебе и пенсии хватит.
-А вам, зачем деньги? – воскликнул Лявон возмущённо. – Я же вижу, что вы не побираетесь, да и никогда не горевали, благодаря нам. Разве мы вам с Галочкой чего-нибудь жалели? Помогали, чем могли. А сейчас говорите, что она, бедняжка, лишь крест деревянный и заслужила. Пожалели?!
-Понятно что, не жалко. Грех большой жалеть своим близким. Но деньги отдать всё равно придётся. И мясо мы забираем, - добавила Настя.
-А я не отдам!
-Отдашь, пень старый, да ещё как отдашь. Будешь умолять, чтобы взяли. А не то в два счёта вылетишь отсюда.
-Из своего дома… - Лявона затрясло.
-А это не твой дом. Всё мама завещала Саше и Коле.
-Как же так?– Лявон так и сел. - Почему я про это не знаю?
-Ну, это нам не ведомо. Может мама забыла сказать. Но не сомневайся, всё честь по чести. И документ есть, нотариусом заверенный.
-Я же этот дом собственными руками сложил. И всё, что здесь есть, моим горбом нажито. Разве ты, Настя, не знаешь?
-Почему, знаю. Так что молчи тихо в тряпочку и живи. Я же не гоню. Всё понимаю и разрешаю. Из милости.
-Из милости?! – Лявон так и подскочил с табурета. – Меня гнать из собственного дома! А ну, прочь отсюда! И ноги чтоб здесь вашей больше не было. Это ж надо! Гале и креста хватит, а им все деньги отдай. Дармоеды! Вон-н!
-Ты, дед, тут ручонками не маши, а то могу и зашибить ненароком, - подал вдруг голос Коля, который до этого стоял, молча, прислонившись плечами к тёплой печке.
-Внучок, это ты мне? Откуда в тебе это?..
И Лявон направился к внуку, но Коля неожиданно сильным толчком отшвырнул от себя деда. Старик не удержался на ногах и грохнулся прямо на пол. Когда Лявон со стоном поднялся, в глазах его стояли слёзы. И он, стиснув кулаки, направился в сторону внука. Тот словно и ждал этого и резким ударом в лицо снова отправил деда на пол, а потом, скорей всего, рефлексивно пнул ногой в живот.
-Не стоит так бросаться. И не нужно обижаться. Мы люди свои – разберёмся. Пока живи, но и хозяйство не смей бросать. Не выйдет…
Невестка ещё долго распиналась, поучая и наставляя, видать, поднаторела в демагогии и словоблудии, околачиваясь в высоких сферах власти, но Лявон её уже не слышал. Ему было больно, но даже не от того, что его избили и унизили, а потому что люди, самые родные и близкие, как бы отреклись от него, обесчестив всё светлое и чистое, чем жив человек. Тогда зачем жить? Жизнь, которую он прожил, не принесла никакой радости. Всегда были боль и одни потери. Может, и действительно человек только гость на этой земле, гость временный, который так и не понял, зачем он здесь.
По избе ходили, грохотали, обходили его стороной, как ненужную вещь, а он лежал беззвучно безразличный ко всему. Слышал, как невестка нашла в шкафу деньги, потом считала их. Слышал, как выносили из чулана мясо, паковали его целлофан и загружали в багажник. Слышал, как взревела диким зверем и отъехала от дома машина. И только тогда Лявон пошевелился. Потихоньку, хватаясь за стену, он поднялся с пола, у ведра с водой обмыл окровавленное лицо, утёрся рукавом, и, шатаясь, вышел во двор.
Мороз заметно усилился, медленно запорошил мелкий снежок, успев белоснежным покрывалом присыпать грязные следы от обуви и машины. Лявон прикрыл двери, чтобы не выпускать из избы тепло, сел на крылечке и горько заплакал.






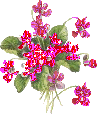



 Если захочется перечитать,
Если захочется перечитать, 

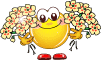




 думайте сами, решайте сами, читать ил не читать
думайте сами, решайте сами, читать ил не читать