Добрый умысел
17 декабря 2014 -
Владимир Степанищев

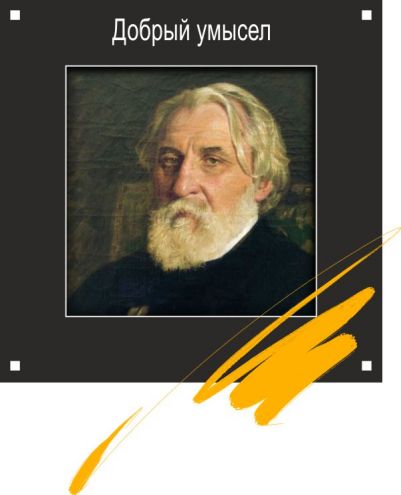
«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, - ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя - как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!». Даже как-то странно, что эдакий мастер, маэстро русского слова нашел в нем лишь какие-то кумачевые свойства, какие, не греша против правды, можно приписать почти каждому наречию земли. Но шут его знает, как выразился бы любой из нас о родном языке (уж как минимум без этих вот «шут его знает»), проживи он половину сознательной жизни своей у черта на рогах, в Европе в смысле. Иногда представляется – не будь этой старушки Европы – не видать нам и лучших литературных творений Гоголя, Достоевского, Горького… Поэтам русским, против русских писателей, надобно заметить, совсем не обязательно было покидать пределов родины, чтобы тосковать по ней, но вот были бы написаны Мертвые души так, как они были написаны, живи Гоголь дома? – вопрос.
Слугу вашего похмельного, что не отрывал задницы своей от своего Подмосковья более чем на месяц во всю жизнь свою, в родном языке поражают не его величие и могущество, масштаб которых изнутри видимо и не оценить, но нюансы, тонкости, каких не сыщешь (знай я другие языки – сказал бы точно) нигде, ни в какой другой семантике на культурной земле. Я лишь слыхал, что, скажем, в английском одному слову, в зависимости от ситуации, настроения или избранной стилистики может соответствовать ну пускай двадцать понятий. В русском же, ежели есть двадцать понятий, двадцать оттенков одного понятия, то им и соответствует двадцать слов, да к ним еще и по двадцать метафор, фразеологизмов на любой случай. Не поэтому ли словарь Вильяма Шекспира, по утверждению Ильфа и Петрова (со ссылкой на исследователей), насчитывал лишь двенадцать тысяч слов, тогда как у Пушкина их двадцать четыре тысячи, ну а у друга его, Даля - двести тысяч слов (далеко не все печатные, разумеется) и это в позапрошлом веке, да еще без наречий от качественных прилагательных, без неологизмов, без заимствованных и проч. Правда англичане, что никак не отдышатся, не отплачутся (взял, да и выдумал словечко) по давно почившей, но фантомно ноющей Викторианской своей империи, отпраздновали недавно где-то в Оксфорде рождение миллионного английского слова, однако я тут не про извинительный для всякой нации шовинизм и тотальную ассимиляцию, и не о любви моей к моему языку, но о широте палитры понятий, и даже всего лишь о двух оттенках двух казалось бы сходных понятий: «добрые намерения» и «добрый умысел».
Добрыми или, по-другому, благими намерениями, как мы знаем, вымощена дорога в ад. Это как минимум странно. Есть слова Иисуса, сына Сирахова, о том, что «путь грешников вымощен камнями, но в конце его – пропасть ада», но это ж грешники, с ними все как бы и ясно, а вот человек, имеющий благие намерения, он кто? Доброе намерение, безусловно мысль, в отличие от мысли абстрактной, имеющая определенный вектор направленности, но все равно – всего лишь мысль. То, что мысли есть начало поступков – утверждение спорное или на худой конец амбивалентное, то есть мысль может превратиться в поступок, а вполне может и нет. Но даже ежели и в поступок, то чего ж грешного в добром-то в нем? Допустимо предположить, что все дело выглядит так: Господь, чьи пути, как доподлинно известно, неисповедимы, старался, мучился, продумывал до мелочей всякую цепочку причин и следствий жизни человека, общества, земли или вселенной, и когда некто, пускай и с добрыми намерениями, нежданно-негаданно вдруг вмешивается, встревает, иными словами, лезет со свиным рылом своим в калашный ряд божьего провидения, то это уже есть грех, следовательно, дорога в ад (вот уж где всякому учителю, врачу и прокурору следует почесать в затылке). Таким образом добрыми могут, ну вроде должны считаться лишь те намерения, которые намерениями и остаются.
Другое дело - добрый умысел. Казалось бы – ну какая тут к чертям разница между добрым намерением и добрым умыслом, ежели и там, и здесь в основе направленная на добро, но эфемерная пока мысль, пускай даже в слове умысел мысли больше, ну хотя бы фонетически, морфологически. Но вот он и есть, русский язык, вот зачем я с Тургенева-то и начал. Тогда как в намерении звучит больше душевного порыва, божественной рефлексии, если хотите, - в умысле проглядывается уже и какой-никакой план действий, а план действий, это вам не щелчок пальцами, не вскрик, не невольное движение поддержать под локоть нечаянно оступившегося, это уже продуманная цепочка причин и следствий, прочерченная от замысла к конечному результату, к цели, эдакий на коленках слепленный маленький Гомункул, и автор умысла – уже творец чего либо из ничего, попытка уподобления Создателю, сиречь чистой воды ересь. В слове «умысел» звучит столько порока, что если и не обладаешь стопроцентным слухом, слышишь тем не менее фальшь, когда подставляешь к нему прилагательное «добрый». В известном смысле «добрый умысел» есть ни что другое, как оксиморон и тогда не добрыми намерениями, но добрыми умыслами вымощена та самая дорога.
М-да… Во наворотил-то – самому смешно, не сказать если стыдно. И то правда - ведь не имел я и толики доброго намерения добро высказаться о русском языке, а имел лишь некий умысел пройтись по Тургеневу, коего, каюсь, не люблю хотя бы и за то, среди прочего, что не достав, не достигнув и пятки Гоголя, языка его, с вычурным, неуместным пафосом, совершенно мимо сути рассуждает о величине, могучести, правдивости, свободности, и еще тут же о своем впадении в отчаяние при виде откуда-то из Баден-Бадена всего, что совершается дома, и с такой-то белибердой еще входит в хрестоматию русскую, хоть и согласен, что нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу. Но вряд ли такой умысел мой можно назвать добрым. Простите меня недостойного, тявкающего на слона, поклонники Ивана Сергеевича. Это у меня с похмелья.
Рейтинг: +1
920 просмотров
Комментарии (1)
| Влад Устимов # 18 декабря 2014 в 16:17 0 | ||
|
Новые произведения

