Оформить в порядке перевода
28 февраля 2014 -
Валерий Рябых

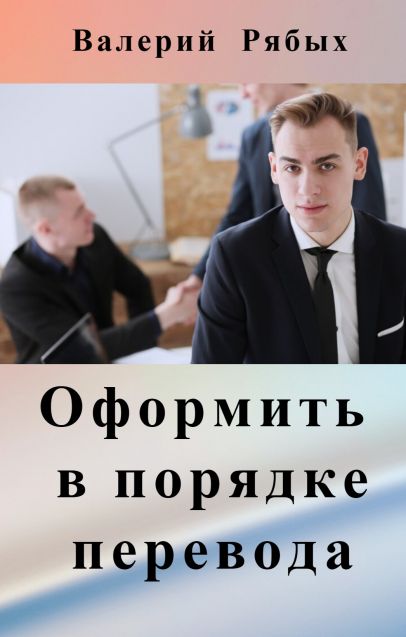
Оформить в порядке перевода
Глава 1
Твой неприятный тебе приятель (или проще — досадный знакомый) вздумал реализовать право на труд почему-то в стенах твоего завода, разведав вакансию именно в твоем отделе... Что скажешь на такой подарочек судьбы? Не подступит ли к деснам щекочущий зуд, не засвербит ли под темечком: «Ишь ты, еще чего не хватало?» Касательно себя — мизантропом не являюсь, но уж лучше поискал бы он в другом месте...
Просто не хочется фамильярного вторжения в обжитый мною мир (назови его мирком — не обижусь), посягательств на сугубо личное достояние — итог душевных многомесячных затрат. Особенно опасаюсь однокашников. Они и по сей день упорно помнят мои обидные прозвища-дразнилки. Их так и подмывает, якобы на дружеских правах обозвать меня «рыжим». Хотя и ребенком я не был конопат, случалось, летом облупившийся на солнышке нос поблескивал оранжевым глянцем, да еще пушились белесые волосы... Но отчего «рыжий», недоумеваю я? Возмущало презрительное «лопух» — за большие, но вовсе не оттопыренные уши. Тот детский изъян со временем выправился, а глупая кличка осталась. Но и поныне «друзья детства» хотят числить меня в «лопухах», ведут покровительственно, даже беспардонно, стараясь выказать собственное превосходство (только в чем?) Соглашусь, действительно, в пацанах я не ходил в коноводах, не был в авторитете (как теперь говорят). Но почему и сегодня кто-то считает себя выше меня, вот в чем вопрос?
А кем стали они? В большинстве просто работяги, тупы и бесперспективны, как табуретка, кто-то совсем опустился, окончательно спился, прочие, обзаведясь семейством, превратились в безучастных обывателей. Но все, как сговорились, не принимают меня всерьез, намеренно выказывают это на людях, травят мое самолюбие.
То, что можно снести на дружеской пирушке, притворяясь простаком, — на работе, среди коллег, мне «западло». Вот почему я болезненно реагирую на вопрос знакомых:
— Нет ли где у вас свободного местечка?
— Нет! — отрезаю я.
Странно, но в тот раз мне впервые захотелось, чтобы Тараторкина взяли к нам. Близко с ним я никогда не сходился, но и шапочным наше знакомство не назовешь. Познакомились мы, кажется, курсе на втором... Я пытался спихнуть последние «лабы» по физике. Предстоящий зачет пугал меня, каюсь, как и все школяры, я черпал познания из коридорного опыта, а отнюдь не из зеленых книжек Зисмана и Тодеса. Судьба на сей раз была милостива, ассистент подтолкнул к моему стенду напарника.
Спаситель — высокий, чуть сутулый кент — старше меня, подстриженный под Высоцкого (точнее, под кружок), в его лице превалировал наплывающий на брови высокий лоб. Это первое — внешнее впечатление. Приобвыкнув, становилось ясно, что парень интересен отнюдь не мордашкой, а внутренним духовным порывом и целеустремленным обликом.
Напарник тотчас взял быка за рога, я не противился, его самоуверенность ободрила меня — успех в лабораторной работе предрешен.
Мы косноязычно познакомились — Антон Тараторкин учился курсом ниже (пришел переводом из военно-морского училища), решил досрочно разделаться со всем курсом физики. Молодец, да и только! Я шкурно радовался — с бухты-барахты редкий человек отважиться сдавать экстерном, верно, Антоха сек в физике...
Действительно, новый знакомый неплохо соображал по оптике, работу мы сварганили быстро, с первого захода.
Тараторкин намылился сразу идти защищаться. Я, естественно, уперся, следовало малость подзубрить.
— Ну ладно, будь по-твоему, — Антон взглянул на часы, — отвечать пойдем через полчасика. Тебе хватит? — и направился к соседнему стенду, у ребят что-то не клеилось.
Я лихорадочно листал толстенный учебник: — ну и мура...
— Готов? — напарник ошарашил меня.
— Еще минутку, — по давней привычке оттягиваю развязку, хотя знаю — перед смертью не надышаться...
Вундеркинд недоволен. Демонстративно, громко складывает учебники в портфель, мешает мне сосредоточиться. Я, внутренне озлясь на него, сдаюсь, впрочем, верю, что парень прикроет меня от преподавательских изысков, да еще надеюсь на испытанную тактику троечника — понимающе поддакивать из-за «широкой» спины, авось проскачу.
Но с суетным напарником творится непонятное. Отвечает невпопад, перевирает элементарные формулы, однако по-прежнему самоуверен, спорит с экзаменатором. Складывается впечатление, что он много на себя берет. Под шумок мне даже удалось пару раз поправить незадачливого студента, недаром же я зубрил. Физик, пожилой еврей, нахмурясь, вникает в смутные доводы Тараторкина и потихонечку топит его, подбрасывая каверзные вопросы. Антон путается, я начинаю мандражировать, наша участь, похоже, предрешена. Засыпься он, и я, разумеется, пропал...
Преподаватель раскрыл зачетку Тараторкина:
— Как... — педагог взбешенно взорвался, — вы набрались нахальства явиться на зачет? Да Вас вообще нельзя допускать в лабораторию оптики. Посмотрите, каков деятель!
Доцент окликнул ассистента, выговорил тому за нарушение установленного порядка. (По-моему, разрешено сдавать досрочно, чего, старикан, взъелся на Антоху?) Ассистент принялся оправдываться, но завлаб был неумолим. Тараторкин под зловещую тишину, крадучись вышел из лаборатории.
Теперь и мне амба! Но распаленный преподаватель схватил мою зачетку и механически расписался. Возможно, доцент счел, что всю работу тянул я, а первокурсник был только примазавшимся? А может быть, экзаменатор весь порох потратил на Антошку, меня же вовсе не заметил?
Потом я часто встречал Тараторкина в институте. Разминуться было нельзя, его высокая сутулая фигура за версту лезла в глаза. Кивнув друг другу, спросив, как дела, посетовав на прижимистость преподавателей, прихвастнув недавней попойкой, мы расходились, как в море корабли, питая друг к другу теплое чувство — только и всего. Чтобы быть точным — вовсе и не теплое... Следовало сразу сказать, что Тараторкин вызывал к себе двойственное отношение. Уж очень он был самоуверен, даже высокомерен, во всем считал себя докой. Хотя не был особо начитан, просто по природной наглости имел «яческое» собственное мнение. Так как он был старше, сильней и хамоват, перечить ему не хотелось, да и бестолку — чужое мнение его мало интересовало. Кроме того, Антон был отъявленный бабник. Возможно, и привирал о своих победах на том фронте, но я, будучи чересчур скромным и не избалованный девушками, относился к его бахвальству с раздражением, мне хотелось скорее поменять тему разговора о мокреньких п***енках, на какие-нибудь прозаические вещи. Я не считал его неистовым мачо, не завидовал, но и не любил его за это.
По окончании института я потерял Тараторкина из виду (распределение, армия), встретил его случайно на улице с год назад.
Он выглядел малость поблекши, но все равно — фирменные джинсы, замшевый пиджак, прическа традиционно (под Высоцкого). Я поинтересовался — где он обретается?
— Начальником производственного отдела строительно-монтажного поезда, — и добавил его номер, назвав ни о чем мне не говорившую трехзначную цифру.
Всем своим видом парень пытался показать, что помыкает своей службой и считает ее лишь временным пристанищем, ибо уготованное ему будущее, не в пример моему, превосходно. Он рисовался в моих глазах, отсюда такой выспренний тон, такое снисходительное пренебрежение к собственной работе.
Меня же по дурости его сообщение неприятно задело, в душе шелохнулась зависть. Сам я к тому времени трудился рядовым инженером, так, на подхвате... Естественно, я не мог ударить в грязь лицом и отрекомендовался — начальником энерго-механического отдела. Таким образом, разошлись мы с Тараторкиным на равных.
Позднее, встречая его, я испытывал скованность неудачника, мои успехи на карьерном поприще были ничтожны, сознавать себя ниже «визави» было обидно, невольно возникала аллюзия рассказа Антона Чехова «Толстый и тонкий». Мне стало казаться, что Антоха задирает нос, уж как-то снисходительно похлопывает меня по плечу, напутствуя покровительственно: «Ну, будь здоров!..»
Антон успел жениться и развестись. Площадной бранью поливал бывшую жену, что уже не по-мужски. Как правило, женская стервозность результат нашей мужичьей социальной несостоятельности. Что до Антона, то он по-прежнему потворствовал своему либидо и даже весьма разнообразил технику и формы секса. В те годы даже минет считался чем-то если не запретным, то уж очень большим изыском. Антон же ушел дальше, и, случалось, практиковал анальные сношения. Признаться, мне трудно было представить такие извращения, но, чтобы не казаться полным придурком, оставалось лишь понимающе поддакивать и, как и прежде, переводить разговор в другую плоскость.
Многое на этом свете шито белыми нитками. Не помню уже, но где-то я вычитал рациональную сентенцию: правда лучше лжи уже в том, что солгав, дабы не влипнуть в историю, лжец вынужден помнить свое вранье порой всю жизнь. Добавлю от себя: коль врем мы не единожды, то обязаны накапливать в памяти собственный обман, так, сколько его скопится за жизнь, а?..
Глава 2
Прошлой весной я замещал своего шефа — главного энергетика Рогожина Александра Сергеевича, убывшего в отпуск, потому волен был сидеть за его столом в кабинете начальства. Кабинет — просто клетушка, отгороженная шалевочной стенкой от общего помещения отдела, два стола, телефоны на широком подоконнике, стулья у стены для посетителей. Дощатая стенка идеальна для прохождения звука, но наш начальник, главный механик Волошин, порой забывал об этом обстоятельстве, и тогда его зычная брань пугающе разносилась по всему отделу.
Иван Владимирович Волошин (за глаза шефа звали Ваньчок) слыл большим оригиналом. Ему далеко за сорок, но он очень крепок физически, может выпить зараз бутылку водки и, ... ни в одном глазу... Внешне — он по спортивному моложав, стрижка чубчиком и обветренное, вечно красное лицо придает ему какой-то лагерный вид. От несдержанности к водке и мату его горло как бы пролудилось, звуки, исходящие из него, мощны и трубны, как паровозный гудок. Хотя мужик он не амбициозный, может запросто дерябнуть с сантехником, с кочегарами, оно и понятно, вышел из рабочей среды и связки с пролетариями физического труда терять не собирался. Человек он справедливый и незлопамятный, отругает и тут же пошлет гонцом в магазин за выпивкой. Впрочем, посыльным можно стать и без вины — подвернешься под руку — таких у нас звали плохишами. На гулянках-сабантуях по случаю красного дня календаря Ваньчок бренчал на гитаре нечто под Окуджаву, кстати, получалось у него очень похоже. Образование у Волошина среднетехническое, заочное, так что пишет он с ошибками в самых безобидных местах, потому всяческую писанину на дух не выносит, однако канцеляристов почитает, относясь к ним как к людям, посвященным в таинство, ему недоступное. Наши грамотеи тем беззастенчиво спекулируют: обложатся бумажками — пойди, сковырни умника?! Сказать по справедливости — Волошин работяга, каких поискать. Завод ему дом родной: и днюет, и ночует, и ест, и спит, и выпивает, и баб трахает...
Разгар трудового дня...
Волошин силится доказать старшему мастеру механического цеха Чернышеву, что служба главного механика не детский сад и не отдел снабжения. По всяческим пустякам, например, в поисках электродов и метизов, сюда ходить не обязательно. Для чего в каждом цехе и предусмотрена должность замначальника по ремонту...
— Повадили вас — вы и сели на шею! — Начальник отдела разошелся не на шутку: разъяренно размахивает руками, брызжет слюной, лоб в испарине. Чернышев невозмутим, подперев подбородок кулаком, иронично посматривает на механика, мол — покричи, покричи, куда ты денешься-то, милок?
— Ну что, уразумел? — Волошин тычет пальцем в фондовое извещение, производственник отрицательно качает головой, тянет палец к потолку, намекает на распоряжение свыше.
— Да с тобой, гляжу, без бутылки не договоришься, — Иван Владимирович идет на попятную, — ладно, отпущу тебе в последний раз, дам из собственных запасов, — и предупреждающе заключает. — В последний раз даю, больше не приходи!
Чернышев довольно смеется, выставляя большие никелированные коронки зубов, он и не сомневался в Ваньчковой доброте. Мы все улыбаемся — работа есть работа. Зам сборочного угощает сигаретами, мы с Волошиным закуриваем, тот заслужил, потратил таки нервы.
Вдруг в дверь раздается отрывистый стук. Кого это несет?
— Да войдите...
На наших лицах сама деловитость — мало ли кто свои заходят без стука. Открывается дверная створка... Ба! На пороге стоит Тараторкин. Он заматерел, волосы остриг покороче, но одет все равно фраером...
— Здравствуйте! — говорит как по слогам.
Ишь ты какой, выискался? «Вуйте-вуйте-те-те-те» — оскомина в ушах от этаких деликатесов-политесов нам ближе и родней скомканное «Здрасть...»
Волошин и Чернышев недоуменно смотрят: — что за гусь пожаловал?
Тараторкин метнулся в мою сторону, он деловито сосредоточен:
— Ты за начальника? — он протягивает мне белую ладонь. — Направили вот к тебе...
На мгновение воцаряется неловкая тишина... Я рассекаю заминку широким жестом на Волошина, как бы между прочим поясняю:
— Я сейчас за зама... — уже после, вспомнив эту сценку, я остался собой доволен. Тараторкин не мог уличить меня во лжи. Помните, я однажды представился ему главным механиком, неважно, что сегодня я рангом ниже, главное не простой клерк.
Парень замешкался, неловко пригладил шевелюру, качнулся от нечаянной промашки, подошел к истинному начальнику. Ваньчок принял хозяйскую позу, погрузнел, так и пышет самодовольством.
— Я... я к вам по такому вот делу, — Тараторкин отщелкнул крышку роскошного кейса (заглядываю внутрь саквояжа: там замшевые карманы и кармашки — стоящая вещь, одним словом). Антоха протягивает Волошину лист плотной бумаги, не писчей желтой, а белой, глянцевой (бочком протискиваюсь за спину шефа, читаю из-под его руки). Тараторкин запоздало поясняет:
— Мое заявление... Прошу меня принять инженером-конструктором третьей категории, — добавил, немного подумав, — так кадровик подсказал...
Действительно, заявление, сочиненное по всей форме. Содержание не фиксируется в моей голове. Зато вот это да! Размашисто, властно, грубо, поверх написанного — царской рукой наложена виза: «Принять... та-та-та... — переводом». Вот это-то злосчастное «переводом» побудило нас с Волошиным удивленно поднять глаза на Тараторкина. Он стоял, скромно потупившись...
Ишь ты, святая простота — переводом! (Прием переводом был большой редкостью для нашего завода, а уж тем паче перевод из другого, неродственного нам ведомства).
Главного механика чуть кондрашка не хватила, он даже потерял дар речи:
— Да-э-э... — выдохнул он наконец. Сие блеющее междометие можно было счесть одновременно мерой недоумение и восхищения. Главмех был явно обескуражен.
— Директор послал к вам, — Антоха напомнил о себе.
Ваньчок уже взял себя в руки, прищурившись, уставился на парня, деланно, придурковато спросил:
— Ну и что? — кашлянув, добавил. — Я то тут при чем? — сделал кивок на заявление, — директор-то уже подписал, — и, пожав плечами, поерзав на стуле, опять принялся вчитываться в резолюцию, словно ища в ней иной, сразу не понятый смысл.
Было ясно — Ваньчок ломает «Ваньку». Ситуация натянулась... Тараторкин занервничал, неуклюже потоптался, стал сбивчиво пояснять.
По его словам, директор велел оформить заявление, как полагается, то есть начальнику отдела следует в углу проставить согласительную подпись. Иван Владимирович, разумеется, давно смекнул, что к чему, но мудрил нарочно притворялся бестолковым.
— Так Вас директор принял на работу или нет, что-то я не пойму? — он простецки шмыгнул носом. — Мне-то, — ткнул пальцем в свою грудь, — зачем мне-то подписывать? — и вопрошающе уставился на Тараторкина.
Тот, видимо, потеряв всяческое терпение, срывающимся голосом ответствовал:
— Директор велел, чтобы вы подписали! — и стоически сжал губы.
Волошин уже в который раз принялся изучающее разглядывать заявление.
Антоха, скрывая нарастающее раздражение, открыл дипломатку:
— Вот мой паспорт, военный билет, диплом... — надо? — на его щеках проступили красные пятна.
Волошин безвольно махнул рукой:
— Зачем мне они нужны — твои бумаги? — подумав, добавил. — Да только кем я тебя возьму? — застучал подушечками пальцев по столешнице, покусал ноготь мизинца.
Надо сказать, что в нашем отделе почти все сотрудники числились инженерами-конструкторами, хотя функционал у них был разный: от снабженца до ведущего специалиста. Ранжировались по категориям от третей до первой...
— Ну ладно, коль директор подписал, я возражать не стану. На, спрячь... — он подмахнул заявление и, как негодную вещицу, отодвинул от себя. Затем, вроде и не слыша благодарственное «спасибо», тоном казанской сироты пролепетал. — Мое дело маленькое, меня не спрашивают, начальству видней... А ты садись, — наконец-то Ваньчок пригласил Антона присесть.
Тот оглянулся, выбирая свободный стул. Доселе невидимый Чернышев из подхалимства пододвинул самый чистый.
— Кем трудились раньше? — Иван Владимирович был, сама любезность.
— Ну, я работал в СМП, это монтажный поезд, в конторе, в сметном отделе, — Антоха хотел что-то еще добавить, но передумал, погасил фразу кивком головы.
Тут уж я подал признаки жизни, мне искренне захотелось, чтобы Тараторкина взяли к нам. Я интригующе выдавил из себя, словно размышляя вслух:
— Можно поставить смотрителем зданий, у нас вакансия... — обращаясь к Тараторкину, спросил. — Представляешь, что за работа?
— Да, да, конечно, — чуток отпрянув от неопределенности, ответил он уже уверенным тоном. — Дело не хитрое, это все семечки. Да только не хочется опять в СНИПах ковыряться.
— Что так? — я даже растерялся. — Работа не бей лежачего... У нас работал смотрителем один друг... Так все ходил, мух бил, даже мухобойку в стройцехе заказал.
— Ладно, Мишк... — отрезал Волошин, — там будет видно...
— Ну, я, наверное, пойду? — Тараторкин поднялся со стула, — Нужно еще трудовую со старого места забрать...
— Давай, давай... Когда тебя ждать—то? — деловито полюбопытствовал главный механик.
— Скорее всего, в понедельник, — потоптавшись, Антоха определился, — точно в понедельник выйду... Спасибо, до свидания, — и стал протягивать каждому на прощание руку топориком.
— Ну давай, покедова, не болей... — спровадил его Ваньчок.
Глава 3
Стоило Тараторкину прикрыть за собой входную дверь, личина главного механика разительно преобразилась, кровь прилила к его лицу, он слышно задышал, а затем и вовсе резко стукнул кулаком по столу.
— Да, дожил, Иван Владимирович! — мы с Чернышевым изумленно уставились на начальника. — Видали? — он вопрошающе воздел руку долу. — Видали хлюста?.. Пришел на мое место... — и, убеждая более себя, чем нас, ернически добавил, — сразу видно птицу по полету. Ишь ты, интеллигент сраный, дипломатка при нем... А я кто такой? — и уничижено заключил. — Да работяга простой, коняга тягловая...
Не ожидая подобного самобичевания, мы пришли в замешательство. Да и чем возразить? Ни для кого не секрет: как инженер Волошин слаб. Любая копировальщица сумеет повесить ему лапшу на уши, не говоря уже о заполнении бланков отчетности, тут ему такую свинью могут подложить — десять лет в тюряге не расхлебаешь.
— Пригорюнясь, Ваньчок взял себя в руки:
— Борман (так прозвали нашего директора за схожесть с бардом Визбором, игравшим в «Семнадцати мгновениях весны») подбирает себе новые кадры. То-то, смотрю, на планерках не стал ко мне придираться, хотя бардака стало еще больше. Верный признак — хочет ослабить мою бдительность?! Ну и пусть... Я знаю, что нехорош. Пускай, коли так... Плакать не стану, как пришел, так и уйду...
Мы с Чернышевым приуныли (а может, только вид сделали). Но Ваньчок уже разошелся, был в своем репертуаре:
— Не робей, ребята, прорвемся! Не пропадем — был я токарем, токарем и останусь! Восемь часиков отпахал и свободен, а две сотни на лапу отдай, не балуй! Не то что сейчас? С утра до темной ночи, и субботу с воскресеньем тоже прихватываешь, и все праздники — на кой черт мне такая жизнь сдалась. Мне что — чины нужны? Мне что, орден дадут? Да пропади все пропадом с их зарплатой... — Ваньчок остервенело махнул рукой.
Посмотрит неискушенный человек на главного механика и подумает: выжали, гады, человека, как тряпку, и выбросили вон на помойку. Посетует — кругом одна несправедливость... Но, как говорится, — ничего не попишешь. А искушенный, знакомый с заводской кухней, знает, что людям склада Ваньчка только такая работа и нужна. Тут можно и очки запросто втирать, и пьянствовать напропалую, и прогуливать, зная, что все и так прокатит, как и было заведено с испокон веков.
— Погоди, Иван Владимирович, не лезь в бутылку! — подал голос разумный Чернышев. — Это, брат, все твои фантазии, мнительный ты стал последнее время. Из мухи слона научился раздувать. Откуда ты взял-то, что тебя снимают с должности? Я, по крайней мере, ничего такого не слышал. А ты, Михаил, (в мою сторону) знаешь чего-нибудь? (я отрицательно махнул головой). Вот видишь... Ты так думаешь — любого болвана с улицы возьми и он потянет за главного механика? Борман не дурак — дать развалить ремонтную службу...
— В самом деле, Иван Владимирович, — подал я голос, — навряд парень на твое место, он конторщик обыкновенный, какой из него механик? — и оптимистично заверил. — Не будет от него толку...
Волошин криво, я бы сказал, даже расчувственно усмехнулся:
— Ребята вы хорошие, я знаю... Да только утешать меня не стоит — я не мальчик. Борману везде свои людишки нужны. Иначе ему долго не продержаться — подсадят, подведут под монастырь...
— Какой ты, однако, тактик? — Чернышев не стерпел. — Свои люди нужны в главке. А тут?.. Кто тут — подчиненные. Кто он и кто ты? Посуди сам — чем ты подсадишь-то? Мелко ты плаваешь (ты уж не обижайся, Иван), чего директору с тобой делить? Работаешь и работай!..
— Да, делить мне с шефом действительно нечего. — Ваньчок пожал плечами и вдруг озорно засмеялся. — Пить надо меньше... За это дело меня директор не жалует. То ли дело бывший Матвеев — вот был настоящий мужик! А не пить на этой работе нельзя, пропадешь, как пить дать пропадешь! — скаламбурил механик и утерев улыбку, запел по-старому. — ладно, бог с ней, с работой, где наша не пропадала...
Чернышев, видя бесполезность своих душеспасительных потуг, обидевшись, ушел. Мне тоже не светило оставаться подле Волошина. Чего доброго начальник, расслабясь с горя, возжелает выпить, да и отправит меня за бутылкой... Пока Волошин, теребя чуб, делал вид, что просматривает деловую переписку (он сроду ее не читал), я потихоньку смотал удочки.
Предстоящий приход Тараторкина к нам в отдел при первоначальном прикиде не вызвал у меня чувства замешательства. Наоборот, я внезапно уверился, что давно хочу видеть среди сослуживцев парня моих лет: нескучного, эрудированного, интересного собеседника. Иначе я совершенно отупею, со скукой взирая на постные, заспанные физиономии коллег, амеб, а не людей. Бог даст, Антоха внесет свежую струю в наши затхлые будни, расшевелит, растормошит всех нас.
Признаюсь, еще я тешил себя коварной мыслью, что удастся отыграться с задавакой, пусть прищемит свой хвост, как никак, а я теперь над ним начальник.
Если быть честным, то я знаю, что руководитель даже мелкого ранга из меня никудышный. Как крючкотвор — я еще куда ни шло, но среди рабочих я теряюсь, не знаю, как себя с ними вести, сползаю или на панибратство, или становлюсь неприступным букой. Видимо, у меня отсутствует руководящая жилка, нет призвания быть настоящим начальником, возглавлять коллектив. Скорее всего, Тараторкин рано или поздно раскусит меня, впрочем, не важно — походи, братец, в моих подчиненных...
Я горел мелочным желанием поведать отделу о новом работнике, но намеренно тянул время, напустив глубокомысленный вид. Наши уже заинтересованы. Определенно бурная реакция Волошина всполошила их, заставила делать всяческие предположения и фантазировать. Они ждали меня как бога — они жаждали откровения...
Наконец я раскрываю рот — все того и хотели, разом отставили свои дела. Напротив меня сидит пятидесятилетняя молодящаяся женщина, Ольга Семеновна, обычным ее занятием являлась подпиливание и полировка ногтей, окрашивание их остро пахнущим лаком. Ольга Семеновна — вечная вдова (у нее есть сынок лет шестнадцати), но женщина еще надеется найти собственное счастье, то есть стоящего мужичка предпенсионного возраста. Но как ей, глупой, не знать, что таковые уже разобраны, а всякие алкаши и лодыри-инвалиды не в счет. Сейчас она, предвкушая удовольствие, отставила в сторону свои кисточки и флакончики, подперла щечку кулачком и изготовилась слушать. К ней я и обратился, рассматривая ее ярко-желтые локоны, интригующе произнес:
— Видели, Ольга Семеновна, к нам парень заходил?.. Пришел с заявлением... — и я рассказал все, как было, естественно, сделав акцент на том, что директор берет новичка переводом.
Поведал отделу об опасениях Волошина за собственное кресло, чуть посмеялся над его мнительностью (но затравку для сплетен закинул). Я скрыл, что знаком с Тараторкиным, инстинктивно почуяв необходимость отмежеваться от человека, которого еще не приняли в коллективе, да и, скорее всего, никогда не сочтут за своего. Сработала старая подьяческая мудрость: «Кабы чего не вышло — ешь пироги с грибами, а язык держи за зубами...»
Первой, разумеется, отреагировала Ольга Семеновна, она возмутилась обиженно:
— Берут всяких блатных! — сама она к той категории явно не принадлежала, вот почему уже двадцать лет сидела на одном и том же месте. Некому о ней позаботиться, так и прокрасит, бедняжка, ногти до самой пенсии рядовым инженером: сводка потребления электроэнергии, месячный отчет 11-СН — вся ее работа.
Истину не всегда глаголют уста младенцев, порой ее изрекают уста зрелых матрон. «Блатной?» — мое тщеславие задето. Блат — капитал, блатному море по колено, без блата карьеры никогда не сделать. Вот она, моя ахиллесова пята...
Задетый за живое, отдел загудел, как растревоженный улей.
Рано полысевший коротконогий инженер Полуйко (интеллигент в пятом поколении) обыкновенно спокойный и корректный, и тот не сдержался, со свойственной ему менторской иронией заявил:
— Друзья! Я не удивлюсь, если папенькиному сынку положат жалованье более нашего? — и по мефистофельски ощерился, провоцируя народ «на беспорядки».
Ближе всех к сердцу гипотезу Полуйко восприняла та же Ольга Семеновна, она апеллировала к Павлу Васильевичу Дубовику (погоняло — Дуб) — старшему инженеру, засевшему по-партизански в самом углу. По своему обыкновению Дуб, уверенный, что не заметен, тихонечко подремывал, со стороны казалось, читает заумную бумагу, но на этот раз он бодрствовал.
— Пал Василич! — возопила женщина, — Где же правда? Тут работаешь, как каторжная. А эти (чуть даже не взглянула на меня) не успели вылупиться на божий свет, а им уже и оклады, и должности... Да я после института пять лет учетчицей работала, где же справедливость?
Дубовик глубокомысленно пожевал губами и затем ответствовал, проблеяв с хрипотцой:
— Бяда-э-э-э... — Следует заметить, что Дуб считался самым грамотным инженером в отделе, так, видимо, и было на самом деле. Но у «грамотея» имелся небольшой изъян, портящий ему жизнь: он, будто глухая деревенщина, в разговоре умудрялся втискивать букву «Я» в самые неподходящие места, как-то: матя’матика, ля’нейкя, у ня’го... Высшее начальство считало это узколобостью и не выдвигало Дуба на ответственные посты.
— Как, по-вашему, честно так поступать? — вопрошало неистовая женщина. Павел Васильевич что-то промекал себе под нос. Ему недавно накинули десятку к окладу — итог десятилетнего бдения в отделе, роль диссидента представлялась ему нескромной, вот и пришлось проблеять по-бараньи.
Ольга Семеновна уже что-то доказывала женской половине отдела: машинистке Зиночке (день у репродуктивной мужской половины начинался с констатации цвета Зиночкиных рейтузов), Копировальщицам Вике и Любаше (вообще зеленым особам), техникам Свете (Выдре) и Клаве (Клавусе).
Бабенки сочувственно покачивали головками, порой возмущенно восклицали и шушукались на непонятном рыбьем языке.
Отдел встревожился не на шутку...
Равнодушным к животрепещущей проблеме оставался лишь снабженец Никульшин Юрий (Юрок по-нашему). Положив руки под буйну голову, он сладко спал, простодушно улыбаясь во сне. Определенно заветная чекушка уже стояла припрятанной, что давало снабженцу уверенность и право спать — где и когда вздумается, никого не опасаясь. Юрка не беспокоили чужие оклады, ибо он твердо знал — деньги что вода, а всю водку все равно не перепить. Покойного сна, Никульшин...
Интеллигент Полуйко оказался провидцем. После обеда курьерша доставила в отдел приказ по заводу, его суть состояла в поразительно высоком окладе нового сотрудника: чуть-чуть меньше ставки главного механика.
Волошин с ехидством в голосе зачитал сию директиву, то была желчность обреченного, его подозрения почти сбылись:
— Ах, гады ползучие, я тебе, Мишка, говорил, а ты не верил... — Ваньчок не находил слов выразить кипевшее в нем негодованием. Начальник, уже слегка «под шафе», определенно настроился продолжить выпивку, мне же не с руки (да и дождь накрапывал) делить с ним компанию. Я отмахнулся парой негодующих фраз, сослался на срочные дела и ретировался в общую комнату (для виду разворошил по столу папки). Вскоре, чертыхаясь, главмех покинул кабинет, потянуло на территорию, там собутыльника проще сыскать.
— Ну! — заговорщицки воскликнул я, едва за начальником хлопнула дверь, — Виктор (Полуйко), ты как в воду смотрел!
— Чего там стряслось? — откликнулся сообразительный инженер.
— Приказ! — я воздел палец в потолок, гипнотизируя присутствующих.
Все заворожено замерли. Я поспешно вынес титулованный листочек, при гробовом молчании поведал его содержание. Не передать что тут поднялось!.. Недовольство, годами копившееся у коллег, лавиной поперло наружу. Даже ироничный Полуйко, оставаясь интеллигентом, вымолвил гнусаво:
— Уволюсь! Не хочу больше корпеть за копейки. Обещали же еще в прошлом году... а воз и ныне там.
Технолог Ольга Семеновна мигом высчитала разницы в зарплатах Тараторкина и остальных сотрудников отдела. Вышло впечатляюще!..
Никульшин, проспавшись, выставясь добровольным шутом, пересчитал оклад новенького на бутылки белого и красного, и поразился открывшимся у себя бухгалтерским способностям.
Даже Павел Васильевич не остался в стороне:
— Ничя’го ся’бе!.. Столько я получал, когда работал главным инженером в «Запчасти», — и удивился произнесенному. Простим ему безобидный вымысел, Дуб с детских лет мечтал стать главным инженером...
Возмутительно несправедливый приказ никого не оставил равнодушным.
— Что за шум, а драки нет?! — откуда ни возьмись заявился уже поддатый Волошин. Мы приумолкли... Ваньчок по-хозяйски прошелся меж столов, соколом оглядывая подчиненных. Ольга Семеновна не вытерпела:
— Иван Владимирович, да что же это такое? Берут неизвестно кого, зарплату кладут наравне с вами?.. А как же мы, еще когда нам обещали прибавку?.. — Женщина призывно оглянулась, ища общую поддержку.
— Товарищ на мое место, — затянул старую песню Ваньчок, — последние деньки вместе работаем... Ухожу простым токарем, работягой(!) в цех... — и давя на слезу, закончил с надрывом. — Теперь только в гости к вам зайду... Да и то, пустите ли на порог?.. Стоит поваживать всяких там слесарей-токарей... Глядишь, и руку не протяните... — мужик повесил голову. — Да и поделом мне, — и вдруг залихватски воскликнул. — Так что ли, Никульшин! — вспугнул снабженца, сонно клонящего тяжелую голову.
Тот вздрогнул всем своим тщедушным тельцем, продрал слипшиеся глазенки и дурашливо захихикал, так и не поняв — зачем его разбудили.
— Ты, бродяга, досмеешься... Новый начальник, он тебя в два счета выгонит, — помолчав, резюмировал, — за пьянку... — и выразительно щелкнул себя по горлу.
Снабженец уже очухался, ни мало не смущаясь, парировал:
— Я и сам уйду! — но этих удалых слов явно было мало, окинув отдел лихим взором, Юрок остановился на Павле Васильевиче. — Вон, Пал Василич, — его, брат ты мой, кувалдой с места не собьешь, прирос бедняк к стулу намертво ...
— Чя’во, чя’во?.. — обиделся старший инженер и принялся перелопачивать запыленные папки, бруствером уложенные на столе.
Наши сердечные женщины взялись по-бабски непритязательно утешать Ваньчка. Глупая Зиночка, войдя в раж, даже призвала всех уволиться, если снимут Волошина. Но ее призыв почему-то оказался не услышанным.
Откровенно сказать, лучшего начальника для себя мы и желать не могли. Человек совершенно незлопамятный, если и обставит матюгом, спустя полчаса, как ни в чем не бывало, похлопает по плечу, попросит закурить... и, инцидент исчерпан. Разумеется, он журил по начальственному прогульщиков и нерадивых, но, как говорится, людей не пас (не подлавливал — то есть). Разумеется, мы все по-жлобски злоупотребляли доверием Ивана Владимировича. Как же иначе?.. Но зато любили его... Возможность потерять такого начальника привела всех нас в уныние
Глава 4
Жаль, но мне не довелось быть очевидцем первого выхода Тараторкина на работу — отправили в командировку. Порой случаются в жизни события, которых жаждешь, которые предвкушаешь, словно они красочное сценическое действо, а сам ты — зритель. Душа алчет бесплатного зрелища, этакой увлекательной мизансцены, неподвластной режиссерскому замыслу, от которой получаешь настоящее удовольствие, сродни эмоциям завзятого театрала. Так вот — не удалось мне стать свидетелем неловкости, свойственной каждому новичку, увидеть наэлектризованную картину и ее немых участников. Как повел себя Антон? Почуял ли недоброжелательность навязанных судьбой коллег, успел ли еще больше восстановить их против себя? И все это в лицах, в лицах... Мне, конечно, рассказали о возникшем чувстве общей неловкости, но я не испытал сопричастности. Скорее всего, это пошло мне на пользу...
В четверг, опоздав на троллейбус, я появился у заводской проходной с задержкой в двадцать минут. И у турникета лоб в лоб столкнулся с озабоченным Тараторкиным.
— Ты куда, — удивляюсь неожиданной встрече, — на работу вышел?
— Да, — отвечает спешащим тоном. — Еще в понедельник, а сейчас надо сдать обходной на старом месте.
Мне ничего не оставалось, как буркнуть ему вдогонку:
— Давай, давай, скорей рассчитывайся! — я не успел даже вызнать, как пришелся наш отдел Антону, парень прошмыгнул и исчез.
Сослуживцы курили в проходном коридорчике, как и везде, трудовой день начинался с обстоятельного перекура. На работу нужно настроится, накачать себя никотином, чтобы мозги одеревенели, чтобы стать роботом. Ну «как съездил?» — махаю небрежно рукой, мол, как всегда — хорошего мало.
Волошина в кабинете на оказалось, верно, на планерке у начальства. Курильщики цепочкой потянулись вслед за мной в кабинет. Разумеется, заговорили о Тараторкине. Особенно злобствовал интеллигент Полуйко, окрестил новенького «е***ым делопутом» (как выяснилось, Антон слишком запросто повел себя с инженером, а тот зажлобился).
Ольге Семеновне Тараторкин «совсем не понравился»:
— Ну и деятель, ну и деятель?! («Деятель» — первая и самая прилипчивая кликуха, присвоенная Антону в конторе). Только вошел и сразу — где мой стол? Я ему: «Молодой человек, у нас все занято!» — так он пошел к начальнику, тот его, Михаил, на твое место посадил (мой прежний стол смыкался с местом Ольги Семеновны). — И она мне сразу, — ты, Миш, лучше переходи сюда, пусть деятель с Волошиным остается.
— Весь импортный, даже смотреть неприятно, шмоточник спекулянтский! — вставила машинистка Зиночка (девушку можно понять, ей бы такой прикидон).
Даже техник со среднетехническим образованием Клавуся не удержалась:
— Все у них в строительном тресте лучше: и кабинеты светлей, и столы полированные, и телефоны у каждого...
— Ну и сидел бы там, чего к нам пришел, ишь деятель! — заключила Ольга Семеновна.
— Хе-хе — подал голос Павел Васильевич, — говорит мне: «Зачем сколько старья разложили?» — указал на кипу папок. — Без этого «старья», брат ты мой, соображать надо — завод сразу встанет. Грамотей нашелся какой?..
— Да, братцы, — посмеиваясь про себя, выслушиваю недовольство сослуживцев, — тяжеленько придется Тараторкину. Ну уж коль назвался груздем — полезай в кузов!..
Час спустя я и сам оказался ничуть не лучше коллег, гнусное чувство нагадить ближнему овладело и мной.
По делам зашел мастер Чернышев. И я первым делом стал подличать (не подберу слова верней):
— Федорыч, видал нашего новенького? Ну, того, что при тебе заявление приносил... Ну, того, что по блату взяли...
— А где он? — не въехав сразу, по душевной простоте поинтересовался мастер.
— Отпросился, — я съязвил ехидно, — по личным делам?! — и поднял интригующе палец вверх.
— Приняли деятеля на нашу голову, — приняла от меня эстафету Ольга Семеновна. — То ему не так. Это ему не этак, сразу видать — хлюст порядочный.
Ненавистно разом стали протестующе поддакивать и остальные.
— Зря вы так, — спокойно реагировал Чернышев, — возможно, он неплохой парень... Чего вы на него наехали? Чем уж вам так насолил-то?
Трезвое замечание стороннего человека меня неприятно задело. Я понимал справедливость сказанного, но в тоже время ощутил глухую неприязнь к Чернышеву. Чувство, подобное необузданному упрямству: знаешь, что неправ, но все равно усераешься, доказывая обратное — и уже считаешь оппонента личным врагом.
А Чернышев оказался молодцом. Он пошел вразрез с общим мнением. Обыкновенно, когда толпа кого-то хает, лучше не попадаться под каток общего суждения, раздавят и тебя. Здравая позиция — поддакивать. Толпа зачтет проявленную любезность — примет за своего и ... не тронет.
Чернышев личность (пусть даже в нашем маленьком масштабе)! А кто я, тогда получается?.. Обыкновенное ничтожество, — туман, застивший мозги сослуживцам, дурманит и меня... Да нет, все обстоит гораздо хуже. Я сам преднамеренно заморочил им мозги, сам раздул кадило ненависти. Понимаю все, а не каюсь, так и хочется сказать по Гоголю: «Подл человек!..» Не умаляя достоинств Чернышева, добавлю, что честная позиция или поступок еще мало о чем говорят, но вот лживый — есть сигнал. Человек оступился, оступаясь — падают...
Я намеренно остался за своим столом в общей комнате и, когда Тараторкин вернулся, сотворил застегнутую на все пуговицы неподступную личину. Мол, ты мне не сват, не кум и уж тем паче не друг — у нас нет ничего общего с тобой... Разумеется, внутри я испытывал уязвление от такого камуфляжа, но (проклятый конформизм!) солидарность с остальным отделом мне была дороже. (Сообщники, ополчаясь против выбранной жертвы, всегда питают друг к дружке теплые чувства — но это эфемерное состояние).
Тараторкин, будь он неладен, упрямо хотел закантачить со мной. Мне оставалось лицемерно (и нашим, и вашим) вилять хвостом. По сути, я ведь не враг Тараторкину, да и зла ему не хочу. Надеюсь, никто не раскусил мою двуличную игру...
После обеда Волошин, при всех отозвав меня в сторонку, чтобы видели деликатность возложенной миссии, поручил мне прогуляться с Антоном по территории завода, показать парню наше производство. Ваньчок считал меня своим в доску, оттого верил, что я не переметнусь на сторону конкурента.
Не скрою, такого ряда поручения мне по душе. Нелишним было показать начальнику свою преданность, я малость пофордыбачился — якобы, а стоит показывать, может и так сойдет. К чему такое отличие, они (новички), то приходят, то уходят, глупо их водить с экскурсией по цехам. Мои слова были бальзамом для ваньчковой души, он полностью солидарен со мной, но культпоход отменить нельзя (видно, велели свыше). Но шеф нашел выход:
— Да ты особенно не старайся, коли так... Поманежь его в литейке, в пропарке, дай понюхать наших «вонизмов», пусть знает, куда попал, чай, не к теще на блины...
Перед Антоном я постарался развеять туман утренней черствости. Стал самим собой. Искренне признаюсь — я не питал к нему зависти, мне до фени его связи и блат. На правах старого знакомого, балагуря о пустяках, провел его по заводу. Как заправский гид рассказал историю завода, не преминул поведать забавные былички о прежних начальниках (разумеется, со слов старожилов). О Бормане умолчал — сработал инстинкт...
Наш заводик небольшой, обошли в полчаса. Мне удалось показать Тараторкину, что я тут уважаемый человек (излишне часто здоровался за руку с буграми и знакомыми мастеровыми, осведомленно характеризовал каждого). И главное, я дал ему понять, что меня стоит держаться. Новичку нужна поддержка, необходимо скрасить неприязнь, которой пропитался отдел, ведь нельзя человеку обретаться во вражьем стане. Я малость возомнил себя благодетелем, во всяком случая, роль покровителя пришлась мне по сердцу.
Напоследок я все же решил выполнить пожелание Волошина, показать Тараторкину литейный цех отнюдь не в качестве пугала. Присовокупил попутно о дореволюционном наследии, о купцах Силиных — бывших владельцах, иронизировал, что литейка, как по облику и оснащенности, так и по условиям труда, осталась на дореволюционном уровне братьев Силиных. В цеху Антону в глаз попала соринка, пришлось спровадить малого в медпункт, на том и расстались.
Вернувшись в отдел, я сотворил постное лицо, якобы роль гида донельзя психологически отяготила меня. Копошилась дурная мыслишка: а вдруг Тараторкин сочтет наши отношения слишком уж приятельскими, выставит их напоказ — в каком свете тогда расценят меня сослуживцы? Будто убеждая себя, задумчиво вымолвил, ни к кому конкретно не обращаясь:
— Нет, Тараторкина ни за что не поставят на место Волошина. Он ни хрена ни в технике, ни в производстве не соображает, — для чего я инспирировал подлючий интерес к Антону, сам не знаю, но все согласились — новичок вовсе не кандидатура на место начальника отдела.
Странно, но мне показалось, что фамилия Антона уже не режет слух коллегам, никто не судачил, не злословил на тему пресловутого блата. Перегорело. Да, так и есть, после нервического возбуждения, порожденного нехристианскими страстями, наступает вялое равнодушие, апатичное упование на «авось». Нервная система хочет отдыха, покоя. Ну и ладненько, так даже и лучше...
Флюиды спокойствия и смирения обволокли отдел, каждый в одиночку занимался сокровенным, воцарился мир и благодать. Хочется уснуть, укрыв голову тяжелым теплым одеялом...
Даже возвращение Тараторкина прошло незаметно, все замерло в дреме. Антон, должно глотнув застойного воздуха, молча шмыгнул на отведенное место, не подал ни звука (слава богу, и ко мне не подошел, хотя бы поблагодарить за санчасть). Он отрешенно углубился в изучение пыльных папок производственных инструкций. Интересно, какой раз за истекшие четыре дня он их перебирает?..
Расходились по домам мы тихо, без обыкновенной оживленной суеты в конце рабочего дня. За проходную мы вышли втроем: Тараторкин, сорокалетний инженер-конструктор Рыбкин и я. Нам с Рыбкиным по пути, пожав на прощание руку Тараторкину, справляюсь у инженера, мол, как ему новенький?.. Спросил не ради интриги, а так просто, больше даже по небезразличию к Антону.
Надо заметить, что Рыбкин по своей природе незаметный человек, начальство, когда он попадется на глаза, помыкает им, даже третирует, а так, что он есть, что нет его. Оригинальных суждений от него нечего ждать, да и существует ли у него собственное воззрение — вопрос. Но изрекаемое им мнение есть усредненное выражение взглядов сотрудников отдела, а может, и всего нашего народа в целом. Ответ конструктора еще раз подтвердил мои догадки, что коллеги уже смирились с новым человеком, житейская мудрость возобладала над пустым фрондерством. Рыбкин ответил так:
— А Антоха-то?! Кто его знает... начальству видней, кого брать... Пускай работает... Нам-то какое дело — кто его пропихнул? Каждый как может, так и устраивается, вон в газетах пишут... — он не договорил, о чем там пишут. — Слушай, Мишк, дай десять копеек, на курево не хватает.
Я дал ему гривенник, Рыбкин радостно устремился к табачному киоску, я махнул ему рукой — бывай. И подумал: «До свидания, безликий человек Рыбкин Борис Николаевич. Вся-то разница между нами, что жена дает ему на обед (и прочее) пятьдесят копеек мелочью, моя же — бумажный рубль. Всего лишь пятьдесят копеек разницы, а он ведь, горемыка, сознает это неравенство, принимает его как должное... Вот чудак?..»
Иван Владимирович Волошин не долго ломал голову над тем — куда пристроить Тараторкина. Но Ваньчок, с присущей ему крестьянской хитростью, расписывал загвоздку с новым кадром каждому встречному-поперечному. Уповая на трудовой опыт собеседника, советовался об участи Антона. Непосвященный в методу Волошина, искренне раскидывал на пальцах, перебирал приемлемые варианты... Рассуждал и Волошин, и вдруг его озаряло. И тогда Ваньчок искал у собеседника подтверждения правильности своего выбора, тем самым как бы делил ответственность за возможный просчет на двоих. Я не раз наблюдал эту византийскую манеру, порой было смешно, но в принципе понимал — у каждого свои тараканы.
Таким образом, Антону поручалось привести в порядок документацию по котлонадзору. Подведомственных объектов у нас не так много. Котельная отпадает, она в ведении инженера-теплотехника, остаются резервуары под давлением и грузоподъемные механизмы. Еще послабление — у нас нет мостовых кранов, а тали и тельферы не подлежат освидетельствованию инспекции котлонадзора (обходимся собственными силами). Но в тоже время ведение документации по этому вопросу было — легко сказать, запущено, оно напрочь не велось как минимум лет десять.
Акты проверок писались от случая к случаю, технические паспорта подъемного оборудования и ресиверов разбросаны по всем шкафам и верно половина их утеряна. Под рукомойником в коридорчике стопкой сложены жестяные таблички со сроками освидетельствований. Они гласили: «Ч.О. — 12.12.70., Ч.О. — 12.12.72.» — выходило, валялись без дела две пятилетки.
Почему-то считалось, что обязанность развешивать таблички вменена Рыбкину, только кто и когда обязывал тому — неизвестно. Инженер-конструктор не роптал на несвойственную его должности функцию. Он добросовестно берег таблички, не вывешивал же их, потому что старые сроки давно истекли, а новые никто не установил.
Итак, по сути, Антону предстояло воссоздать на заводе службу технадзора: разработать графики освидетельствований и планово-предупредительного ремонта (ППР), собрать воедино техпаспорта и оформить нужную документацию. Разумеется, столь неподъемное дело новичку быстро не осилить, но хотя бы сдвинул с мертвой точки, подготовил бы для формальных отчетов, и то — благо.
Хуже нет подчищать за другими, а еще дряннее делать то, сам не зная что. Странно, но Тараторкин не выдал своего замешательства. Наоборот, на следующий день он со знанием дела рассуждал о надзорных требованиях, предъявляемых к содержанию подъемных механизмов и ресиверов, просветил нас, как производятся испытания талей и кран-балок, поведал о динамическом ударе... Признаться, и мне доводилось предвосхищать чужую волю, потому меня не удивило обилие специфических терминов, выданных на гора Тараторкиным. Разумеется, он блефовал, не было у него глубоких и устоявшихся знаний в той области, а об опыте и говорить не стоит — просто он накануне просмотрел дешевенькую брошюрку по опасным механизмам, вот по свежей памяти и шпарит ее.
— Ну, теперь дела попрут, — довольно возгласил Волошин, доверительно поглядывая на Тараторкина. Есть такое свойство у русского человека: напридуманные им напасти на свою голову очень быстро сходят на нет, стираются в памяти сами собой. Так и Ваньчок, он амнистировал Тараторкина от подозрений в подсиживании и даже потеплел к малому.
Получив таким образом благословение начальника, Антон взялся пускать пыль в глаза всему нашему отделу, причем довольно рьяно. Его возмущение небрежением прошлого начальства к делам технадзора воспринималось нами с неким одобрением (подчиненным всегда лестно, когда ругают начальство, пусть даже и бывшее). В то же время никто из нас почему-то не верил, что это убитое ранее дело наладится усилиями Тараторкина, хотя парень прожужжал всем уши своими талями и тельферами. Пришлый человек, заглянув в те дни к нам в отдел, наверняка решил бы, что для «механиков» нет дела важнее, чем грузоподъемные средства, столько было выпущено пара по этому поводу.
Наши старожилы, не желая ударить в грязь лицом, тщились показать свою универсальную компетентность в технических вопросах. Даже снабженец Юрий Михайлович по трезвянке вознамерился проэкзаменовать Тараторкина:
— Ну-ка, Антон Батькович, скажи, что такое палипаст?!
— Я такого слова не знаю, — раздраженно ответил Тараторкин.
Никульшин обрадовано засмеялся, мол, вот он, простой снабженец, а завел таки грамотея в тупик:
— Ну, эт-та... троса на колесиках... за один конец тащишь...
— Так то — полиспаст, — по слогам выговорил Антон и добавил, — буква «эс» в середине слова. В этом механизме тяговое усилие определяется числом роликов и ниток каната, — заученно отчеканил он.
— Все то ты знаешь... — разочарованно протянул Юрок, но не желая сдаваться, полез в бутылку. — Когда я работал в «Заготзерне», ту штуковину звали палипастом, — и далее задумчиво протянул, — может теперь стали по-другому называть, а раньше точно помню — палипаст.
— Ну ладно, Никульшин, брось загибать, — вмешался Полуйко.
Но Юрок не сдавал позиций, как всякому алкоголику, ему нравилось внимание к собственной персоне, его прельщало проявить актерство в защиту придуманной истины:
— Да я сам работал на нем, мне лут-чей знать! — апеллируя к слушателям, правдоподобно возмутился. — Меня учить нечего... поработал бы с мое — узнал бы, что к чему?
— Ну как знаешь, — Антон, махнул рукой, отваживая ретивого такелажника, но того видимо заклинило:
— Я то точно знаю, я из практики знаю, а ты из книг. Чуешь разницу? Книга что?.. Одним словом — бумага... Хочу так напечатаю, хочу этак... — дальше Юрий Михайлович Никульшин понес такую ересь, перемежаемую матом, что все стали смеяться, а Юрок возгордился, счел себя героем дня.
Болтовня — болтовней, но через два дня Волошин учинил Тараторкину первую ревизию. Парню пришлось нескладно мямлить: паспортов нет, ответственных нет, графиков нет — попробуй разберись сразу... Механик, видно, начал смекать о деловых качествах нового инженера, но явного недовольства не выразил, лишь слегка пожурил малого: «Не было, нет в наличии — это не отговорка, должны быть и баста!»
После ухода начальника Антон пригорюнился. Взять хотя бы проклятущие паспорта... Действительно, задача не из легких — попробуй разыщи черную кошку в темной комнате, к тому же, если ее там нет и не было. Куда это они запропали? Пока что нашлась самая малость: в ящиках столов, в шкафчике электриков, в сейфе снабженцев под связкой подшипников и прочей мажущейся дряни, в кипе позапрошлогодних отчетов по капитальному ремонту, короче, неисповедимы пути Господни...
Когда мы позвали парня пойти перекурить, он раздраженно отказался. Можно подумать, что мы — бездельники отрываем трудягу от дела, намеренно мешаем ему, чего доброго, еще пожалуется Волошину? Да, наконец-то — один из нас поглощен своей работой!.. В облике Тараторкина появилась неприступная деловитость, аж бледный лоб покрылся испариной. Делопут, да и только!
Я задался вопросом — сочувствовать или смеяться мне над Антоном? А может, просто махнуть на парня рукой, на его демонстративные потуги представиться трудоголиком. Впрочем, возможно, он получил первое серьезное поручение, первое самостоятельное дело на фоне прошлого ничегонеделания. А вдруг правда — он исполнен самых благих намерений, у него прилив созидательной энергии. Что же здорово, когда человек погружен по горло в работу, пусть даже самую непрезентабельную. Возникает здоровое тщеславие, даже приходит вдохновение, труд приносит радость. Увы, рано или поздно благой порыв истончается, иссякает в буднях дней, но ведь сделанное осталось, материализовалось, пусть даже никому не нужной очередной папкой в шкафу.
Три дня Антон неустанно занимался поиском паспортов, проявив, я бы сказал, изощренную предприимчивость. Он облазил все, даже самые несуразные места, выуживая заныканные, черт знает куда папки своих талей. Ему бы архивариусом — у парня определенно бумагосборный талант. Наконец, паспорта сложены пестрыми стопами на столе, наверное, действительно все из имеющихся в природе, мы в этом уже не сомневались.
Тараторкину бы отдохнуть от трудов, но он пустился с места в карьер, перевоплотясь теперь в классификатора, этакого папирусного Карла Линнея. Парень сортирует, раскладывает, помечает папки паспортов по мощности и усилию устройств, по еще каким-то лишь ему известным особенностям. Наш главный доволен, работа на приколе не стоит, Ваньчок похвалил Антона, тот скромно потупясъ, промолчал, но и дураку ясно, что одобрение тронуло его сердце, похвала начальства любезна каждому.
И вдруг, как гром в безоблачном небе, старший инженер Павел Васильевич по уходу Волошина заметил наивным тенорком, мол, большинство-то паспортов, раскопанных Тараторкиным, уже мало куда пригодны, так как сами тали и тельферы давным-давно списаны в лом! И тут всех разом осенило, что Пал Василич-то прав как никогда. Большинство этих корочек осталось с ветхозаветных времен, чуть ли не с братьев Силиных, дореволюционных хозяев завода. Да и внешне разве это документы, у иных вырваны листы, на страницах ржа от селедки на закусь и так от ветхости, есть такие паспорта, от которых осталась лишь одна обложка. Всем стало неловко за собственную недогадливость, а если вдуматься поглубже, то за черствость и равнодушие. Пришел новый сотрудник, ему поручили ответственное дело, конечно неведомое ему, хоть он и пыжился, доказывая свою компетентность. В парне вопила его неопытность, по сути он искал совета, нашей подсказки. Правда вопрошал в завуалированной форме, но неужто нельзя было догадаться, смекнуть о его проблемах, а мы остались безучастными, только разглагольствовали, лишь бы языки почесать да себя показать с выгодной стороны. Дабы как-то реабилитироваться хотя бы в собственных глазах, все разом взялись поучать Тараторкина — что ему делать. Мололи всякую чушь, полагаясь лишь на здравый смысл, не понимая, что совершенно безграмотны в вопросах котлонадзора.
Вот и пришлось бы Тараторкину изобретать велосипед, умного никто так и не предложил — одна галиматья. Остается мне спасать малого, как-никак сижу в кабинете начальника. С божьей помощью меня вынесло, хотя, по правде сказать, я сам толком не знал, что требуется от Антона. Велел ему сходить на соседний завод (железнодорожники... — у них наверняка технологическая дисциплина выше, все же военизированное прежде ведомство). Узнать, как там поставлено дело, ну и, соответственно, перенять опыт, внедрить у нас. Список же эксплуатируемых талей он может взять из журналов ППР (планово-предупредительного ремонта), там утвержденные данные. Хотя, нечего греха таить, журналы эти переписывались из года в год, но сам перечень и координаты месторасположения оборудования имеются. Пусть заводит новые папочки, закажет нужные бланки в типографии, ну и начнет подшивать бумажки, тут можно развернуться в полную силу, главное застлать глаза инспекторам технадзора и проверяющим из разных комиссий.
Тараторкин благодарно внимал моим доводам, да, по сути, они и были самые рациональные из ранее услышанных им советов.
Теперь Антон включился в работу без прежнего ажиотажа и постарался ввести ее в размеренный ритм. Постепенно на его столе стали накапливаться синьки паспортов, заполненные каллиграфическим подчерком, печатались инструкции, вычерчивались графики... Дай-то бог теперь не свернуть ему с намеченного курса, глядишь, и появится у нас на заводе надлежащая служба грузоподъемных механизмов и прочих опасных средств.
Волошин, видя такое усердие, заметно потеплел к Тараторкину и с пониманием отнесся к канцелярскому бремени, свалившемуся на плечи парня. Даже выхлопотал ему в АХО (административно-хозяйственный отдел) папки-скоросшиватели с надписью «Дело №» (кстати, большой дефицит). И вот, когда Антон завалился в «офис» с кипой свежей картонной продукции, радостно вывалил ее на стол, гордясь ей, словно это его победа, в отделе почему-то сразу установилась атмосфера молчаливого неодобрения. Стоило ему отлучиться, как наше «бабье» опять принялось судачить: «Кому все, а им, бедным, ничего, приходится довольствоваться только бэушным... Подумаешь, там... — кран-балки, тельфера какие-то?! У нас самих дела поважней будут...» Но внезапно ниоткуда взявшийся Иван Владимирович быстренько пресек их недовольство:
— Чего сквалыжничаете, поимейте совесть!.. У вас все на ходу, а малому приходится начинать с нуля, кому, как ни ему, надо помочь в первую очередь... Понимать надо, — и, хихикнув, добавил ехидно, — политику партии и правительства...
Намек на такие высокие инстанции означал одно — не заноситесь, бабоньки. И они это, конечно, уразумели.
Глава 5
Внезапно Волошин заболел, взял бюллетень (так у нас называют «ушел на больничный»), и мне пришлось всамделишно остаться за него. Что, конечно, не доставило мне удовольствия — упиваться куцей властью может только простофиля. Мизерная прибавка к зарплате абсолютно не компенсирует свалившуюся гору докучливых забот, кто понимает, тому нечего объяснять, сколь хлопотны обязанности главного механика. А кто не ведает, поясню... Необходим тщательный контроль, а проще постоянное присутствие на ремонтируемых объектах, по ходу нужно разрешать возникшие неувязки с запчастями, материалом, нехваткой людей. А так как все у нас привыкли делать с кувалды и лома, необходима изощренная инженерная импровизация: как поднять, как подсунуть, как вставить, да и еще мало ли чего. А главное, довериться практически некому нельзя, сварганят, что не так, отвечать опять же тебе. У нас народ какой, не ткнешь пальцем — сами не догадаются, боятся, как бы не переработать, извините, конечно, но жопу рвать на такой работе приходится только главному механику.
Конечно, есть вина в том и самого Ваньчка, распустил он людей, везде сам да сам, ну и мягкотел, разумеется, порой выпивает с мастерами и даже рабочими, что вообще недопустимо. Вот и сели ему на шею, сами ничего решать не хотят — оно так-то проще прожить без особых-то забот...
Эту систему за три дня не сломать. Поэтому мне палку перегибать никак нельзя, а то окажусь в цейтноте. Вот и пришлось вежливо упрашивать работяг, на приказной тон они насрали, могут послать куда подальше... Вот и носишься, как гончая, с высунутым языком, норовишь поспеть и туда, и сюда.
Признаюсь, я оказался таким беспомощным, что и рассказывать не хочется. Ну, не практик, не практик я!.. Даже то, что порой мои указания выполнялись совсем наоборот, возможно, и к лучшему, а то можно было бы таких дел натворить за весь год не расхлебаешь. Но все же работа ремонтного и энергетических цехов шла довольно бойко, ее рельсы давно откатаны и не крестясь суеверно, можно быть уверенным, завод бы не остановился.
Дела же непосредственно отдела меня интересовали в последнюю очередь, главное, чтобы все были на своих местах, а мужчины не запьянствовали. Я понял тогда, что в работе главного механика — отдел это вериги, мешающие ему целиком отдаться насущным нуждам производства. Собственно, пульс завода бьется в цехах, в отделах же и прочих конторах, пишутся всевозможные отчеты и планы, составляются от булды всякие графики и инструкции, мало где востребованные, а возможно, и ненужные. Короче, там попусту переводится бумага и просиживаются штаны. Вот почему все главные механики, случившиеся на моем веку, так мало времени уделяют нуждам своего отдела, живут вне интересов его коллектива, им просто некогда заниматься ерундой. И еще одно замечание, на инженерных должностях люди в отделах сидят годами, а вот главные механики и энергетики меняются как перчатки, то ли сгорают, то ли выдыхаются на такой чокнутой работе, а уж начальство, так оно всегда ими недовольно.
Итак, пока я судорожно балансировал над проблемами исправной работы заводской инфраструктуры и оборудования, уповая, увы, не на собственные способности, а больше на везение и неумолимо текущее время, которое все нивелирует и расставит по своим местам — отдел главного механика жил как обычно, даже вольготней, чем прежде. Меня они, разумеется, ни в грош не ставили, я для них свой...
Женщины перемалывали косточки ближним, мужики, сбившись в кучку, в наглую курили в пустовавшем кабинете начальника. Сознаюсь, порой у меня вспыхивала до конца неосознанная ненависть к ним, ко всему отделу. Я кручусь как белка в колесе, а они тем временем тупо балдеют, устраивают нескончаемые перекуры, до мозолей на языке обсуждают своих ближних. Хотелось нещадно обругать их, разгулять по полной программе, загрузить по уши работой, чтоб не пикнули, — но, поостыв, сознавал, что я один из них, ведь я только подмена отсутствующим механику и энергетику.
Я определенно нуждался в их помощи, хотелось хоть немного разделить с ними груз моей ответственности, но я знал, даже загорись они желанием пособить мне, все равно быстро бы остыли. Прячась за спины друг друга, они за глаза судачили бы, мол, тебе поручили, вот и выполняй, как знаешь.
Тараторкин, подобно прочим, считая меня не слишком суровым начальником, а точнее, и не признавая таковым, решил покамест отдохнуть. Вот наглец?! Он просто балдел... Одно отдал синить, другое — печатать, для конспирации собственного безделья рассыпал веером по столу папки-скоросшиватели, таким образом, деловая обстановочка получилась хоть куда — научился мимикрии у Пал Василича.
Но разве этим проведешь?! Сам я на такое горазд — наводить тень на плетень. Но всему есть свой предел. Если прочие сослуживцы хотя бы из-под палки исполняли вмененные обязанности, то парень ни хрена не делал. Пока остальные препирались по внутренним телефонам, сочиняли безликие сводки, пусть худо-бедно, но вели деловую переписку, да и тот же Дуб загодя исподтишка готовил, а может быть, переписывал со старого годовой отчет — Тараторкин же и не думал скрывать от коллег своего безделья. Меня просто заело, и что еще обидно, он стал подтрунивать надо мной, мол, не гожусь я в начальники, еще не дорос... Согласитесь, кого угодно так можно разъярить, вот и вырос у меня зуб на Антона.
Тут, словно по заказу, поспел приказ — выделить человека в сборочный цех на прорыв. У нас так часто случается, когда горит план «на сборке», набирают никчемушных итээровцев со всего завода и ставят на конвейер. Кого мне послать?! Само собой — добровольцев нема. Вот Тараторкин и пойдет, а куда ему деться?.. Такой подлости он от меня явно не ожидал...
Но я все же подстраховался, обставив дело не как мой самодурский произвол, а как естественный и справедливый выход из возникшей ситуации. Заглянув в курилку-кабинет, я поведал ребятам о приказе. У всех присутствующих сразу же вытянулось лицо, каждый затаился — лишь бы не его. И тут, всем на радость, я заявил:
— Видимо, Тараторкин, придется тебе в цех, твои тали потерпят, да больше и некого. — Я знал, что не прогадаю — кому охота вкалывать на сборке?
Достаточно ничтожного толчка, и намеченного кандидата тотчас, без проволочек «утвердят» в новом качестве. Лишь бы меньше дебатов, чреватых изменением начальственного решения — так, подстраховывая себя, думает каждый и прав по-своему...
Антон заверещал, якобы ему нельзя, мол, у него маленький ребенок, хворает жена, он попытался апеллировать к нашей человечности, но все словно набрали в рот воды. В таком деле редко найдется доброхот, кому охота вкалывать за халявщика на конвейере — вот и вся арифметика. Парень вопрошал о справедливости, но ему в ответ: «У всех малые дети — у всех жены больные». И уж чтобы окончательно парировать его недовольство, было единогласно заявлено, что все свое отработали в сборочном цеху, и теперь настал черед Тараторкина, пусть привыкает к несладкому итээровскому хлебу.
Я подтвердил, что все отдали свой долг родному заводу, пришла очередь Тараторкина. По нему было видно, что в ту минуту он возненавидел меня, как бы и любой на его месте, считая начальника палачом. Заискивать перед ним не собираюсь, но все-таки совесть моя не чиста. Делаю попытку пробудить в парне здравую оценку ситуации, малость преуспеваю... Антон перестает прилюдно возмущаться свалившейся на него несправедливости. Действительно, ну кого мне послать на чертову сборку — тот стар, тому в командировку, у этого срочный отчет... Что поделать, уж коли так вышло?! Не перехрянет же он в самом-то деле, если недельку-другую потрудится сборщиком, да и денежек побольше принесет домой, все подспорье семье, тем более жена болеет. Как ни крути — идти остается только ему, Тараторкину пришлось смириться.
Я понимал его, сам не раз был в такой шкуре. Работа на сборке — удовольствие ниже среднего. То, что там грязно и замазучено, еще куда не шло. В цеху стоит такой шум и свист от пневмоинструментов, словно ты в гостях у Соловья разбойника, сразу уши закладывает. Но самое страшное — темп работы конвейера, он неимоверно быстрый, выматывает до предела... Провались она пропадом — эта сборка!
Работа в сборочном цеху пришлась Тараторкину явно не в жилу. Вышел он во вторую смену, как ему работалось, не знаю, только на следующий день парень, как ни в чем ни бывало, сидел в отделе на прежнем месте.
— Ты почему не в цеху?! — все дрожало у меня внутри от негодования, так бы и смел дезертира в порошок...
— На конвейер я больше не пойду! — ответствовал Антон с самозабвенным пафосом борца за правду.
— Это почему?! — еле сдерживаю свой гнев.
— Я пять лет учился не затем, чтобы в мазутной смазке ковыряться (видимо, заправлял польстеры), я инженер! — с гонором отчеканил он. «Никудышный ты инженеришка!» — подмывало мне высказать ему в отместку, но сдержался.
— Не только ты один такой чистюля, все там были, чем они хуже тебя?.. — да разве его усовестишь...
— А я вот не хочу! Не желаю я! — уперся он. — Да и в КЗОТе нет такого положения, чтоб инженера без его согласия в чернорабочие запихивать...
— Сиди, черт с тобой... — сдался я. — Спросят, скажу — в отделе работать некому, сам замотался в конец. Сиди, так уж и быть! — и спиной ощутил благодарность во взгляде Тараторкина. Ну, что ним поделать? Да и прав он, тысячу раз прав, кто бы в этом только сомневался? Вот и звоню начальнику производства, мол, людей у меня нет. Тот артачится, пугает директором... Да пошел ты к чертовой бабушке! Тоже еще повадился — как прорыв, так на сборку инженеров посылать. И как только такого болвана только держат? Заводская номенклатура — тудыд его растудыт. Кем только не работал, чем только он не руководил. Был начальником ЖКО, заведовал заводским жильем, потом стал начальником стройцеха, потом был начальником отдела кадров, потом понизили до начальника АХО — ведал сторожами и уборщицами, устоял, подняли до начальника производственного отдела, бог даст, так и будет до пенсии по кругу ходить. Хотя как сказать — «производственный» стремный участок, можно и не удержаться на плаву, слететь с номенклатуры... Ну а касательно себя самого, директор с его подачи возьмет да и разгуляет меня по полной программе, скажет — не можешь управиться со своими подчиненными, так иди и сам поработай на сборке, а уж кем тебя заменить всегда найдем, у нас нет незаменимых.
Тараторкин прижухался, что-то упорно писал, не отрывая головы от бумаг, да и все присмирели, боялись грозы, но, слава богу, пронесло. Производственный отдел не стал стучать на энерго-механический, напасть прошла стороной. Тучи развеялись, и мало помалу наши работнички зашевелились и вскоре потянулись перекуривать в кабинет начальника, задымили, хоть топор вешай. Да и я тоже воспрянул духом, да и что сказать — все в этом мире преходяще. Совесть моя тоже приутихла. Антон, видимо, не обижался на меня, а возможно, просто не показывал виду, что по сути одно и тоже. Чтобы как-то сгладить имевшее место недоразумение, я поинтересовался уже не как начальник, а так, из простого интереса — каковы его успехи в грузоподъемных механизмах. Не знаю, он, видимо, воспринял мое любопытство за чистую монету, потому и ответствовал весьма обстоятельно и даже надоедливо. Грубо оборвать его я не мог, оставалось махнуть рукой — заливай, заливай, дорогой, — и с глупейшей миной на лице поддакивать отрешенно: «Да, да...». Кольнула унылая мысль — Тараторкин способен только на звон, навряд ли грузоподъемные средства обвели надежного защитника, польза, которую Волошин хотел получить от этой службы, на поверку окажется очередной липой, отдачи не жди. Но я не винил Антоху, да и что он может сделать, что требовать от пацана — пусть сидит, пишет всякую муру, все у дела. Мне что-то пишем, чертим, высчитываем какие-то проценты, совершенно забыв, ради чего мы все-таки нужны так ли уж нужны?.. Во всяком случае, наши заводские отделы отнюдь не штаб, они кунсткамеры устарелых схем, склады обленившихся умов.
Была, признаюсь, у меня подлая задумка — сделать Антона своим ординарцем, человеком для поручений, но скажу без сожаления, дальше фантазийных намерений это не пошло. Я щепетилен, мне казалось, что Антоха воспримет подобное предложение как форменное издевательство над его личностью, да и я постыжусь гонять человека как мальчика, использовать на посылках. Уж лучше сам схожу, зачем передоверять нерадивому исполнителю, запросто могущему взбрыкнуть, заартачится и тем самым подорвать мой престиж. Уж лучше не стану с ним связываться. Недавно посылал его на соседние заводы, он подчинился, но отправился с показной неохотой, был там бессовестно долго, наверняка просто скитался по городу. Выговаривать я ему не стал, он и так почуял мое недовольство. Собственно, если рассуждать по-человечески, то нет у меня морального права корить сверстника за отлучки, кто из нас не сачковал, все мы таковы — как волка не корми, он все в лес смотрит. Так и мы все по возможности отлыниваем от работы.
Я облегченно вздохнул, стоило Волошину вернуться с больничного — десять дней вам не шутка. Мне полагались отгулы, я, немедля воспользовался ими.
Отгуляв положенные четыре дня, высвобожденный от докучливых обязанностей главного механика, я теперь ходил на работу, что бы отдыхать душой и телом. Пожалуйста, не удивляйтесь, кто не понял меня, значит, тому определенно не повезло с трудоустройством. Компенсируя былую отчужденность от межличностной жизни отдела, я вернулся в естественное свое состояние, опять стал добрым малым, прежним Мишкой, я бы сказал бы — душой нашего коллектива.
Единственным человеком, оскорбившимся на мой прошлый деспотизм, мог быть только Антон, ему единственному я в чем-то насолил. Но он не высказал своего недовольства, а наоборот, уж слишком сочувственно (наряду со мной) возрадовался лишению меня начальнических прав. Моя же радость тому не совсем искренна, я сплю и вижу, как бы стать начальником, но в этом почему-то не принято сознаваться, вот я и лицемерно радуюсь, довольствуюсь уделом простого инженера. Какая тут, к черту, солидарность, на хрен она мне нужна, неужели мне и взаправду мил удел Акима-простоты. Единственно правдоподобное чувство с его стороны, так это — злорадство. Да ладно, так уж и быть, пожму ему руку, не заводить же пустопорожнего трепа.
Наши столы помещались рядом через узкий проход, стоило мне повернуться направо — я упирался в профиль Тараторкина. Когда бацилла всеобщего бездействия распространялась и на меня, я развертывал свой стул, облокотившись на столешницу, закинув ногу за ногу, начинал разглагольствовать. Теперь Антон стал моим визави, вместо прежней Ольги Семеновны. Конечно, она была неинтересный, даже тупой собеседник, малый же вполне соответствовал моим требованиям и моим запросам.
Весна неудержимо входила в силу, впрочем, точнее, вбегала, раскрасневшись — вот правильные слова. Уже середина апреля, на носу майские праздники, характерное замечание — ждешь не дождешься этих самых праздников, но вот они пришли, сверкнули и... и уже пролетели, как фанера над Парижем, то есть только что были — и уже нет их. Воистину, любой праздник наполнен всей полнотой счастья только накануне, когда ждешь его и млеешь от предвкушаемой предстоящей радости.
Как тут не сказать про Пасху Христову — этот «праздник из праздников и торжество из торжеств», как правило, предваряет когорту майских празднеств, настраивая вас на грядущее лето. Вот появилась салатово-нежная травка и липкие пахучие листочки на деревьях, да и солнышко наяривает что есть сил, вот он уже на пороге, мой любимый месяц май.
Как и везде заведено по стране, чуть пригрело солнышко, чуть пробились еще не задубевшие тропки и дорожная грязь превратилась в засохшую корку — начинаются весенние субботники. Вторая половина апреля — пора генеральной уборки территории. А так как за выходные дни мало что успеешь сделать, то пишутся приказы о выделении рабочей силы в распоряжение начальника АХО. Но это для проформы, тут командуют парторг и профорг, как никак — субботники-то изначально были ленинскими. И вот путем обмана, принуждений, вымученных обещаний набирается определенное количество и состав рабсилы, призванной мести, нести и выгребать остатки прошедшей зимы. По утрам у проходной собирается разношерстная толпа в поношенных одеждах из разных служб и отделов. Здесь инженеры и техники, лаборантки и копировальщицы, снабженцы и прочие прихлебатели-итээровцы. Конечно, их отсутствие у канцелярских столов вообще не отразится на делах основного производства, ну а вот худо-бедно порядок на заводской территории все же какой-никакой наведут. И это будет во благо всем.
Итак, приказы не обсуждаются, а выполняются. С энерго-механического отдела велено выделить и направили (стану считать по столам) копировальщиц Вику и Любу, техников-конструкторов Клаву и Свету, технолога Ольгу Семеновну, инженера конструктора второй категории Полуйко Валентина и инженера-конструктора третьей категории Тараторкина.
Больше всех стала возмущаться Ольга Семеновна. Опять та же старая музыка — так кем она все же числится: технологом или подсобной рабочей. А действительно, кем?! Весной — уборка территории и мытье закопченных за зиму окон. А началось лето — подшефный колхоз. Прополка, прочистка, окучивание, заготовка каких-то веточек. Осенью опять полевые работы. Помощь в уборке уродившегося благодаря трудам таких же бедолаг урожая. Наши шутят про подшефное хозяйство — колхоз «Двадцать лет без урожая(!)», вот и собирают нитратный картофель по грядкам, или таскают оковалки сахарной свеклы в бурты. Слава богу, зимой не стали выводить на расчистку железнодорожных путей от снега, бывало, даже школьников выводили, Видимо стало больше путевой техники у железнодорожников, а может, и снега стало выпадать меньше — и то, и то хорошо.
Итак, седьмым в списке был Антон, он уже прижился в нашем отделе, если и сетовали на его солидный оклад, то так, за глаза и то, что больше некому перемыть косточки. Ему предстоит убедиться в правиле: человечество испокон веков делится на черных и белых. «Белые» остались заседать в кабинетах, делать чистую работу (как тут не вспомнить Маяковского), «черные», а в их рядах инженер Тараторкин (без троек окончивший институт), должны вывозить грязь. «Черные» негодовали, «белые» не совсем искренне поддакивали им, в душе ликуя — хорошо, что не я. «Черные» грозились увольнением в знак протеста, «белые» точно знали — никто не уволится, по себе знали, им ведь так же приходилось быть в шкуре «черных», и в любой момент опять могут стать ими. В конце концов, у сегодняшних «черных» срабатывал здравый смысл, и они прекращали роптать.
И вот они плотной кучкой сбились на пятачке у проходной, уже не видно пасмурных лиц, то там, то тут прорывается задорней смех, все счастливы, все довольны, удрученных нет. И действительно, чем дышать с восьми утра до пяти вечера смрадом пропахших хлоркой комнатушек, лучше часика три поработать в охотку на свежем воздухе и с чистой совестью уйти пораньше домой на обед. Еще ни кто не перехрянул от таких трудов, живот от излишнего усердия на субботнике может сорвать разве лишь полный дурень, да и то, когда слишком обопьется. Оно так и есть, гляжу, а самые ретивые уже считают гривенники и полтинники, ссыпая их в широкую ладонь гонца. В такой день не грех выпить, ну кто еще наберется хамства посягнуть на «святое» в такой день, да боже упаси, а то еще пропадет трудовой энтузиазм.
Я, стараясь не попасться на глаза нашим работникам, этаким лазутчиком прошмыгнул через гомонящую толку и, приняв деловой вид, спешно направился в сторону заводоуправления. Но тут меня окликнули. «Черт возьми, кому это понадобился!» — подумал я. То был Тараторкин. Он, лодырь, не придумал ничего лучшего, как отпроситься у меня после обеда для решения каких-то там личных дел. Моя власть была жидковата, но не ронять же свой престиж, как можно равнодушнее подчеркивая несущественность его просьбы (все равно половина «субботничков» и так не придут), пробубнил:
— Да иди, чего уж там, все равно вы сейчас не в отделе работаете. Я, разумеется, знал, что за подобное лихое самоуправства мне может влететь он педантичного начальства, но уж как-нибудь вывернусь, принимая в расчет банальность ситуации.
Антон обрадовался, как малое дитя, благодарит, конечно, я не принял всерьез его сбивчивое объяснение, наверняка просто отлынивает, ну да бог с ним — мы что, не люди?
Существует множество типов сачков, все они воспринимаю трудовые обязанности как потенциальный источник добавочного свободного времени. Большинство из них просто бьет баклуши — тем и рады, прошел день и славненько, другая часть стремиться улизнуть не только от работы, но и с работы, вырваться за пределы предприятия. Эти лоботрясы скитаются в рабочее время по магазинам, посещают кинотеатры, пивбары, иные (есть и такие) даже музеи. Есть разряд «антисачков», это деятельные ребята, они обделывают свои делишки — гонят вторую зарплату: халтурят, фарцуют, как говорят на Западе, — делают свой маленький бизнес. К последним, не для кого не секрет, относится и Антоха, мне не пришлось долго раскусывать его, да он и не таился.
Вот и сейчас, к примеру, для чего малый отпрашивается? Определенно, ему нужно уладить какие-то дела, так и вертится, сказать — делишки, они уже загодя представляются мне грязненькими, неприятно судачить о них, так же противно, как рыться в чужом белье. Почему у меня такая неприязнь к Антону? Чем он навредил мне, что уж такое отмочил вопреки мне, да и особой подлости я за ним не замечал. Правда, он малость поторговывает, спекулирует каким-то шмотьем, опять же по слухам, сам я не заставал его за фарцовкой. Но это-то и отвращает в нем. Можно объяснить, можно понять, при желании даже оправдать, применительно к какой-нибудь неопрятной бабке-торговке, пребывающей в дремучем состоянии, живущей животными накопительскими инстинктами. Но почему молодой парень отдал себя в рабство базарному промыслу? Конечно же, не из-за невежества, да тем более он не голодает, неужели из-за любви к презренному металлу? Дурачок, он даже не стесняется своей шкурной страсти, наоборот, корчит из себя воинствующего торгаша, открыто презирающего всех, кто не умеет делать деньги, равно как и тех, кто не возводит из них (денег) кумира. Тараторкин полагает, будто это его делячество дает ему право на превосходство. Он зарвался — считает себя передовым современным молодым человеком. Этаким новоявленным русским бизнесменом.
Иные скажут мне, мол, нечего считать в чужом кармане. Глупцы, я пекусь и о вашем кармане, не будь всяких перекупщиков и прочих махинаторов, ваши деньги были бы целей. Ах да, я упустил такой фактор, как мода. Ну тогда, конечно, без контрабандного товара нам никак не обойтись, вот оттуда она — современная фарца-офени.
Как-то Антон заметил, что живи мы в «нэповские» времена, он бы при своем даровании ворочал бы большими делами. И это совсем не бахвальство, он искренне уверен в своем призвании. Я только добавлю от себя — он но три шкуры будет драть с дураков — вот его настоящее призвание.
Он как-то обмолвился, считая для себя плюсом, что его прадед по матери был известным в городе купцом, якобы держал оптовую торговлю рожью. В его откровении, а может и лелеемой брехне сквозило сожаление тому нереализованному для него прошлому. Прошли десятки лет, остались некие семейные предания, возможно, излишне преувеличенные, даже мифологизированные, а человек ощущает себя обделенным, обкраденным, по чьему-то жестокому произволу лишенным права быть хозяйчиком, собственником, капиталистом, наконец... Я не собираюсь с позиций классовой неприязни к живоглотам бить ему морду, да верно он заливает по дурости, однако, странная идея поработила его разум, да и не его одного.
Недаром невольный свидетель того разговора, инженер Валентин Полуйко, кривя в насмешке вольтеровские губы, уловив мое внутренне негодование, осуждающе заметил по уходу Тараторкина:
— Мне жаль этого болтуна, нашел чем кичиться, «лавошники» всегда были презираемым народцем, как можно умиляться бородатым мурлом, набивающим свою мошну и свое пузо?.. Любому порядочному человеку должна претить слава и успехи торгаша, ибо эти достигается через хитрость и надувательство людей. Уж коли Антон возносит всяческих купчишек, сочувственно относится к ним, то, видать, он известный фрукт.
Ну и что мне добавить на слова Полуйко? Разночинно-интеллигентные предки Валентина, возможно, презирали купечество, мои же попросту ишачили на это сословие, выращивая в полях эту самую рожь.
Навредил ли Тараторкин себе своим рассказом? Нет — его не стали отвергать, с ним не прекратили здороваться за руку, хотя понимали — он какой-то не свой человек, у него несколько другая цель и место в жизни, не скромная, не советская цель, а желание, нет, прямо жажда — нахапать, урвать нахрапом, захапать. Однако в отделе появился нездоровый кляузный интерес к его личности.
Тон задавали наши женщины — их кумир, хозяйственный мужчина, несущий, а еще лучше, волокущий все в дом, они готовы закрыть глаза на скользкие методы и способы добычи подобного несуна. К примеру, копировальщица Вика была не прочь вдруг очутиться женой какого-нибудь купчины первой гильдии. Мужа у нее пока не было, и вот перезрелая мымра принялась ставить нам, мужикам, в пример Тараторкина, якобы человек умеет жить, он серьезный и непьющий, именно таким должен быть образцовый муж. Да уж, коль речь зашла о семье, о деловых качествах супругов, точнее, мужей — тут женщин не переспоришь. Когда у них исчерпываются аргументы, вопреки законам логики и дискуссии, они, наплевав на ваше самолюбие, злонамеренно изничтожают вас самих. Они позорят вас за небольшую зарплату, за неумение пресмыкаться перед сильными мира сего, даже за вашу непрезентабельную внешность, в общем, вы превращаетесь в никчемного и слабовольного пигмея. По их мнению, вы настолько ничтожны и захудалы — и это уже совсем необратимо, так что на вас смело можно поставить жирный крест. Но самое обидное то, что вы осознаете их правоту, поэтому бессильно злитесь на них, а потом и на себя от полной безысходности. Действительно, не смотря на ваш ум и образованность, другие откровенные дураки обогнали вас во всем, а вы прозябаете и терпите лишения. Да уж, какой тут спор-диспут, коли вас считают полудурком, хотя вы совсем не такой. Вам хочется обложить свою оппонентку стопудовым ямбом, сказать ей — кто она есть на самом деле, но в конце концов вы говорите себе: «Стоп, нечего с дурой спорить».
Итак, интерес женской половины отдела к Антону не ослабевал. Пустили слух, что он неимоверно богат, впрочем, и без слухов в том мало уже кто сомневался. Импортные шмотки, всякие там батники и ветровки, зажигалки и авторучки, испещренные заграничными клеймами — вся эта показная мишура являлась атрибутикой личности Тараторкина. Что заставляло гадать об источнике его платежеспособности не только женщин, посплетничать любят и мужчины. Антон невзначай, а возможно и намеренно, подогревал ходившие о нем домыслы. Как бы вскользь вбрасывал в разговоре комментарий о каждой новой вещице: «Кожаный кемель стоит девяносто «ре», темные очки — семьдесят целковых, джинсы двести двадцать». Даже его хобби являло западный образец — он коллекционировал древесные породы. Это же надо, до чего с жиру можно додуматься?! Антон как-то принес два полированные ящичка, в гнездах которых помещались полированные деревянные брусочки. Он снисходительно пояснил нашим (те слушали, разинув рты): «Вот, мол, ливанский кедр, вот баобаб, вот эбеновое дерево, вот палисандр...» — сплошная экзотика! Теперь в отделе его воспринимали не иначе как Ротшильда — ему же льстило подобное отношение к собственной персоне.
Кроме всего, Тараторкин любил разглагольствовать об успешной жизни каких-то там своих столичных приятелей, часто выезжающих за границу, перенявших тамошние повадки, этакие лорды с Тропарева. Парень хотел внушить нам, коли у него такие друзья, то мы в сравнении с ним людишки второго сорта. Ну а наше дурачье давало повод тому — сетовали на провинциальную серость и убогость, короче, откровенно завидовали. Больше остальных уничижался инженер Рыбкин. Борис Николаевич, разумеется, не едал в столичных ресторациях, да и вообще на белой скатерти, тем паче его не могли пригласить даже в квартиры местного бомонда. До Тараторкина «Рыбу» никто не угощал дорогими импортными сигаретами, рассказы Антона бередили сиротскую фантазию горе-инженера, он внимал им, словно ребенок волшебным сказкам. Рыбкин, конечно, знал, что есть другой мир с горничными и лимузинами, но это было так далеко. И вдруг здесь рядом оказался представитель того заоблачного мира, его провокационные побасенки кислотой разъедают угнетенный борматухой мозг, заставляют поражаться счастью других и, вместе с тем, клясть свою такую никчемную жизнь. Тараторкин же относился к Рыбкину по-барски снисходительно, а тот и не подозревал, что им надменно помыкают, смеются, принимал свое неравенство как должное — он врос в сознание собственной ничтожности.
Да что там — Рыбкин, мы все были угнетены чувством своей пришибленной ограниченности, даже скептик Полуйко, и тот приуныл. Поначалу отступив в сторонку, отгородившись барьером своего едкого ума, он в итоге все же не стерпел. Валентина заело, что какой-то пацан больше его повидал и вкусил от жизни. Он, (Полуйко) в полной мере испытал и взлеты, и падения. В пику Тараторкину Валентин принялся также загибать о былых днях, как когда-то он обретался в Прибалтике. Инженер расписывал ухоженные особняки с бронзовыми поручнями на полированных дверях, уютные дворики с бассейнами, увитые плющом старые каменные стены. Полуйко старался уверить, что и его с уважением принимали в этих апартаментах, и он пил коллекционное вино из темных фарфоровых бутылочек, заедая фуагра и прочими деликатесами. Да и манеры буржуазных прибалтов ни в коей мере не сопоставимы с тараторкинскими барышниками, те и в подметки им не годятся. Казалось, Полуйко заткнул Антоху за пояс, ан нет — у Валентина было в прошлом, у Антона же настоящее. Постепенно Полуйко стал выдыхаться, пошел по второму кругу. Ну а потом стал все меньше и меньше поминать свою Прибалтику, а стал, как и остальные, больше сетовать на судьбу и горестно философствовать. Он называл Тараторкина везунчиком, развивая свои мысли, делал вывод, что удача отнюдь не итог добродетели и человеческих достоинств, а скорее результат противоположных им качеств. Валентин твердил обреченно:
— Наглецам везет, для проходимцев жизнь малина, шаромыгам валом валит счастье... Только умным, честным, но уставшим от извечной несправедливости людям уже не повезет никогда.
Он, собственно, не хаял Тараторкина, но весь кичливый вид шустрого малого вызывал у бывалого инженера едкую и настороженную улыбку. Да, мир не справедлив, он повернулся спиной к Полуйко, ну и пусть, не конец же жизни, в самом-то деле. Мне, — говаривал Валентин, — все равно бывает тепло, и я еще подумаю, стоит ли тот мираж, живописуемый Тараторкиным, простых радостей жизни, предначертанных мне. Да уж — Полуйко оригинал?!.
Однако Антон совершал большую ошибку, выпендриваясь перед скромными итээровцами. Кому, скажите на милость, понравится, что тебя приравнивают к быдлу, пусть прямо не говорят о том, но по сути подразумевают такое отношение. Вот наши сидельцы в отместку гонору Антона стали еще больше злорадствовать его промахам и неизбежным в этих случаях нареканиям на него начальства. А уж за глаза обзывали Тараторкина злее прежнего: делец, деляга, деятель, ну и прочие производные в том смысле. Но стоило парню засветиться на горизонте, злопыхатели принимали самые невинный вид, вот вам и пример неизжитых лакейских повадок...
Глава 6
Право, отчего я сам-то так взъелся на Антона, чем он так раздосадовал меня, почему у меня выработалась такая антипатия к нему? Ну не на больной же мозоль он мне наступил — держит себя ровно, не выпячивает наше давнее знакомство, не подкалывает мне, не подтрунивает над моими ошибками и упущениями. Другие, в отличие от него, так и норовят съехидничать: то мои ботинки не начищены, то рубашка старомодна, то я слишком заспан... некоторые даже ухитряются влезать в мои семейные дела. Чего я больше всего ненавижу в людях, это когда кто-то начинает корчить из себя занудного умника, позволяет прилюдно высказывать собственные суждения относительно дел, касающихся только меня одного, причем делает это завуалировано. Якобы в намерении помочь мне советом или иной конструктивной поддержкой, так что и обижаться на него грех. На самом же деле тем человеком овладевает подленькое эгоистичное стремление ущипнуть, уколоть, сделать больно, совершить это не открыто и явно, ибо чревато нехорошими последствиями, а как бы по дружбе, оказывая добросердечную услугу. Тем самым он получает право довольствоваться собой, своей головкой. Иные, пользуясь моей деликатностью, откровенно хамят, зная мою незлобивость, считая меня отходчивым малым, чуть ли не нюней, — беззастенчиво портят мне кровь, но я терпеливо сношу их внешне безобидные наскоки, дай я им укорот, они, пожалуй, станут еще изворотливей. Окружающие ротозеи всегда на их стороне, таков закон природы — над шпилькой, отпущенной в адрес любого, хоть как-то стоящего над толпой, принято коллективно смеяться и поощрять остроумца. Уж и не знаю, как быть, любить или ненавидеть доморощенных остряков, даже и не трогающих меня лично? Пусть для кого-то их юмор скрашивает мерзость бытия, а смех — лечебное средство. Ну и ладно, но в тоже время пускай они не считают себя пупом вселенной.
Касательно Тараторкина замечу, он не был из породы тех нахалов, от кого не знаешь, чего ожидать в любое мгновение. Я, положа руку на сердце, в общем-то спокоен за него. Явную бестактность, насмешку, двусмысленное пренебрежение ко мне Антон не вынесет на всеобщее обозрение. Он, как мне кажется, вовсе равнодушен к моим личным делам и секретам, он не выспрашивает, не вынюхивает, он не сплетничает об окружающих. Парень хорош тем, что не лезет с ногами в чужую душу, не делает лицемерно сострадательных мин. Возможно, это и отдает неким равнодушием к ближним, но, во всяком случае, оно лучше показного участия. Тебя не обгадят при случае, выставив с дурной стороны при самых щекотливых обстоятельствах.
Пожалуй, единственное, что отвращало в Тараторкине, так это его неприкрытое стремление — делать из себя персону. Он мнил себя значительной личностью, собственно, никто не лишен такой возможности, нельзя упрекать человека за то, что он считает себя неординарным, выделяющимся из общей среды, видит себя человеком с большой буквы. Но у Антона таковое выпячивание получалось слишком выспренним, подобно красной тряпке для быка действовало на окружающих.
Честно сказать, не знаю, может, так и нужно, обособленно и высокомерно держать себя по жизни, иначе отодвинут в сторону, потеснят на обочину, загородят горизонт тупыми затылками. Но я так не умею, мне не дано идти против течения, вот почему так предвзято отношусь к Антону.
Да и что я в самом деле прицепился к парню, своему ровеснику? У нас с ним вполне приятельские отношения, правда, в их основе лежит своеобразная дурацкая конкуренция, типа — кто умней и эрудированнее, лучше, так сказать, презентабельней, наконец.
Наше интеллектуальное соперничество началось с того, что мы пытались огорошить «соперника» собственными познаниями в, скажем так, престижных для определенного рода книгочеев отраслях наук. Мы явно не были вундеркиндами, но с видом заправских знатоков рассуждали об умопомрачительных теориях и завиральных гипотезах, будораживших в то время умы почитателей телепередачи «Очевидное и невероятное». Причем наши выспренние рассуждения были рассчитана на стороннего зрителя, далекого от круга идей популяризаторов науки. В чем-то обличить нас они не могли, а мы то и рады... Сами додумывали леденящие разум факты, делали обескураживающие выводы, порой столь смелые, что попросту не хватало слов и приходилось манипулировать руками и попавшими под руку предметами, дабы объяснить свои умозаключения. Точнее сказать, интерпретацию когда-то услышанного краем уха. Помню наши экскурсы в область космогонии... Нечего греха таить, очень соблазнительно шокировать наивных малосведущих коллег, подвергнуть их архаичные представления, почерпнутые в стенах школы, полнейшему отрицанию и даже высмеиванию. Несомненно, современная теоретическая физика вкупе с астрофизикой дает широкие возможности тому. Действительно, ну что сможет противопоставить выпускник техникума или заочного сельхозвуза двадцатилетней давности таким высоколобым понятиям, как возраст и масса вселенной, реликтовое излучение, постоянная Хаббла, да еще со ссылкой на нобелевских авторитетов — ничего! Остается, только разинув рот, внимать всей этой хрени, а уж верить или не верить, как говорится, — вопрос вашей совести.
И даже было очень забавно слушать ропот консервативной части публики или, наоборот, радость радикальных ее элементов, склонных злорадствовать над косностью советских учебников философии и прочих марксистских наук, превозносящих достижения науки пятисотлетней давности. На этом еретическом поприще мы с Антоном пожинали настоящие лавры, засерая, попросту сказать, мозги своим коллегам-простецам.
Вот, к примеру, фотометрический парадокс:
Коль мир существует вечно, коль вселенная бесконечна во времени и пространстве, а значит, количество звезд в мире неисчислимо, то свет от них, во всяком бы случае от огромнейшего их большинства, уже дошел бы того участка всемирного пространства, где разместилась солнечная система и, соответственно, наша Земля. А так как звезд бесконечно много, то окружающий нас небосвод был бы сплошь утыкан звездами и представлял бы собой сплошное раскаленное солнце. Будь вселенная вечна, свет дошел бы отовсюду — однако такого в природе нет, значит, мир не бесконечен, то есть имеет начало и некие границы.
Вот и как теперь малосведущий человек станет аргументировать свои позиции защитника бесконечной во времени и пространстве вселенной? Да никак, уйдет посрамленный. Вот так мы из личной гордыни оболванивали людей, игнорируя научные «за» и «контра» этого самого парадокса.
Или взять набившую оскомину пустыню Наска — перуанскую тайну. Бескрайние каменные плато, расчерченные огромными схематическими изображениями фауны тех мест... На первый взгляд напрашивается единственный вывод — конечно, это дело рук инопланетян. — Ан нет! Мы с Антоном были сторонники версии исключительности жизни только на одной лишь Земле (сегодня сам не знаю, почему я так считал). Рассуждая по-нашему, выходило, что это следы исчезнувших, образно выражаясь, еще допотопных земных цивилизаций, откуда пошли и нержавеющая колонна в Индии, и прочие, не вяжущиеся со временем своего открытия или внедрения странные предметы и изображения.
Слушая нас — сотрудники отдела обалдело качали головами: «Это же надо, какие эрудированные ребята?»
Ну а мы с Антоном продолжали заливать, спорили между собой, но как-то странно счет в наших дискуссиях был ничейный, выходит — мы подсознательно отыскивали компромисс, дабы не пошатнулась наша монополия «с высокой колокольни просвещать невежественных коллег». Вы спросите, в чем же тогда выражалось наше соперничество? А в пустопорожней болтовне, кто больше натреплет, тот на сегодняшний день и умней, и тот сегодня сорвет больше аплодисментов, больше восхищенных взоров от благодарных слушателей. Театр, одним словом?! Да, мы играли на зрителя, хотя предполагали в нем и «судию» — истинное ребячество и мальчишеская гордыня.
Стоило нам приняться за свои пафосные россказни, превратившиеся в интеллектуальные спектакли, стоило проснуться в нас артистизму кокетствующих эрудитов — мы на глазах преображались, оживали, действительно становились умней и привлекательней, наконец, мы испытывали удовлетворение собой, своим неординарным Я. Но в тоже время мы с Антоном проникались взаимной расположенностью, мы сближались с ним, делаясь родственными душами.
Случалось, но реже, нам приходилось публично дискутировать «за жизнь», то есть обсуждать реальные животрепещущие проблемы. Отъявленное критиканство — вот сущностный фон этих, так сказать, диспутов. Он недоволен, я недоволен — людей медом не корми, дай только позлословить, потрепаться о недостатках, поругать власть имущих... Да что тут говорить — испокон века русский человек критик существующего режима, его кредо в отношении к начальству и власти — я бы поступил не так...
Однако, чуть закончен рабочий день, только за проходную — наши интеллектуальные флюиды улетучивались. Антону в свою сторону, мне в свою. Я даже и не интересовался, куда он направляет свои стопы, каковы его планы на вечер, да и вообще, как он живет-поживает, каковы обстоятельства его семейной жизни. Мне почему-то было все равно, одним словом — до фени... Но как-то само-собой прояснилось, что у Антона не все благополучно с жильем — комната в коммуналке, оказалось, что у него дочка ясельного возраста, жена же работает учительницей, ее я так ни разу и не видел. На какой улице живет Тараторкин, а уж тем более в каком доме — не ведаю. Да и зачем мне это? В гости меня не приглашали, как и я, собственно, разыскивать его мне не придется — не та фигура, но главное то, что дружбы или ее близкого подобия между нами так и не возникло.
Вот таки отношения сложились у нас с Тараторкиным к концу месяца его работы в нашем отделе.
Сейчас он отпрашивается у меня, ясное дело, хитрец уверен — я не откажу.
Иди, иди, Тараторкин, по своим делам, я тебя отпускаю, хотя и не имею на то полного права. Но, так уж и быть, хотя бы в этом утру тебе нос, у тебя гонор, водятся лишние денежки, а у меня — наличествует власть, пусть ничтожный ее коготок, но и этим шипом я могу больно царапнуть, изрядно потрепать нервы. Иди, Тараторкин, по своим делам, возможно, ты принесешь кому-нибудь толику счастья, продав шершавые джинсы, а то тому человеку без них и жизнь не мила, а ты подаришь горемыке способность возрадоваться краскам мира. Себе же заработаешь комиссионные — хрусткие карбованцы. Наверняка ты переоцениваешь их всесилие, считаешь, что они полновластны над всем и над всеми в подлунном мире? Нет — они властвуют лишь над такими, как ты, почитающими их за кумира. Ну, подмажешь ты продавщице в столичном универмаге, ну, улестишь шоколадкой чью-то секретаршу, ну, начальник отдела кадров возьмет на лапу, — ну, возможно, и станут они петь под твою дудку. Коли повезет — соблазнишь еще несколько нужных тебе людишек, ну а коли что, то они и тебя сдадут, продадут за понюх табака... кто ты им?!
Иди, иди — поторговывай, Тараторкин, разумеется, при теперешних либеральных нравах в том нет ничего плохого и отвратного. Вон весь рынок кишит торговцами, здесь и кавказцы, и молдаване, и прочие усатые смугляки — тараканы, так их у нас зовут. Это все, наверняка, уважаемые люди, прав Аркадий Райкин, помните его монолог в салоне самолета про особенности нашей национальной торговли.
«Иди, Тараторкин... — напутствую парня мысленно. — Хрен с тобой...»
Он ушел. Хорошо бы принес завтра какую-нибудь завалящую справку, все меньше придется моргать за него.
Однако пришла пора дать укорот донельзя развившемуся во мне честолюбию. В конце апреля возвратился из отпуска (разумеется, побыв недельку на больничном) мой прямой начальник — Александр Сергеевич Рогожин. Наконец-то вышел, слава богу!
Его все заждались, а больше всех, наверное, я. Если совсем честно, то седеть в начальниках мне еще рановато, а может статься — уже и поздно. Конечно, мне нравится командовать, рисоваться при этом, почитая себя за кого-то большего, но ведь нужно прежде всего работать как вол, нужна реальная отдача от твоих дел, нужна просто польза... Так и быть — возвращаю не вполне реализованные полномочия законному их хозяину.
Рогожин заойкал, запричитал, как Рязанская баба. Ну как же, я ведь не выполнил его основное поручение — не вывез оборудование для котельной. А попробуй, вывези?! Нет машины, да и ехать некому, разве лишь самому, — говорю энергетику, что Волошин болел (вот, кстати, пришлась отговорка), оставался вместо него, работал и за механика, и за энергетика — понимать надо, замотался в отделку, какое тут оборудование, подождет...
Ну и славненько. Наоборот, скорее это мне самому следовало корить Сергеевича за неблагодарность. За этот месяц в адрес нашего хозяйства не было существенных нареканий, конечно, то не меня одного заслуга — но все же... и это надо понимать.
Кто такой Дмитрий Сергеевич Рогожин — лиса, скользкий налим, одним словом, хитрющий, изворотливый мужик. Я бы сказал так — малый весьма способный и приспособленный, добавлю еще кроме того и подловатый. За ним не задержится, походя очернить любого человека, выставить того безграмотным неучем, алкоголиком, вообще полудурком. Таким образом, он может подгадить в присутствии начальства или добрых знакомых того человека, попросту говоря, ему нравилось топить людей ни за хрен собачий, просто так, из-за мерзкой своей натуры. А каково невинно обгаженному человеку, пойди, потом отмойся от дурацких наветов?.. Застигнутый же обличаемым врасплох за этим неприглядным делом, наш налим тут же извернется, переведет казус в дружелюбный прикол, панибратски потреплет по плечу, мол, не бери в голову, дружище, — это шутка, и обескураженному очевидцу собственного унижения остается лишь недоуменно развести руками.
А вот как технический специалист Рогожин знал свое дело достаточно хорошо, да и деловая хватка наличествовала в полном объеме. Ко всему прочему он был полезен начальству обширными знакомствами с нужными людьми. Ну там: раздобыть путевку в «закрытый» санаторий, устроить нерадивого отпрыска в английскую школу, вне очереди поставить золотую коронку, достать упаковку баночек консервированной клюквы или черноплодной рябины — связи Дмитрия Сергеевича были универсальны и на все вкусы. Не берусь судить почему, но новое руководство завода весьма отличало Рогожина в неофициальном ранжире: ставило выше Ваньчка, избирало в профкомы, сажало в президиумы на собраниях. И вот такого вот зубра мне пришлось подменять целый месяц с лишком.
Но вот этот деятельный монстр опять оказался у руля, и на меня, как из рога изобилия, посыпались его дурацкие поручения — одно другого плоше. Сознаюсь — грешен, я числился при главном энергетике (он же заместитель начальника энерго-механического отдела) господине Рогожине самым обыкновенным порученцем. Я и Тараторкина хотел приспособить по своему образу и подобию, но только для себя самого, любимого.
Коротко мои обязанности сводились к следующим пунктам. Узнай, пробей, оформи, выпиши — это по снабженческой части. Рассчитай, проверь расчеты у других, сдери у соседей (в других заводах) — это по инженерной. Подежурь вместо меня (Рогожина) оперативным по заводу — это по его шкурной части. И еще самое забавное — мне вменялось сопровождать Рогожина в качестве адъютанта при его визитах на головной завод или совещания в администрацию города. Слава богу, хоть возил меня на своей машине. Вообще-то меня удовлетворяло подобное положение, практически никакой ответственности я не нес, но в иерархии отдела я занимал третье место и был уверен, что рано или поздно стану главным энергетиком, а то сразу и главным механиком.
Меня возмущала явная несправедливость в зарплатах Рогожина и Тараторкина, как порой не вреден Сергеич, но ему все же достается на орехи, он крутится и вертится как белка в колесе — Антон же просто отсиживает свою явно завышенную зарплату. На язвительные замечания наших конторских, старавшихся попутно охаять Тараторкина и уязвить самолюбие Рогожина, тот посмеивался: «Пути господни неисповедимы, дальше спрячешь — ближе возьмешь...»
Не удержался и я, как-то мы с Рогожиным отправились на его «Жигулях» в одну контору. Замечу, между прочим, водитель из Сергеевича хреновый, он сидит за рулем, будто за пулеметом: руки напряжены, спина окаменевшая, глаза вытаращены — едет он тихо-тихо, притормаживая у каждой выбоинки на асфальте, но это не спасает — то к дело у него отлетает труба глушителя. Раз мы всадились даже в люк канализационного коллектора, слава богу, машина выдержала, не переломилась пополам. Ну да ладно, провернув в конторе свои дела, отправляемся восвояси, Рогожин благодушествует, как бы невзначай я угощаю его подслащенной горькой пилюлей:
— Где же справедливость, вы заместитель начальника, у вас такая ответственность, а Тараторкину дали зарплату больше вашего?
— Ничего, вскоре все встанет на свои места, Борман обещал мне прибавку, — уверенным тоном заявил Рогожин и рассказал про сценку, имевшую недавно место в кабинете директора завода.
Там Рогожин, не стерпев, конкретно ни к кому не обращаясь, прямо спросил: «Так, кто же это протащил Антона на завод». Директор интригующе засмеялся и кивнул на главного инженера, мол, твоя креатура, главный. Тот, открещиваясь, отмахнулся обеими руками: «Боже, упаси, только не он». Вот так шутейная сценка: взяли разгильдяя себе на шею, а кто сподобил — не признаются?! Рогожин, покумекав на досуге, решил, что Тараторкин все же протеже главного инженера. Тут-то я и рассказал ему, при каких обстоятельствах устраивался к нам Антон, кем было подписано его заявление с пометкой о переводе. Вывод следовал один — покровительствовал парню сам Борман. Однако мои доводы не убедили Рогожина, он не мог поверить или умышленно сделал вид (из раболепной корпоративной солидарности), что не верит мне. Я намеренно не поддался ему и уперся, мне хотелось внести хоть каплю диссонанса в предано-вассальные чувства энергетика к директору. Сергеич еще тот хамелеон, он тут же прогнулся, показывая своим тоном, что если я и прав, то он не осуждает директора, якобы начальству видней. Однако я ощутил с удовольствием, что в душе Рогожина клокотала обида на Бормана. Пусть, пусть его позлится подхалимская душа, а то как что — так Василий Гордеич, Василий Гордеевич — он, ух ты, какая голова!
Как-то уж так сложилось — Тараторкин числился по «ведомству» Рогожина, начальник отдела Волошин махнул на парня рукой, эпопея с талями давно миновала свой пик, сошла на нет или, образно выражаясь, завязла в сонном болоте. Более того, с появлением Александра Сергеевича Ваньчек поблек, частенько стал заглядывать на донышко поллитровки, надолго стал прятаться от глаз людских, пока вовсе не потерялся из нашего вида.
Мы прекрасно понимали, что между нашими руководителями идет давняя борьба на выживание, не трудно догадаться, кем и зачем инициированная — Рогожин открыто рвался на место начальника отдела. Волошин по сиротски в нашем узком кругу негодовал на козни своего зама, давая нам понять, что для него лично эта должность фигня, он за нее вовсе не держится, но тут — дело принципа. Мы благопристойно не рушили его иллюзий, поддакивали насколько можно, хотя в конечном исходе их противостояния не сомневались.
Так вот, Волошин панибратски «жалился» нам, что Рогожин закладывает про него начальству:
— Ты думаешь, я боюсь главного инженера — нисколько, а директора — ни грамма. Не при таких боссах работал, были... не им чета, только никто мне обидного слова не сказал. А этот гаденыш капает на меня каждый день. Я ему прямо в глаза при главном инженере высказал: «Не рой другим яму, сам в нее попадешь!» Ты знаешь, он затрепетал, покраснел, как красна девица, запричитал: мол, да ты что, да ты... Это разве я себе позволю. Дать бы ему в харю позорную, да черт с ним, была мне еще радость — с Иудой связываться. Пусть, коли так желает, покрутится в главных механиках. Он думает — тут мед растворимый... узнает кузькину мать, — и всякий раз раздраженно сплевывал на пол, добавляя в адрес Рогожина. — Вот гаденыш!..
Пожалуй, закрою тему о Владимире Ивановиче Волошине, как мне не жалко его. Действительно, через месяц Волошина уже не будет на заводе, он уволится, поняв, что надеяться ему больше не на кого, а всякая отсрочка лишь уменьшает его котировки в, так сказать, технической номенклатуре нашего небольшого города. Уволится он не явно и открыто, а исчезнет из завода тихой сапой, поначалу пойдет в отпуск... и больше в отделе не покажется. Мы у себя не раз поминали Владимира Ивановича добрым словом, легко при нем было работать, хороший мужик, таких еще поискать...
Рогожин — сангвиник, для тех, кто забыл значение термина или путается в типах характеров, напомню, что в латинском оригинале это слово звучало как «кровь и жизненная сила». Ну а по-нашему — человек, отличающийся живостью, быстрой возбудимостью, ярким внешним выражением чувств. У Рогожина, в отсутствии Ваньчка, все горело в руках, он день-деньской носился по цехам, куда-то звонил, из кабинета кричал в форточку какие-то распоряжения мастерам, собирал оперативки, пачками рассылал гонцов и толкачей. Энтузиазма ему было не занимать! Замечу, к слову, что Рогожин видел в работниках отдела, прежде всего — снабженцев, мальчиков на побегушках, с такой же меркой он решил подойти и к Антону.
— Тараторкин! — громко зовет новый шеф, приоткрыв дверь кабинета. Антон послушно является на зов Рогожина, минуту спустя выходит, раздраженно брюзжа:
— Нашел курьера, что я ему секретутка какая! Разыщи, — говорит, — какого-то мастера ремонтного цеха, ну и заявочки, скажу я вам...
Но делать нечего, и разобиженный Антоха отправляется на поиски затюканного мастера из простых рабочих. Но это так просто не сходит ему с рук.
— Ишь, гордец какой, выискался, — ехидно подает голос инженер Ольга Семеновна, — не перехрянет, молодой еще, не хватало чтобы нас — стариков гоняли.
Да уж, вы, Ольга Семеновна, в чем-то правы, а в чем-то и не совсем... Тараторкин вообще-то дипломированный инженер, а не сыщик, и его не учили в институте методам дедуктивного розыска, откуда ему знать — где некий мастер Гаврилыч изволит сейчас выпивать. Упаси меня бог ругать Гаврилычей, ставших мастерами благодаря собственной смекалки и трудолюбию, на них держится вся инфраструктура завода, пусть мужики выпивают себе на здоровье, главное, чтобы исправно ходили на работу. Нам других таких тружеников не сыскать?! Дореволюционной, скажу я вам, люди закалки, настоящий питерский пролетариат, из таких выходили в гражданскую комиссары, преданные до беспамятства делу революции. Так вот, эти Гаврилычи, как «Отче наш» знают, где зарыта любая труба теплосети завода, где установлена (еще до войны) задвижка с запавшими «яйцами», где десять лет назад установили «временный хомут» и оставили его навечно. Без них теперь никому никак не разобраться, поэтому мораль одна — беречь надо как зеницу ока такие кадры.
Вернулся Тараторкин — разумеется, без мастера, не смог отыскать старика. Рогожин, морща лицо, будто страдая от зубной боли, велел парню продолжить поиски, причем выговорил таким безапелляционным и уничижительным тоном, словно Антон «тварь ничтожная» (говоря по Достоевскому). Павел Васильевич хихикнул в своем углу: мол, вот досталось на орехи, технолог Ольга Семеновна довольная, рьяно закрутила ручку арифмометра, да и остальные ощутили себя гораздо самодостаточней. Знаю по себе, когда твой ближний попадает впросак, испытываешь подленькое удовлетворение, типа — хорошо, что досталось не мне. Второй волной катит осознание — я умней, я способней, я бы сделал как нужно. И уж потом подступает третье чувство, уже совсем абсурдное и каннибальское — так ему и надо, так и надо, будет знать... А, что про что будет он знать?! Видимо, все мелкие обиды, все царапины, полученные когда-то от этого человека, вместились в это злобное подсознательное — будет знать...
Но Антон не струсил командного тона Рогожина, уперся как бык в новые ворота:
— Не пойду я больше искать всякую пьянь по заводу, я вам не курьер.
— А кто же ты есть?.. — Деланно ехидно удивился Рогожин.
— Я в ищейки не нанимался! — твердо отчеканил Антон, хлопнул дверью кабинета и возвратился на свое место.
Все трусливо приумолкли или сделали вид, что не слышали словопрений начальника и подчиненного. Так что Тараторкину не к кому было апеллировать за справедливым сочувствием, посидев минут две в воцарившейся тишине, он, стукнув стулом об пол, высоко подняв буйну голову, победно покинул рабочую комнату, проходя мимо начальнической двери, он намеренно громко пробормотал неразборчивое ругательство. Рогожин никак не ожидал подобного оборота дел, он даже не смог чем-нибудь парировать парню, а ведь Сергеевичу палец в рот не клади.
— Вот ведь наглец! — с такими словами Рогожин вслед за уходом Тараторкина появился из своего закутка. — Нет, работать он здесь больше не будет! Я не позволю, не на такого нарвался... мне такие артисты тут не нужны. Вот ведь упертая образина! — не переставал негодовать наш начальник.
— Приняли на свою шею... — подобострастно заметил Павел Васильевич, — никого не признает, молодчик! Я ему утром говорю — сходи подпиши, все равно ничего не делаешь, а он нос задрал, говорить не хочет. Гонору много — толку мало! — закончил Пал Василич и зажевал по-заячьи губами, должно что-то соображая впрок.
Тут поднялся всеобщий гвалт, все наши сотрудники, каждый на свой лад, стали возмущаться Тараторкиным, даже машинистка Зиночка, и та затаила какие-то стрекозьи обиды на Антона, он де подковырнул ее когда-то, вот хам-то.
Да, Антон способен на протест. А впрочем, ему можно протестовать, а попробуй-ка возмутись, к примеру, инженер Рыбкин... Что из этого выйдет — вышибут бедолагу с завода, и вся недолга. Куда тогда податься скромному труженику, воистину он беззащитен перед произволом начальства, на одно бедняку остается уповать — быть тише воды, ниже травы. Тараторкин же имеет право на бунт — у него имеется «волосатая рука», а у остальных нема таких рук, но есть здравый смысл маленького человека, сообразно которому сейчас и поддакивают начальнику, мол, вот мы какие преданные вам, Александр Сергеевич. Молчим лишь мы с Полуйко, я слегка остерегаюсь независимого нрава Валентина, не будь он рядом, возможно бы, тоже из стервозных чувств наехал бы на Антона, он ведь и мне немало насолил своим непочтительным отношением к «начальству».
Антон вернулся через полчаса, вошел в отдел как ни в чем не бывало. Да и что, собственно, произошло — так обычная склока между коллегами по работе.
Глава 7
Рогожин с неделю не разговаривал с ним. Но работа есть работа, как ни крути, любой обязан тащить свой воз. Как я уже говорил, нас частенько использовали в качестве снабженцев: сходи, достань, принеси. Вот и в этот раз нужно было сгонять на соседний завод и притащить одну дефицитную запасную детальку.
Наш главный инженер — Вадим Петрович договорился об этом с главным того завода. Дело за доставкой — кого послать? Под руку подвернулся, естественно, Антон. Однако парень наотрез отказался идти за деталью, мотивируя свой отказ тем, что его могут задержать на проходной и припишут ему кражу. Действительно, деталь бралась без выписки, по сути, воровским способом. Вадим Петрович принялся объяснять Тараторкину, что тому ничего не грозит, но малый уперся и все тут. Наконец, главный смекнул: «Дохлый номер, что еще ему доказывать, парень просто не хочет, а станешь давить на него, он чего доброго «подведет под монастырь», сам нарочно напорется на вохровцев...»
— Да уж, — только и оставалось главному, как удрученно махнуть рукой, — ну ладно, идите на свое рабочее место, товарищ инженер. — Стоило Тараторкину уйти, Вадим Петрович напустился на Рогожина, но тот злорадствовал, конфликт с Тараторкиным был ему на руку. — Что у тебя за чистоплюй такой, где вы такого кадра откопали?
— Я вам уже говорил, протеже самого... Наглый парень, ни черта не хочет делать, ума не приложу, как мне от него избавиться? Такой деляга — я не я, да и остальных ребят с панталыку сбивает.
— Не употребляет? — заговорщицки поинтересовался главный, щелкнув себя по горлу.
— Вот вся и загвоздка, что не пьет, а то бы он бы у меня в два счета вылетел к чертям собачьим.
— Ну а так вообще как — грамотный парень?
— Да как сказать? Поручил ему еще Волошин грузоподъемные механизмы, думали, наладит дело. Так ни хрена подобного, развел какую-то канцелярию, а толку ноль. Вот и определи, грамотный он или неграмотный, — съязвил Рогожин и зло заключил. — Языком болтать он специалист, а как дела делать — так в кусты.
— Ну и персонал у тебя?! — посочувствовал главный инженер и уже по Антону окончательно заключил. — Коли малый не хочет работать, так гони его взашей, ишь, чистоплюй, выискался, пижон — за муфтой он сбегать не может, цаца какая?!
— Да, я и так думаю, Вадим Петрович, разогнать его ко всем чертям, чище воздух станет, — Рогожин относительно воздуха сказал не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле, — меньше станут курить в его кабинете, не будь главного зачинщика перекуров.
И вот, сплоченные общей целью, они уже злорадствовали о незавидной судьбе Тараторкина на заводе.
Не могу утверждать, что у главного инженера состоялся подобный разговор с самим директором, только вскоре спокойная жизнь Тараторкина подошла к концу. Не желаешь быть на побегушках, не хочешь ходить в курьерах, так поезжай-ка, братец, в колхоз, благо сезон сельхоз работ был в самом разгаре.
— А как же грузоподъемные средства? — возопил Тараторкин.
— Ничего, подождут, ничего с ними не случится, они уже двадцать лет терпели, а месяц, другой перебьются.
Итак, Антон Тараторкин стал каждодневно ездить на полевые работы. Сразу открою — крестьянин из него получился неважный, извиняюсь, не то слово — самый что ни на есть никчемный. Про таких людей говорят — руки из жопы растут, абсолютно не пригож к полеводческому физическому труду. Быть бы ему самой захудалой голытьбой, родись он в российской деревне годков сто назад.
Да еще он в конец озлобил своим нерадением и неприкрытой ленью нашу Ольгу Семеновну — ветерана шефской помощи селу. Я, конечно, не отрицаю, женщина она своеобразная, даже взгальная, от нее не услышать похвалы или хотя бы одобрения, она весь мир видит сквозь своекорыстную призму. Ее высказывания о людях, как правило, предвзяты и негативны, поэтому ее ни во что ни ставят и поделом, вот она и брюзжит на всех и вся. Можно было бы не брать в расчет ее свидетельств о «колхозной жизни» Тараторкине, избавь нас бог от подобных очевидцев, но все же послушаем скромную женщину:
— Поставили нас на одну грядку, ну начали тяпать. Только смотрю, наш Антончик, — со злобным ехидством покачав головой, высказала она, — минут десять поработал, стал перекуривать. Я молчу, жду, когда у него совесть появится. Да куда там?.. Пять минут тяпает, полчаса сидит. Я ему: мол, мы так до вечера не управимся, а он нагло смеется: «Работа не волк, в лес не убежит...». Потом вообще оставил меня одну, а сам ушел к ребятам из техотдела. Те ничего не делают, знай языки чешут, и он туда же... Ну и злая я на него, пришлось одной грядку доканчивать. А как иначе? И будешь одна, ему, лодырю-то чего поделается, а меня завком, знаете, как пропесочил, говорит: «Чего вы отстаете, у вас и так грядка самая короткая?». — Я ему ответила: «Поимейте совесть, Виктор Макарович, я же одна, напарник попался лентяй, не хочет помогать!» — А завком в ответ: «Тут и ребенку делать нечего!..» — Вот оно как? Говори не говори — сама все дотяпала. А этот нахал, ему хоть бы что — ни стыда, ни совести! Я ему — как же тебе не стыдно? А он мне (вот молодежь пошла!): "Да взяли бы и не тяпали, я-то с какой стати вкалывать обязан, я не колхозник!» — Ну и наглый, скажу вам, парень! Больше я с ним ни за что грядку не возьму, думала мужчина, все мне полегче будет, какое там легче... Вся надорвалась.
Да уж, Ольга Семеновна, вам можно только посочувствовать, право, с таким напарником пропадешь...
Почему многие из нас не уважают трудовые сельхозпоездки? Глупо и несправедливо утверждать, что это уж очень тяжелая и непосильная работа, самая большая неприятность, что может произойти в поле, — потечет у какой-нибудь слабоголовой толстушки юшка из носу, впрочем, от жары, подобное случается и на пляже, да и в парке культуры и отдыха. Последнее время... да не один я пришел к такому выводу — лучше загорать в поле при прополке свеклы, чем обливаться потом в липкой жарище конторского помещения, де еще выслушивать нагоняи начальства. А еще нудней — корпеть над давно опостылевшими расчетами или куда-то идти, что-то пробивать, над чем-то ломать голову, короче, одна морока. День тянется словно патока, приторная, клейкая, вызывающая неутолимую жажду к переменам, желание убежать от изо дня в день повторяющейся тягомотины.
Другое дело в колхозе, указали твою грядку, вот и давай дерзай! Оттяпал стою долю и гуляй себе в волю. Купайся в студеной, прозрачной речушке, играй в волейбол, в картишки — кому что. Короче, воспроизводи истраченную энергию — чем не лафа?! Одним словом — курорт! Только почему-то желающих ехать на этот курорт маловато... Все понимают, что в колхозе совсем не плохо, но стоит спросить — кто желает завтра поехать на прополку — энтузиастов кот наплакал. Обленился наш народ, тяжелым стал на подъем. Да и далеко ходить нечего, я сам первый, хоть и говорю правильные слова, скорее всего откажусь от поездки, зачем мне куда-то ехать?..
Да что же мы за люди такие?! Лучше целый день просидят, подперев щеку кулачком, разглядывая надоевший рисунок обоев, чем протрясут живот на приволье. Вот и отращивают себе пузень от обездвиженности... Так давайте, ребята, двинем в обратную сторону! Станем на деревенском, пахнущим парным молоком воздухе нагуливать богатырскую силушку, укреплять расшатанные от скуки нервишки, избавляться от всяческих придуманных от безделья неврозов и прочих аллергий. Однако меня занесло несколько в сторону, но как обойтись без лирических отступлений, как не излить душу? Будь я какой-нибудь библейский сказитель, вот тогда бы да: «Авелех родил Дана, Дан родил Варуха и... и проскочило бы, у меня сразу четверть века, а тут прошло только две недели, всего две, и наши «колхознички» воротились на круги своя — опять в отдел.
Признаться, я даже испытывал странный душевный зуд, пока Тараторкина не было на работе. Посмотришь на его пустующий стол и шелохнется внутри... Обида не обида, а какая-то злость, что ли на него, вроде того, якобы носят тебя черти по полям, сидел бы на месте, все равно там от тебя нет толка — хотя бы развеял мою скуку. Хотя я прекрасно понимал, что у Антона нет права выбора — куда пошлют, туда и пойдешь. А я конченый эгоист, скучно, видишь ли, мне... выходит, как не верти, а мы так и сдружились с Тараторкиным. Нас многое связывало и объединяло. Мы с ним фактически ровесники, начитанные, надо сказать, ребята, и еще не утратили любознательности и тяги ко всему новому. Мы даже соревнуемся между собой, правда, несколько по-своему, но видимо в этом и зарыта собака, главная причина нашего интереса друг к другу.
У меня есть старые приятели, чисто по-товарищески они мне гораздо дороже Антона, за них я бы стал драться, как и они за меня, будь мы даже неправой стороной. За Тараторкина я не вступлюсь безоговорочно, не положу свой живот, да и он не стоит того. Однако мои товарищи уже превратились в пресных, обыкновенных дядек. Они добры, радушны, но с ними как-то не интересно, видно, с годами ушла романтика из их мироощущения, они уже не излучали токи кипучей жизни. Поэтому многое уже не стыкуется в наших чувствах, взглядах, даже в душевном состоянии — словно ты обгоняешь их, ты на мотоцикле, а они пешком. Они устарели и продолжают безнадежно устаревать.
Итак, «колхозники» явились на работу в отдел. Как и подобает — на первое блюдо тематика полевой страды. Наш острослов Полуйко сразу же стал доматываться до Тараторкина:
— Ну, рассказывай, парень, много трудодней заработал?
— Сколько есть — все мои, — раздраженно отвечал Антон. Ему, видно, до оскомины надоело на прополке, возмущало и то, что из мужиков послали только его одного. Остальные ребята для очистки совести стали толковать, мол, нам всем в свое время довелось позагорать на свекле. Это еще что — прополка? А попробуй-ка дождливой промозглой осенью выбирать картошку из хляби чернозема, тогда поймешь — почем он, фунт лиха! Конечно, мы немного преувеличивали, но иначе как убедишь в правоте своей позиции уже испытавших пережитое им унижение. Как могли, мы пытались доказать парню, что в колхозе лучше, если бы не семьи и иные важные дела, каждый бы из нас с толстым удовольствием променял бы тухлое сидение в отделе на свежий деревенский воздух. Кажется, мы достигли своей цели. Антон перестал возмущаться, а возможно, просто понял, что после драки кулаками не машут.
И потекли обычные дни, заполненные до ломоты в пояснице высиживанием положенных по распорядку часов. Тараторкин опять принялся ворошить папки со своими тельферами, я уверен что он наконец убедился, — большего удела ему в нашем отделе не дадут.
Рогожин вдруг вспомнил, что у Антона хороший подчерк. Он поручил ему заполнять акты на списание оборудования. Дело само по себе пустяшное. На бланке следует указать марку изделия, цех его установки, комиссию в составе таких-то лиц, причину списания. Затем собрать подписи членов комиссии, согласовать у главного инженера и утвердить директором. Тараторкин вдохновился новым делом. Он воспринял свою задачу слишком уж серьезно, копался в справочниках, пытаясь наиболее грамотно сформулировать сущность и причину поломки, доказать невозможность ремонта, напоследок заключить «восстановлению не подлежит», как традиционно резюмировалось во всех актах на списание.
Рогожин немного потеплел к парню, несколько раз даже похвалил его. Обыкновенно акты заполнялись по старинке, никто из писавших эти бумажки не вникал в детали неисправности, порой заключение писалось с молотка, городили, случалось, такую галиматью, что волосы дыбом бы поднялись у знающего человека. Но все сходило с рук, оно и ясно, наверху эти акты не читались и не проверялись. Тараторкин же был не таков, он подошел к работе творчески, акты были заполнены настолько технически грамотно, что я стал опасаться за свое место в табели о рангах нашего отдела. Но все закончилось довольно прозаически, я бы сказал — неуклюже. Как-то главный инженер удосужился прочесть творения Тараторкина и ужаснулся:
— Да ты знаешь хотя бы, что такое шпиндель, что же ты пишешь-то? Ты что, хочешь нас в тюрягу засадить, это разве акты! Ой, ей ей! Да за каким чертом тебя заставили их писать, ну и дела?.. Короче, Антон присовокуплял деталям механизмов несвойственные им функции и технические характеристики. Так-то вся его писанина выглядела вполне наукообразно, но, вчитавшись, пришлось бы ужаснуться. Что и произошло с главным инженером.
Бывает, в диалоге мысль покидает голову, ваше молчание становится неделикатным, остается в свое оправдание лишь сожалеюще промямлить: «Да, жизнь сложная штука...» — вы бы не сделали открытия, сказав эту избитую фразу, но с вами и не спорят, да и что противопоставишь сему многовековому глубокомыслию. И те, кого жизнь била, и те, кого гладила по шерстке, особенно последние, держат в своем речевом арсенале эту банальную сентенцию о сложной штуке — жизни. Вот таким философическим аккордом начинается развязка моего рассказа. Спешу предупредить — не страшитесь, пожалуйста, все останутся живы — здоровы.
Как-то иду по одной из центральных улиц, время — часов одиннадцать, разгар трудового дня (не подумайте, чего такого, я был на бюллетени), смотрю, припижоненный Тараторкин раскованно толкует с фарцовочного вида типом. Какая-нибудь очередная шпакля-макля, нехорошо, подумал я, впрочем, он не мальчик, и до его нравственности — мне, как говорят, по барабану. Подойти, не подойти?.. Подхожу, здороваюсь за руку. Антон знакомит меня со своим собеседником, тот вежливо представляется. Я обычно подобные уличные знакомства в расчет не беру: кто, чего, откуда — тут же и забыл. Тараторкин тотчас начал оправдываться передо мной, якобы он сейчас же вернется на работу, отошел на часок по личным делам. Мне лестно, и я доволен, приятно все-таки, когда на людях тебя почитают за начальника. Стараясь говорить должным тоном, я перебиваю его излияния, поясняю, что на больничном, и мне абсолютно до фенечки, где Тараторкин изволит гулять. Засим прощаюсь...
Глава 8
С наступлением календарного лета Тараторкина стали редко замечать в отделе на рабочем месте. Видимо, случай с вымышленными актами переполнил чашу его терпения, и он на все махнул рукой или — забил... по-нашему. А тут благословенная пора! Лето есть лето, гораздо приятнее наслаждаться его дарами, нежели прозябать в нашпигованных микробами кабинетах. Неужели молодому парню мариновать себя в архивной пыли, когда кругом такая благодать? Ах, лето красное!.. Не только я, но и работники других служб и отделов встречали Тараторкина, разгуливающего по городу в рабочее время. Они, естественно, наивно интересовались у Рогожина, мол, что Тараторкин стал частным лицом? Ах, нет! Странно?..
Справедливо спросить тех доносчиков, а где они сами были в то время, впрочем, зачем попросту тратить время — выкрутятся, как ужи, скажут, ходили к зубному протезисту или еще нечто уважительное, и все дела. К Рогожину по многим каналам стала стекаться, точнее, сливаться, информация о прогульных похождениях Тараторкина. Но Александр Сергеевич терпеливый малый, на мякине его не проведешь. Под прогулы Тараторкина он решил подвести прочную, документировано обработанную базу.
Лед тронулся, господа присяжные заседатели, хотя в разгаре лето, но лед тронулся... Отболев, я, признаться, без особого удивления узнал, что Рогожин стал действовать крайне напористо — потребовал от Антона объяснительные записки по каждому факту его отмеченного отсутствия, опоздания, самовольного оставления рабочего места. Параллельно Рогожин настрочил соответственную докладную в отдел кадров завода.
Колесо завертелось. Кто кого! Как не странно, Тараторкин не отчаивался, не унывал. Он приносил начальству заверенные печатями больничные листы, повестки в военкомат и милицию, справки из домоуправления о протечке водяных труб, короче, оставался невинен и непогрешим, чист аки херувим.
Доказав Рогожину, что с бумажкой он вовсе «не какашка», Антон все же не стал перегибать палку, прекратил наглые шатания по городу. Теперь он целыми часами сидел на телефоне и как-то наедине сознался мне, что тот «кент» в заграничных шмотках, с которым я как-то их повстречал, обещал подыскать ему приличную работенку. Теперь вы, надеюсь, понимаете, какую работу Тараторкин подразумевал приличной? И вот Антон по нескольку раз на день названивал тому приятелю, тот же диктовал парню какие-то адреса, телефоны. Опять в нашем отделе развернулась кипучая деятельность. Как теперь-то мне называть ее? Назову кодовым именем — «превращение в частное лицо». Тараторкин определенно поменял свой имидж, он свободен как птах, он ищет новую работу... И даже стал надоедать мне своими дурацкими советами вроде того, что:
— Эх, Мишка-Мишка, какого черта ты здесь торчишь, давно бы подыскал подходящее местечко... Я давно присматриваюсь к тебе, парень ты грамотный, тебя везде только так... с грабушками возьмут. Ну кто ты здесь, в этой шараге? Разве это зарплата — так, курам на смех!
Начав с критики моей зарплаты, он мог зайти куда дальше и обидней. Но я своевременно предупредил его потуги, отреагировал тем, что счастье заключается не в деньгах, конечно, заработок основное, но еще не все, что нужно нормальному человеку. Тут он подступил с другого конца.
— Что это за работа такая? Целый день чухаешься, чухаешься, а толку нет! Как не вертись, хоть расшибись в доску, все равно тут мил не станешь. Вот у меня раньше... — и он предложил мне помочь устроиться на свое прежнее место, правда зарплата там чуть поменьше, но зато весь день в твоем личном распоряжении. Ну уж он хватил явно через край — бить баклуши еще, куда не шло но бесплатно бить баклуши — увольте меня, пожалуйста.
— Почему ты сам оттуда схилял? — зло подколов, спросил я его, Антон не замедлил оправдаться, якобы там не светило с квартирой, а так работенка была вполне по нему. Дали бы жилье, он-де ни за что оттуда не ушел, а со временем утряс бы проблему и с зарплатой. Как я понял, речь шла о какой-то строительной подрядной организации непонятно какой формы собственности. Определенно там все было построено на жульнических отношениях, ловчить и шельмовать по крупному я еще не научился, да и не собираюсь учиться, да и не к чему, не хватало мне еще загреметь под фанфары...
Но вот, кажется, у Тараторкина наклюнулось стоящее местечко, обещали квартиру, вполне приличный оклад, да и работка не пыльная. Однако организация не ахти какая... Я даже не понял Антона, почему он туда уходит, как можно похоронить себя на этой, простите за выражение — мудышкиной фабрике, неужели у него вовсе нет самолюбия? Вот спросит кто-нибудь — где работаешь? Что ты ему ответишь?! Порядочный человек ухмыльнется и перестанет расспрашивать, а другой так просто плюнет и отойдет в сторону.
Впрочем, и я тогда был еще дурачок неопытный, еще не понимал очевидных вещей, что не место красит человека, а он то самое место. И еще одну совсем прописную истину — в тихом месте сомы водятся. Тараторкин же был начинающим соменком, он уже давно рассчитал свою жизненную стезю и видел себя в перспективе вполне респектабельным крупным сомом. Все к нему с почтением, с поклоном, он предвкушал пышные банкеты, черные лимузины и апофеоз всего и вся — толстые пачки денежных купюр, которые не сложить вдвое, разве лишь свернуть в рулон.
И чего ему так хотелось: перекрестить меня в свою веру, заставить поклоняться мамоне или золотому тельцу, кому из тех названий, что больше нравится — смысл один?.. Но слава Всевышнему — я устоял, хотя думал всякое. Чем объяснить его навязчивую заинтересованность в моей судьбе: искренним желанием помочь неплохому парню, присутствием каких-то особых видов на меня, охотой насолить Рогожину, умыкнув меня из отдела, оставив службу главного механика без ведущего инженера, или просто низким чувством — насрать мне по полной программе? Однако его ухищрения остались напрасны — я не ушел с завода.
Тут внезапно вышел довольно жесткий приказ директора — от нашего отдела одного человека направить на курсы повышение квалификации в межзональный центр сроком на три месяца. Рогожин, быстренько оценив ситуацию, спешно вписал Тараторкина. Ну а тот, столь же быстро осознав возникшую интригу, не хватало ему еще скитаться по общагам, незамедлительно настрочил заявление об увольнении. Рогожин, не мешкая, подмахнул бумаженцию.
Как принято говорить в таких случаях — будь здоров и не кашляй, всего доброго и вперед с песней! Таким образом. Тараторкин отработался в нашем отделе...
Александр Сергеевич как-то, находясь в добром расположении духа, поведал мне свой прощальный разговор с Антоном. Я, как назло, оказался в трехдневной командировке и пропустил последние дни Тараторкина на заводе. Итак... послушаем Рогожина:
— Сей хлюст, видать, подпил напоследок, затесался ко мне в кабинет и давай выпендриваться. Мол, вы знаете, почему да отчего я тут работаю, да кто меня устраивал сюда? Я ему в ответ, мол — не знаю и знать не хочу! Тут он взялся меня запугивать, якобы стоит ему захотеть, так меня в два счета вышибут с завода! Ну, разумеется, скандалить с этим стервецом я не стал, так, посмеялся, сделав вид, что он рассмешил меня своей наивной фантазией. Ну и наглец, однако, на его месте — благодарить меня должен, что статью ему не влепил за его художества. А стоило бы, пусть помыкался бы с тридцать третьей, узнал бы говнюк кузькину мать.
Я ведь говорил с директором, просто разобрал меня, так сказать, спортивный интерес — кто его к нам воткнул? Борман как услышал, что за хлюст этот Тараторкин, какие кренделя он отмачивает со справками, так сразу велел — гони его, чтоб духу его у нас не было. Так-то вот...
Да ты знаешь, что этот негодяй отмочил напоследок, уж на что я ушлый мужик, но такой подлянки не ожидал? Вовремя я спохватился, бог оберег. Глянул в его стол, а папок с документацией по грузоподъемным механизмам нет. Ну, думаю, гаденыш, я тебе устрою!.. Звоню в кадры и велю не отдавать Тараторкину трудовую книжку. Смотрю, приходит ко мне деляга, не солоно нахлебавши. Я ему — где папки? Он, сука, передернулся весь, засуетился, чуть не крестится. «Не знаю», — говорит. А я ему: «Как хочешь?! Пока папки не будут лежать у меня на столе, ты не то что трудовую не получишь, ты под суд пойдешь у меня как саботажник, как вредитель. Я тебя как врага народа посажу, стоит мне только в органы позвонить». Он аж позеленел от страха, обещал посмотреть дома, может, впопыхах захватил документы. «Ладно, — думаю, — иди, урод, смотри...» Ишь ты — листок какой, промокашку домой нечаянно упер, там, поди, три кило бумаг будет. Ну и как должно быть, на следующее утро приносит паспорта, говорит — дома доделывал, ну и в последней горячке забыл о них. Ищи дурака?! Решил щенок мне лапшу на уши навесить... Я не то что пожалел его?.. Просто решил не связываться с говном. Знаешь сам пословицу: не тронь — не воняет. Отдал ему трудовую, пусть катится на все четыре стороны...
Вот какие, Михайла, работнички-то бывают... Оно и наши не лучше. Один третьи сутки в КПЗ сидит, алкаш несчастный, подрался где-то по пьяни — это он про снабженца Никульшина. Другой вторую неделю носа не кажет — это он про Полуйко, инженер решил отдохнуть, по интеллигентному взял больничный лист. От Дуба (кивок в сторону Павла Васильевича Дубовика) толку ноль, его бульдозером с места не сдвинешь. С кем работать, черт знает с кем, одни дебилы кругом?..
Да, товарищ Рогожин, Александр Сергеевич, вам не позавидуешь... Право сказать, ну как работать с такими подчиненными, по себе знаю, одна морока?..
Наши женщины встретили меня радостной трескотней. Главным рефреном в их щебете звучало, конечно, увольнение Тараторкина:
— Что тут было, что тут было! Он напился пьяным и ругался с Сергеем Александровичем. Нагрубил всем нам, обзывал нас «шестерками». Мы даже сказали начальнику, что нужно вызвать милицию, пусть заберут хулигана в вытрезвитель. Ну и фрукт, ну и фрукт, видали мы всяческих наглецов, но такое хамье еще не встречали...
— Да чего он все-таки натворил-то? — нарочно притворился я непонятливым.
— Ну как что? Будто ты, Миша, не знаешь о его делах? — и загалдели все разом: — Дык, у него денег куры не клюют! Дык, он самый настоящий спекулянт! Дык, он мне доллары показывал, настоящие американские! — произнесла с придыханием копировальщица Любаша.
И понесло, и поехало! Чего я только не наслушался про хитрющего упыря Тараторкина, место которому на Колыме, а его друзьям в Магадане. В конце концов мне пришлось заткнуть уши и позорно бежать от наших милых женщин, превратившихся от ненависти в злобных мегер.
Оказавшись на лестничной площадке, закуриваю сигарету, тут подходит Павел Васильевич и просит закурить. Странно как-то — Дубовик не курил?.. Сделав затяжку, пожевав губами, должно собираясь с мыслями, Павел Васильевич выказал свое мнение, в корне отличное от женской половины отдела:
А он парень-то не плохой... Не пойму, чего это Рогожин на него взъелся? — и недоуменно пожал плечами (но я-то распрекрасно знал, что Дуб считал Рогожина выскочкой). — Ну и чего, что зарплату ему большую положили, ничего плохого тут нет, ты дай ему работу, загрузи по полной, пускай отрабатывает. А Антон, он грамотный, мы с ним ходили в управление, так он там при начальстве толково изъяснялся, я сразу определяю людей... Сразу вижу, каков человек, стоит тому слово сказать, и особенно «на ковре». А он ничего, все по полочкам разложил, он парень с головой, далеко пойдет... — Помусолив сигарету, продолжил. — А они (это он о наших женщинах) — торгаш, спекулянт... Сами они спекулянтки, так и торчат на рынке. Послушать их разговоры (Дуб постоянно их слушает) так они все больше про наряды бабские всякие, да тряпки разные импортные болтают. Так, профурсетки безмозглые, прости Господи...
Вот, пожалуй, и все. Уж зачем Павел Васильевич излился столь разгоряченной тирадой в защиту Тараторкина, я так и не понял. Должно, хотел подольститься ко мне, считая приятелем Антона, а там Бог его знает...
Замечу, только вчера у нас объявился новый начальник отдела, да вы его знаете — старший мастер механического цеха Чернышев был произведен в главные механики. Занудливый, по правде сказать, мужик. Только появился, собрал всех нас и говорит:
— Товарищи, давайте разберемся... Чем каждый из вас занимается? Начнем с тебя, Михаил Николаевич... Какие твои обязанности?
P.S.
Где-то в начале лихих девяностых я случайно встретил Тараторкина на вещевом рынке. В каком-то закутке, обклеенном упаковочным картоном, он торговал цветастыми книжками и сопутствующим канцелярским товаром. Поздоровались. Он прятал глаза. Я у него ничего не купил. Книги были так себе...
Рейтинг: +1
483 просмотра
Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Новые произведения

