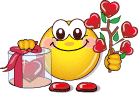"Ванька-кубанька..."
3 мая 2012 -
Вера Климова

Ивахнику Антону Степановичу,бойцу 456 стрелкового полка 109 стрелковой дивизии ( до 20.01.42 года - "сводный полк погранвойск НКВД), пропавщему без вести в Севастополе в начале июля 1942 года, во время третьего штурма города. Материал написан на основе писем с фронта Ивахник А.С., воспоминаний его дочери Шмарко Матрены Антоновны, свидетельств Дорохова М.К.. Публикуется с разрешения Шмарко М.А.
Самоцветными каменьями в лучах заходящего солнца играло на столе редкое в предвоенные годы богатство: пестрые, радужные монпасейки, солидные разноцветные подушечки, искрящиеся алмазным сахарным блеском. Полевыми цветами на зеленоватой скатерти стола рассыпались горошинки – белые, голубые, зеленые, розовые, а желтые крупные горохи, как крошки заходящего солнца, заблудившегося среди всего этого конфетного богатства, светились в этой вкусной горе. Притихшие дочки, только-только отпустившие из объятий приехавшего из санатория отца с замирающими в предвкушении великого сладкого пира сердечками, - счастливые тем, что отец наконец-то дома и снова будет их будить по утрам ласковым «А ну, кто из моих сонь самой первой получит гостинчик от солнечного зайчика?»,- наблюдали, как из чемодана появляются на свет все новые кулечки и растет эта сладкая гора. Только самая старшая, Тоня, уже мама двоих детей, тихонько улыбалась, глядя на сестер: давно ли сама ждала отцовских гостинцев. У нее на руках гулил годовалый сынишка, а трехлетняя дочка, сидя на коленях у бабушки, все пыталась захватить в свои крохотные ладошки как можно больше таких непонятных маленьких мячиков, которые почему-то ее малолетние тетушки с таким удовольствием ели.
Вот последний бумажный кулечек в руках у Антона. Почему-то все стали двигаться замедленно, как в недавнем фильме, что он смотрел в последний вечер в санатории. А кулечек все не открывался. Антон сердито рванул его боковинку и на стол посыпались шоколадные конфеты. Они как-то тяжело падали на сладкую гору и карамельки, как будто осколки гранаты, разлетались в стороны, горошинки скатывались со стола и падали на пол. Гулкое их падение отзывалось в голове странным грохотом и что-то напоминало. Антон никак не мог вспомнить, на что похоже это равномерное «тах-тах… тах-тах-та-тах…». Тонечка успокаивала плачущего Гришеньку, а тот все тянул ручонки к своему отцу, который как будто таял в дверях, и вот его уже нет. Муж Антонины пропал без вести в самом начале войны, в августе 41-го…
Его девочки, Мотя, Надя, Ниночка … Они что-то ему говорят, смеются, но Антон их не слышит: грохот от падающих конфет заглушает все звуки, даже рева внука не слышно. Только «тах-тах… тах-тах-та-та-тах…». Почему так побледнела Лизонька, его ласточка, жена его любимая? Что не так? Куда она смотрит? Почему вместо цветного шелкового платка, привезенного им из санатория у нее на плечах черная косынка? Зачем она так крепко прижимает к груди внучку? Ей же дышать трудно. Крупная желтая горошина медленно, с оглушительным грохотом катилась по голому столу. Куда девалась праздничная скатерть? Ее его Лизонька всегда накрывала на праздники, когда за столом собиралась вся семья. Почему только голые доски стола светятся каким-то мертвым блеклым светом в потемневшей вмиг комнате? Горошина с оглушительным грохотом свалилась на пол. Ее крошки, как осколки гранаты, разлетелись по сторонам. Последний луч солнца покинул комнату, отразившись от стекла на рамке с последней семейной фотографией. И все померкло в комнате. «Антон! Антон! Антон…», - голос Лизоньки таял, становился все глуше. Тишина. Она поглотила всех.
«Антон!» кто-то тряс его за плечо. Антон открыл глаза. Над ним склонился его друг по мирной жизни, земляк Матвей Дорохов. В свое время они оба возглавляли отделения пожарников: Антон в селе Благодатном, а Матвей – в Кугульте, - небольших селах Орджоникидзевского края. Осколки взорвавшейся рядом за минуту до этого немецкой гранаты, выкрошив каменную крошку из стен древней Генуэзской крепости, чудом не задели раненых пограничников, укрытых у ее стен.
Антон вот уже неделю совсем не мог ходить, - напомнила о себе цинга, приобретенная им еще на финской. «Тах- тах…та-та.та…тах-тах…» падающими со стола горошинами рассыпалась пулеметная очередь. Антон прикрыл глаза. Июльское рассветное солнышко ласкало уставших бойцов. Антон сквозь смеженные веки смотрел на заревОе небо: нежный сиренево- розовый цвет неба слегка подсвечивался золотом восходящего солнца и как-то очень быстро выцветал, съедаемый знойным солнечным жаром, странным в такое раннее утро.
Неуместным, совсем ненужным в это утро казалось Антону то, что виделось ему то ли в бреду, то ли в полусне, то ли в предвечном полузабытьи, когда вся жизнь проносится перед глазами, словно в кинематографе, высвечивая то самое помнимое, яркое, то выхватывая из памяти забытое то ли за давностью, то ли просто то, что не хотелось помнить. Вот он совсем крохой едет с покоса на плечах отца – Степана Ивахника, красавца и балагура. Семья их переселилась на ставропольские благодатные земли уже давно, еще в ту пору, когда эти просторные степи только заселялись переселенцами из российской глубинки: казаками и крестьянским людом, когда обычным делом была пахота в поле с оружием наперевес, чтобы руки были свободны для работы.
Ивахники перебрались в эти степи вместе с несколькими семьями из Малороссии. Все это время честно крестьянствовали, а когда надо было , то и с оружием в руках оберегали свое село от лихих людей. Росла и крепла семья. Сыны уходили в солдаты, пахали землю, дочери – хранили семейные очаги, ждали мужей и растили детей. Антон родился в знойном августе 1898 года, на исходе 4-го дня, когда летнее марево накрывает сонным покрывалом истомленную зноем землю, когда природа потихоньку начинает готовиться к осени. Разморенную тишину Степановой хаты вспугнул громкий плач младенца. Повитуха, принимавшая Антона, обрадовала Дарью: «Ой, Дарьюшка, сына – то ты в рубашке родила! Счастливый будет!». А Дарья, маленькая, худенькая, умиротворенная наступившим покоем, с радостными тихими слезами смотрела на первенца. Они его со Степаном так долго ждали. И вот он родился – серьезный, смешной малыш. Принесет ли ему счастье эта младенческая «рубашка»?
Детство Антона пришлось на смутное время начала перемен, юность его совпала с началом Первой мировой. Когда полыхнула революция, обещавшая свободу и счастье простому люду, Антон ушел на фронт. Он рано стал коммунистом. Антон до сих пор помнил то чувство особой ответственности, когда партбилет ему на фронте в гражданскую вручал командир его, дядька Кондрат Пименов, односельчанин, с которым они прошли бок о бок всю тяжкую братоубийственную войну. Много разного было, но всегда, даже в самые короткие перерывы между боями и атаками, Антону грезилось мирное поле и хлеб, его неповторимый разговор с человеком, когда встречаются они один на один в поле. Многих друзей Антон потерял. Истосковался по земле, по мирной жизни. Поэтому, когда вернулся с первой своей войны: нет, Первую мировую он не застал, но Гражданской хлебнул с лихвой, Антон со всей своей силой принялся за работу. Он все никак не мог нарадоваться той особой тишине, такой привычной и обыденной в мирное время и такой вдруг необычной после всего, что пережилось уже к его четверти века. И была эта тишина особо ценной еще и потому, что именно такой тихой заревой ночью его ласточка, красавица, Лизонька, нежная и чуткая согласилась стать его женой.
Кто распоряжается судьбами людскими? Кто отмеряет каждому на его век счастья и радости, слез и бед, мира и войны? Кто определяет, кому и какой путь надо пройти? Антону военного лихолетья было отмерено щедрой мерою. Как-то так сложилось, что Антона земляки ценили с ранней юности – уважительный, всегда аккуратно и чисто одетый, улыбчивый, он вызывал в ответ добрый свет и в глазах односельчан. Ему доверяли многое и свою вторую войну – финскую, он встретил уже в должности начальника пожарной команды с.Благодатного. По тем временам это был не маленький пост, дающий много льгот, в том числе и так называемую «бронь», позволяющую в период военного времени продолжать трудиться в тылу. Но как только прозвучал военный набат, Антон не видел для себя другого пути – добровольцем ушел на фронт. Да и мог ли поступить по- другому коммунист Антон Ивахник? Не умел он врать ни в большом, ни в малом: как можно было говорить о защите Родины, оставаясь в тылу, за спинами тех, кто поверил ему? Поэтому в первые же дни финской войны и ушел он фронт вместе с теми, с кем уже делил когда-то солдатский паек. Эта война оставила ему в подарок цингу. И еще Антон принес оттуда уверенность – не миновать большой войны. Поэтому и был ему так дорог каждый прожитый мирный день, поэтому и встречал он улыбкой каждое утро и своих любимых девочек: Лизоньку, жену любимую и дочек Тоню, Нину, Мотю и Надю, Любил он их безумно.
Лизонька, Елизавета Степановна… Ласточка, она помогла ему вернуться с двух войн живым: ждала его, хранила любовью своей от пули шальной, от бед сберегала. Еще в 18-м году покорила она его сердце. Не было для него в целом свете лучше его Лизоньки, ясыньки его ясноглазой… Деток она ему подарила. Да вот только сына так они и не дождались. И уже не дождутся… Эта мысль впервые мелькнула в голове, даже не в голове – в сердце острым камешком застыла, когда обнимал он Лизу с дочками в последний день дома.
Последний… Горькое слово. Последний мирный год… После возвращения с финской Антона назначили заместителем директора МТС. Не хотел он быть «начальником», не его это было. Да и любил он свою пожарную команду, тройки из конюшни их команды были самыми лучшими, самыми красивыми, да и пожаров они не допускали никогда, вовремя успевали на зов. Но… Коммунист Ивахник принял на себя ответственность- МТС с. Благодатного обслуживала 12 колхозов, что располагались на территории села, хлопот много было. Да и кто моглучше него справиться с этой работой? Антон вырос в селе и знал каждую падинку в полях, каждую кочку, да и в технике очень хорошо разбирался и , самое главное, уважал его простой люд, верил ему.
В последнюю предвоенную весну Антон был направлен в санаторий, совсем плохо было со здоровьем, сказывались последствия войн, голода тридцатых: обострилась цинга, отказалась работать одна почка. Антон долго отказывался, но впереди была посевная, уборка – он должен был быть в силах вести большое хозяйство своей машинно-тракторной станции. Тогда-то он и привез своим девочкам то конфетное богатство, что снилось ему в последние дни… Как будто это было самым дорогим воспоминанием… Хотя… Там они были все вместе и были счастливы, все были живы.
В ту июньскую ночь с субботы на воскресенье народ долго не мог заснуть в селе – в школе поздно разошлись выпускники – им вручила аттестаты, его дочки выступали там в концерте, да и Антону слово дали: надо же было уже взрослым вчерашним мальчикам и девочкам слово доброе в напутствие сказать. Хорошая ночь была – чистая, спокойная, светлая… Антон так и не сомкнул глаз до самого утра, все перебирал в памяти жизнь свою, и сам не мог объяснить, почему вдруг совсем нежданно посреди школьных торжеств вдруг вспомнился Кондрат Пименов, оставшийся еще на гражданской, почему за музыкой мерещился стрекот пулеметной очереди, а зоревые зарницы напоминали скорее вспышки от взрывов, чем были предвестниками скорого летнего утра… Не мог себе этого объяснить ветеран двух войн, как не мог отогнать и непонятной тревоги, сжимавшей душу черными предчувствиями. Утром черные вести пришли в каждый дом. Война… Антон Степанович в первый же день войны просился на фронт добровольцем, но ему отказали: возраст, раны, слабое здоровье, да и в тылу он был очень нужен – ведь на фронт ушло большинство мужчин села, и кому - то надо было и урожай собрать и новый засеять, да и за стариками, детьми и бабами присмотреть, чтобы не обижал их никто. Ивахника Антона назначили председателем самого сложного и самого слабого благодатненского колхоза – имени Крупской. Много сил положили, но урожай собрали, осенью смогли и озимые засеять.
А фронт все приближался, в дома похоронки приходили почти каждый день, все яснее становилось, что война закончится не завтра, что впереди – очень долгий трудный путь к победе, и что еще немало благодатненцев останется навсегда на этой войне. Новый 42-й год не принес утешительных вестей, враг все шел и шел вперед, сообщения Информбюро были все тревожнее, вот уже вся Белоруссия, Украина под немцем… В январе Антон написал очередную просьбу отправить его на фронт добровольцем. 20 января он получил долгожданную повестку…
- Елизавета Степановна, ухожу я завтра… Повестку вот дали, - Антон не мог смотреть жене в глаза, ведь не было ни одного слова неправды меж ними за всю их жизнь вместе. А вот сегодня не мог он сказать ей правды. Не мог. Как не мог и оставаться дома.
- Не верю! Не верю, Антон, что тебе ее дали… Не верю! – Лиза прижалась к мужу, вдыхала его запах – он всегда почему-то пах летним послегрозьем: чистый легкий запах, сдобренный привкусом свежей летней зелени. «Никогда» - мелькнула мысль. Что «никогда»???? Елизавета всматривалась в глаза мужа, словно силясь там найти ответ…
Именно тогда в душе Антона и поселился тот камешек острый и горький, что никогда он больше не увидит свою Лизоньку, никогда не обнять ему больше и дочек своих, и был он спокоен только тем, что сделает все, что сможет, чтобы не дошел до них враг, не обидел их. Провожали добровольцев 21 января 42-го всем селом. Много их тогда ушло, совсем осиротело Благодатное.
И этим ранним июльским утром, Антон, разбуженный, вернее вырванный из тяжкого забытья, грохотом яростного обстрела, и своим таким странным полусном-полуявью, ощущал всю стылую зябкость того дня, 21 января, когда уходил он из дома на свою последнюю войну. Что она станет последней, он знал. И сейчас, лежа под стенами Генуэзской крепости все силился разобрать, что шептала ему Лизонька вслед. Ему так важно было это вспомнить. За все их годы, а их было больше 20, он так и не налюбовался вдосталь своей красавицей женой, не подарил ей всех цветов, всей радости мира. Так ему казалось. И невозможно было докричаться до нее сейчас, чтобы перед последним его боем сказать ей еще раз, как нужна она ему, как любима им.
Маршевая рота, в которую попали Антон Степанович Ивахник и его земляки Дорохов Матвей Константинович, друг и коллега, начальник пожарной команды в соседней Кугульте, и Ледовской Юрий, была направлена в Туапсе, откуда морем переброшена в Севастополь, где земляки были приписаны к 456 стрелковому полку 109 стрелковой бригады Приморской армии, который дислоцировался в Балаклаве.
С 7 ноября 1941 г. территория Балаклавы вошла в состав 1-го сектора Севастопольского оборонительного района, которым стал командовать полковник П. Г. Новиков. Первый удар врага принял батальон школы НКВД, прорвавшийся сюда 4 ноября 1941 года, бойцы 514-го стрелкового полка 172-й стрелковой дивизии Приморской армии и морские пехотинцы 2-го полка морской пехоты. 17 ноября 1941 года к Севастополю вышли остатки 184-й стрелковой дивизии. Из них и пограничников, находившихся в Балаклаве, сформировали полк, получивший название "сводный полк погранвойск НКВД", переименованный с 20 января 1942 г. в 456-й стрелковый полк 109-й стрелковой дивизии. Вначале полком командовал майор К. С. Шейкин, а с 23 ноября 1941 г. - подполковник Г. А. Рубцов. Начальником штаба был капитан И.И.Бобров, а после его гибели - майор И. С. Юрин.
По дороге в Севастополь Антон пытался писать своим почти каждый день, он, опытный солдат знал, что такой возможности скоро может не быть вообще. Поэтому и старался успокоить семью, а еще… Еще рассказать им как они ему дороги, как любит он их. И ждал весточки из дома как спасения, как будто эта хрупкая бумага могла обеспечить ему прочную связь с семьей, как будто мог он защитить своих девочек, опираясь на эту непрочную опору. Потом времени на письма почти не осталось, но Антон все равно старался найти минуту, чтобы написать своим хоть строчку. Последнее письмо он отправил им 5 июня, они уже должны были бы его получить.
Каменная крошка щедро осыпала раненных, лежащих в укрытии у стены, хорошо снаряд далеко упал и осколки лишь вскользь задели стены строения, не зацепив бойцов, а эта острая каменная «пудра» - это же мелочи, это не смертельно. Антон провел по лицу рукой, отирая пыль и пот – солнышко в июльском утреннем мареве было немилосердным, оно, казалось, готово было спалить все вокруг, лишь бы больше никто не стрелял, лишь бы не было этой непонятной для светила слишком громкой пушечной перебранки людей: ведь жизнь их и так коротка, зачем же убивать друг друга, ведь места на земле всем хватит. Одних это осерчавшее светило еще могло понять – они свою землю защищали, детей своих, стариков, но вот других… И пыталось оно своим жаром вразумить их, этих чужих здесь людей, заставить их уйти с этой земли, где так чудесно когда-то оно передавало свое тепло, свет, любовь гроздьям винограда… Где они, те виноградники…
Так думалось Антону, и казалось ему, что эти мысли разделяет и солнце, такое выгоревшее от собственного жара и обесцветившее все вокруг: траву, небо, людей. Только алыми маками цвели на выжженной земле раны человеческие, на скорую руку перебинтованные каким-то тряпьем. Антон закрыл глаза, нащупал левой рукой в нагрудном кармане гимнастерки письмо, которое он начал писать своим неделю назад, на обратной стороне весточки из дому. Антон достал измятый листочек. Такой родной почерк ложился ровно на линейки тетрадной странички. А вот маленькая клякса – химический карандаш попал на капельку влаги… Слезы… Плакала его Лизонька, Лизавета Степановна, когда писала ему о детях, о том, как хорошо они живут, как ждут его домой с победой. Не получат они ответа на это письмо. Это Антон знал уже точно. Пару дней назад было объявлено, что всех раненных будут эвакуировать. Антон, опытный солдат, видел, понимал – не будет никакой эвакуации, она просто сейчас уже невозможна. Может можно было бы еще ходячих как-нибудь вывести, если бы это не был полуостров Крым, если бы не окружало почти отовсюду этот клочок земли море. Если бы…
Совсем рядом рвануло. Антон подтянул к себе винтовку – пусть ноги не ходят, цинга проклятая опять свалила, но руки – то могут нажать на курок, да и гранату Антон мог бы еще бросить. Вот и готовился солдат к последнему бою, а то что время этого последнего боя дело одного-двух-трех дней, это было ясно.
Как-то враз наступила тишина. Даже небо вдруг вспомнило, что оно должно быть синим – плеснуло синевы навстречу волнам морским. Стало слишком тихо. И странно, но несмотря на то, что вокруг все было искорежено взрывами , изуродовано и уничтожена сама жизнь, но на какой-то миг Антону показалось, что все – это просто страшный сон, вот он сейчас проснется и вокруг будет мир, а он просто приехал в Крым, чтобы показать море своим девочкам – давно обещал. Вон даже кузнечики устроили концерт. Как же они выжили в этом аду? Такие маленькие и беззащитные? Антон медленно открыл глаза: всё то же небо, блеклое, выгоревшее, как бабий плат в разгар сенокоса, совершенно белое солнце, растворяющее все своим жаром. На тонкой травинке, которая пыталась сохранить остатки своего некогда изумрудного наряда, прячась в тени от стен башни, качалась какая-то козявка: она упорно все ползла и ползла вверх, чтобы оттолкнувшись от самого кончика травинки взлететь… Да это же…Да, это же коровка божья, ванька-кубанька, маленькое чудо, украшенное ярким рыцарским плащом, маленькое, но такое сильное в детской вере в его «волшебность»: во времена Антонова детства считалось хорошей приметой отправить божью коровку на небо, - дать возможность улететь той к своим детям, а может и в гости к самому Богу, чтобы донести детские молитвы до него. Как, каким чудом сохранилась в этом аду последних дней обороны Севастополя эта кроха? Антон и сам не понял, почему вдруг вспомнилась детская припевочка «Ванька-кубанька, полети на небко, там твои детки кушают конфетки….». Снова загрохотали пушки, вспахивая снарядами и так уже изувеченную землю, унося жизнь за жизнью, собирая тяжкий урожай смертей на этом крошечном пятачке суши… А море внизу почти спокойно что-то нашептывало берегу, с которым прожило оно всю свою жизнь и видело горя человеческого немало, но даже оно, это мудрое море не видело такого бесчинства и такого героизма. Вот только помочь оно не могло. Ничем. Антон смотрел на небо. Как хотелось ему вместе с этой крохой – коровкой божьей – улететь к своим, просто глянуть как они там, поцеловать, обнять в последний раз и вернуться сюда.
«Ванька-Кубанька, полети на небко, там мои детки…»
Подошли машины, раненых стали грузить на грузовики. Многие отказывались покидать поле боя. Антона положили на машину. Матвей Дорохов, который все время помогал измученному приступом болезни земляку сунул ему в карман записку : «Выживешь, моим передай». Машины тронулись, отъехали совсем немного от позиций полка, почти полностью выбитого в последних боях. Антон видел, как побежал Матвей к своему крошечному окопчику, как махнул ему на прощание рукой. Антон попытался ответить ему, но вой снаряда перекрыл все. Казалось, что весь мир состоит из этого жуткого завывания. Антон успел увидеть, как снарядная болванка несется к машине. Даже вспышку увидел. И на ее фоне – его девочки, Лиза. И все. Темнота.
«Ванька-кубанька…»
***
Как же больно колючая стерня впивается в босые ноги. Да еще солнце, неумолимое и невыносимое в своем равнодушном парении над полуденной землей, готовое сжечь, растворить в знойном мареве и скошенные валки овса, и тающую в недоступной дали чахлую, уже и так выжженную лесополосу, разделявшую поля соседних благодатненских колхозов, и саму землю превратить в горячую пыль вселенскую. Моте казалось, что это поле – ее привычный маршрут, который она ежедневно проходила, - оно никогда не закончится. И будет она всю жизнь бежать за убегающей, растворяющейся в небывалом пекле июньского дня границей этого поля. Как только степлилась немного земля, и мужики, оставшиеся в селе кто по «брони», а кто – по немощи и возрасту, бросили в нее зерна будущего урожая, надеясь, что все же не немцам придется его убирать, вышли на поля и помощники, почти основная рабочая сила того времени – школьники. Много было такой несвоевременной, не по возрасту, работы, которая легла на детские плечи , но без них не выжили бы осиротевшие колхозы: ездовые, а где и трактористы, доярки, полеводы, косари. А фронту нужны были продукты, да и тыл кормить надо было. И землю ведь не бросишь – запустеет, затоскует она без трудовой ласки людской. И тогда что скажут эти мальчишки и девчонки отцам, доверившим им самое дорогое – свою родную землю. Вот и бежала детвора, едва перекусив, если было чем, сразу после уроков в поле.
Девочки помогали женщинам. Мотя помогала нянчить грудничка, голубоглазого, пшеничного мальчишку – такой вот цвет волос у него был, что у того поспевшего колоска хлебного. Да и родился-то он в поле, всего-то две недели назад. Ее заботой было, чтобы он не плакал, был сух и сыт, иначе мамка его работать не могла. А так поднесет его Мотя матери, пока та полумертвая от усталости привалится к копешке сена, или деревцу какому и на минутку уснет тяжелым сном невероятной, невыносимой, выматывающей усталости, а он чмокает, терзает полупустой материнский сосок, мнет деснами ее грудь, так и не наполнившуюся молоком , и никак не могущую его насытить досыта. А он не плачет, только хмурится и все сильнее сжимает сосок: может еще капелька ему достанется. Да откуда то молоко могло быть у его матери? – неделями в поле, впроголодь, почти без сна. Да и роды тяжелыми были. А малыш еще минутку пожует этот сосок и вздохнув, прижмется личиком к груди и уснет. И кажется не помнящей себя от усталости матери, снедаемой еще и тоской по пропавшему без вести отцу малыша, что накормила, насытила она своего сыночка, которого мужу обещала уберечь, сохранить. А потом Мотя его перепеленает, сунет ему в рот «жевку» - замотанный в кусочек полотна жеванный хлебушек, покачает его, положит в тенек, да и грабли в руки – сено ворошить. А стерня все колет и колет босые ноги.
Сегодня Мотя спешила как никогда. Утром принесла почтальонка треугольник солдатский, письмо от отца. Мотя была дома, собиралась идти в поле. Получив треугольничек, она даже затанцевала по комнате – такие треугольники не несли беды. И надо было теперь очень спешить - ведь радость какая: есть письмо, значит папа жив. Вот и бежала она по этой нескончаемой стерне, обдирая в кровь ноги, срывая еще не поджившие болячки, чтобы донести эту великую радость до мамы и сестер… Какая-то кочка совсем неожиданно бросилась ей под ноги. Мотя упала, но письмо не помяла. А когда поднялась и отряхивалась, то ей вдруг прямо в ладошку что-то упало. Упало с неба. Мотя взглянула – коровка божья деловито оправляла крылья у нее на ладошке, потом успокоилась и Моте показалось, что эта кроха смотрит ей прямо в глаза. Мотя помнила, как веселился всегда отец, когда вдруг с неба падало это маленькой счастье в красном плаще с черными точками, удивительно симметрично украшавшими нехитрое одеяние насекомого. Вот и сейчас в памяти всплыло «Ванька-кубанька, полети на небко, там…» -, как будто совсем рядом улыбаясь приговаривал отец… А что там? Мотя оглянулась, она была одна в поле, только где-то впереди далеко-далеко работали женщины, мама тоже была там. Надо было спешить.
Лиза издалека заметила бегущую по полю дочку. Даже отсюда было видно, что Мотя очень торопится. Что могло так ее гнать, торопить? Вот она упала. Лиза охнула – неужели ? Нет. Не может этого быть! Лиза видела, как Мотя встала, отряхнулась и почему-то засмеялась, затанцевала на месте и, увидев мать, замахала рукой, в которой было что-то зажато. Лиза догадалась – письмо. И, обессиленная тяжким трудом, изматывающей жарой, и пережитым мгновенным ужасом неведомого, она опустилась прямо на стерню. По лицу побежали слезы. «Все хорошо, ведь и правда – все хорошо! Вот и Мотенька письмо несет…Последнее» Только почему так сжимается сердце? Почему «последнее»??? Мотя, радостная, подбежала, тормошила мать и все что-то повторяла. Лиза не слышала – она сжимала в руке треугольник и успокаивалась. Треугольник – значит жив. Подбежали бабы, дети, тормошили ее, успокаивали и сами плакали от радости: еще кто-то жив, еще кого не забрала себе война.
Лиза трясущимися руками развернула треугольник, надписанный четким убористым почерком мужа: «Дорогая моя супруга, Елизавета Степановна, прошу, не обижайся, что плохо написал, сама знаешь, что война… Враг коварный и злой. Он думает нас сломить, но мы выстоим и победим… Прошу еще передай привет дочке Тоне Антоновне, внукам Любе и Грише, низкий поклон дочкам Нине, Моти и Нади… Эх, деточки мои, какие вы несчастливые, что на вашу молодую жизнь пришлась такая тяжелая доля и нам надо было разлучиться… Но надо верить и жить. Война обязательно кончится… До свидание и до свидание. Остаюсь жив, здоров, чего и вам желаю. Целую вас всех письменно и крепко обнимаю.
А.С. 5 июня 1942 года.( Ивахник Антон Степанович)»
Строки прыгали в глазах, буквы все никак не хотели складываться в слова. И только одно: Жив! Жив!!! Это вечером они все соберутся и будут еще и еще перечитывать эту короткую весточку о жизни, весточку от самого дорогого человека. А сейчас – только радость, он жив! До июля 42-го письма от Антона еще приходили, берегла их Лиза, а потом, когда немцы пришли в село, она спрятала их в каменном заборе – не могла она допустить, чтобы они попали к фашистам в руки. И пропали все его весточки, кроме двух, которые она потом хранила до конца жизни и детям завещала сохранить.
- Лизавета, а о моем там ничего?, - кто-то из баб несмело потревожил эту радость и вернул Лизу к реальности. Надо было работать. День только занимался, еще не было и полудня.
- Нет, Анна, нет ничего. Ты же знаешь, в разных они полках, далеко друг от друга. Но если что будет, я тебе сразу скажу.
Анна получила похоронку на своего Ивана еще прошлой осенью. Но все ждала и верила – жив он, сердце ей так подсказывало. Что могла ей сказать счастливая Лиза? Женщины и дети вернулись к работе, тихонько обсуждая эту нечаянную радость. Кто-то затянул песню. И жара, казалось, отступила перед этим человеческим кратким счастьем. В этих заботах катились дни лета 42 года. И как ни горько было это осознавать, но все понимали – враг скоро может войти и в их дома.
Громыхала степь отдаленным громом уже давно, все уже привыкли к этому и когда вдруг затихал этот почти непрекращающийся грохот отдаленных разрывов, то казалось, что тишина становится невыносимой. Под этот грохот засыпали и просыпались, убирали небогатый урожай лета 42 года, высушенный зноем и так необходимый для фронта, старались сберечь каждый колосок. Полина Крайнова на единственном тракторе, полученном незадолго до войны, не успевала убрать все поля, - трактор работал на честном слове и больше стоял, чем работал: не было горючего, сломалась какая-то важная деталь, а механик ушел на фронт и починить толком было некому, в селе остались женщины, старики и ребятишки. Чтобы не пропал ни один колосок, ни одно зернышко, в поле выходили все от мала до велика. И даже все чаще появляющиеся немецкие «рамы» - доселе невиданные, почти игрушечные самолетики перестали пугать. Урожай не ждал, да и беженцы, шедшие через село, несли нерадостные вести - немцы с каждым днем были все ближе.
Ранним утром, когда еще неспелый август только-только стал наполнять будущий урожай спелостью, а сжатую рожь уже сложил в валки, когда в ставропольских степях бывает так много зоревых зарниц, и когда еще не разгоревшееся утро чаще одаряет людей с самых первых своих часов духмяным зноем, в Благодатное, со стороны маленького села Кугульта вошли немцы. Огромные тяжеловозы тащили за собой орудия, подводы, наполненные какими-то ящиками, железками.
Мотя и сестренки не могли рассмотреть в щели у калитки, что же это были за ящики. Мама рано утром, еще до свету, ушла, как всегда, на работу в поле – несмотря на то, что уже стало ясно, что наши войска отступают, что немцы все-таки придут, колхозники старались сохранить как можно больше урожая, остатки собирали и прятали, на правлении колхоза было решено сжечь то, что не успеют убрать. Вчера зажгли последнее поле. Люди стояли и молча смотрели, как сгорал их труд, их надежда. Старик Сарапий Иван, не один десяток лет проработавший на благодатненских полях, знавший на них каждый бугорок, каждую кочку и каждую травинку плакал, перебирая в пальцах зернышки последнего выжившего колоска, отбившегося от поля, чудом уцелевшего от огня. И в день, когда благодатненцы оказались один на один с врагом, над селом еще витал запах сгоревшего хлеба – как будто нерадивая хозяйка забыла его в печи.
Немецкие танки, машины, мотоциклы, наводнили село. Солдаты по-хозяйски заходили во дворы селян, брали все, что им было нужно. К калитке Ивахников подходило двое фашистов. Один маленький, вертлявый все время что-то тараторил на своем языке, закатывал глаза, корчил рожи, изображая ужас, и громко хохотал. Другой, огромный рыжий детина, все время подергивал автомат на животе. Девочки замерли, спрятавшись за сараями. Рыжий ногой толкнул калитку и немцы ввалились во двор. Никогда прежде сестрам не было так страшно, никогда прежде они не видели так близко врага и ничего не могли сделать. Казалось, что от страха девочки превратились в каменные статуи, какие им показывал когда-то отец. Такие статуи иногда встречаются в ставропольских степях, бабами монгольскими их называли.
Немцы по - хозяйски топтались по двору, заглядывали во все постройки. Мотя не успела спрятаться от них.
- Матка? Яйко? Курка? Млеко? - рыжий верзила наставил на Мотю автомат, требовательно качнул в сторону сараюшек.
Мотя, чтобы показать, что в доме ничего нет, открыла сарайчик, который уже давно пустовал, полезла в курятник. Немцы не верили, грозили автоматами, ругались. Девочке было очень страшно. Надя и Нина успели спрятаться в огороде в картофельных рядах. Они лежали и боялись головы поднять. Немцы дали очередь по жухлым кукурузным зарослям. Увидев страх в глазах ребенка, они расхохотались, еще раз автоматной очередью прошлись по огороду, хозяйственным постройкам и ушли. Больше Мотя их никогда не видела. А по улице все шли немецкие солдаты, ехали неведомые до того танки и огромные мотоциклы. Казалось, что конца-краю не будет этой серой громыхающей змее.
С приходом немцев началась «счастливая» новая жизнь: в центре села соорудили виселицу, которая почти никогда не пустовала. Вешали за малейшее прегрешение: не так глянул на немецкого солдата, вовремя не уступил дорогу – «партизанен, коммунист», просто по доносу тех, кто поспешил показать свою лояльность немцам. Была создана волость, совет села возглавил староста. Школа открылась, но 1 сентября 42 года очень мало учеников сели за парты благодатненской школы. Многих детей просто не пустили матери, многие дети и сами не пошли в школу – не могли они учиться по немецким правилам. В программу входило только молитвенное правило, да изучение правил поведения в новой жизни.
В село Благодатное еще осенью 41 года прибыло много евреев, в основном беженцы были из Украины. Их расселили по домам сельчан, приняли на работу в колхоз. Была семья беженцев и из Белоруссии. Её звали Стасей. Необычайно красивая, с огромными светлыми глазами белоруска была замужем за евреем, у них было двое деток. Когда пришли немцы, то в первые же дни они собрали всех евреев на площади и объявили, что будут отправлять их на новое место жительства. Везде были развешаны объявления, полицаи по дворам ходили, говорили, чтобы брали с собой все ценное: золото, украшения, тазы медные, меха, вещи дорогие, что отправят их всех на родину. Какую родину – никто не уточнял. Всем евреям надо было явиться через день к управе для отправки. Кто-то поверил, что им и правда немцы даруют новое счастливое будущее, но большинство знало, что это – последние их дни. Кто-то пытался пристроить своих детей, чтобы не коснулась их тяжкая судьба. Мало кому это удалось. В день так называемой «отправки к новому месту жительства» немцы проходили по домам, вытаскивая на улицу всех, и хозяев и гостей, и гнали тех, кто по их мнению был похож на «юде» к управе, потом к гаражам бывшей МТС, где, отобрав у несчастных все мало-мальски ценное , заталкивали их в кузова грузовиков, откуда убежать было уже невозможно. У Стаси вырвали из рук крошечного сына, а ее саму прикладом автомата отбросили от грузовика. Все происходило в страшной тишине, только изредка нарушаемой чьим-то всхлипом.
Была среди беженцев красивая и веселая девушка Роза. Сразу же, как пришли они в село с семьей, мамой и двумя маленькими братишками, Роза пошла работать на ферму, работящая, шустрая, она успевала все, - никто бы никогда и не подумал, что коров впервые так близко она увидела в Благодатном. Помогала старикам, чем могла: в доме прибраться, приготовить скудную еду, письмо с фронта прочесть, написать ответ. И пела она хорошо очень, мягкий голос, казалось, проникал в самую душу слушателей. На машину ее затолкали с одним из братишек, маму и второго малыша немцы зашвырнули на другую машину. Роза еще до прихода немцев говорила о том, что если те все же придут в Благодатное, то их всех казнят. Роза и ее семья видели уже весь этот ужас. Они чудом уцелели дома, после чего и отправились пешком от немцев.
- Прощай, белый свет! Прощайте люди добрые! - голос Розы прорезал тишину таким отчаянием, такой болью. И Роза запела. Пела она о мире, о любви, о счастье, о весне, которую ей уже никогда не суждено было встретить.
Когда машины тронулись с площади село, взорвалось криком: кричали и плакали женщины, дети испуганно заходились в слезах, старики кричали проклятья самоявленным «хозяевам». И над всем этим горьким хором парил голос юной девушки.
Стася долго бежала за машиной, где были ее дети. Конвоиры несколько раз стреляли ей под ноги, но мать бежала, а немцы хохотали. Стася падала, поднималась и вновь бежала за машинами. Потом рассказывали, что видели ее в округе – она все искала своих малышей. А евреев вывезли за село и расстреляли. Всех. Некоторых, еще живыми, сбрасывали в загодя приготовленные огромные траншеи. На месте их гибели установлен памятный монумент. Это было потом, а тогда еще три дня дышала земля и слышались стоны из-под земли, которой едва присыпали тела расстрелянных и погребенных заживо.
Студеной была зима 42 года. День только занимался над селом, почти по самые крыши занесенным снегом. Семья Антона Ивахника эвакуироваться не смогла, да Лиза и не представляла, как она сможет бросить родное село, старшую дочь, которая присматривала за старыми родителями своего мужа, пропавшего без вести еще в 41-м. Почти все время оккупации дочери Антона не выходили из дому. Только Лиза , чтобы прокормить детей ранним утром уходила в соседние села, чтобы выменять на продукты кое-что из вещей. Елизавета Степановна знала, что им очень опасно оставаться в селе – семья коммуниста, да еще председателя колхоза. Многие их оберегали, как могли, но были и те, кто показывал пальцами, грозили выдать. Соседка, работавшая в управе уборщицей (заставили ту мыть полы), тихонько шепнула ей, что после Рождества снова начнут вешать, что семья ее – вторая на очереди на повешение. Вот такая страшная очередь существовала. Поэтому и не выпускала мать из дому дочерей, прятала их, как могла. Позже дочери узнали, что мама знала, кто донес на них немцам, но сколько они ее не расспрашивали, в ответ слышали одно: «Знаю, но не скажу. Вiн приде – ему скажу усе, а вы – не спрашайте. Вам – не скажу». Так и унесла Елизавета в могилу эту тайну.
В такое вот утро, когда мамы дома не было, а девочки, слегка протопив печь остатками курая* да сушенных бодыльев кукурузы, с тревогой ожидали ее возвращения, во двор к Ивахникам ворвались немцы. Нина шла по двору. Огромный казак, сопровождавший немцев, свалил Нину на землю и сдернул с ног ее валенки – одни на всех, что были в семье. Девочка босиком добежала до дома и юркнула на русскую печь, где сидели и сестры. Немцы ввалились в дом. Ражий казак все суетился перед ними, бросился разувать одного из фашистов, совал в руки ему валенки. Немец долго разувался – снимал свои ботинки, разматывал обмотки, пытался натянуть на ноги валенки Нины. Не подошли по размеру. Казак чертыхнулся, отдернул занавеску на печи:
- Где отчим?
- Там , где и все русские! - Мотя почти выкрикнула эту фразу казаку в лицо.
- Что шипишь? Плетки захотела, - казак свирепо зыркнул в ее сторону и начал шарить по всему дому, искать что-нибудь для немца, все еще сидевшего босиком посреди хаты.
Он перерыл все в доме, скудный скарб не привлек его внимания. Он все швырял под ноги себе, топтался по нехитрым пожиткам. Открыл заслонку на печи, надеясь найти там что-нибудь. Девочки замерли: там, за кипами курая мама спрятала папины валенки. Он зимой мог ходить только в них – давали знать о себе его больные ноги. И вот сейчас этот наглый казак рылся в подпечье, стараясь отыскать обувку для своего начальника. Но то ли не доглядел, то ли поленился, то ли просто пожалел этих испуганных девчонок, но так ничего он и не нашел за заслонкой. Что –то буркнул солдату и оба быстренько ушли, захватив с собой остатки оладьев из ячменя и кукурузы. Мама вскоре вернулась.
Немцы ушли очень быстро в конце января 43-го года. Как- то шустренько свернулись как только советские самолеты стали пролетать над селом. Наши вошли скоро. Немцы сожгли мельницу, она еще догорала, когда по улицам села уже шли русские солдаты. Навстречу им выбегали все, кто мог ходить. Люди ликовали – наконец-то закончился ад оккупации. Ивахники ко дню освобождения села были уже первыми в страшной очереди на показательное уничтожение семьи коммуниста. Кто хранил Лизу и детей? Сама Лиза считала, что это Вiн ( она так называла Антона Степановича) их уберег от неминуемой смерти своей любовью. Елизавета Степановна до конца своих дней не знала, где и как погиб ее муж. Она его ждала. Ведь в извещении, которое она получила в 46 году, было сказано, что ее муж, Ивахник Антон Степанович пропал без вести. Где, когда – этого она так и не узнала.
Потом, много лет спустя после войны, Елизавета Степановна ездила в Кугульту к Матвею Константиновичу Дорохову, однополчанину мужа, чтобы узнать хоть что-нибудь о своем пропавшем без вести муже. Матвей вначале отказывался с ней говорить – ведь вместе они уходили, друзьями были. Матвей вот выжил, а Антон…Стыдно и горько было Матвею. Не мог он смотреть в глаза вдовы друга. Матвей в последнем бою попал в плен, на его глазах Антона грузили в полуторку, чтобы вместе с остальными ранеными вывезти с позиций полка. Матвей видел, как полуторка с ранеными была уничтожена прямым попаданием снаряда. Именно от Матвея Лиза узнала о том, что стояло за строчками мужа « у меня здесь все хорошо, все спокойной, стреляют мало». Дорохов рассказал Елизавете о последнем дне мужа, о трагедии обороны Севастополя в 42-м году. Сам Матвей был пленен, пережил весь ад лагерей, освобожден, успел еще немного повоевать. Позже он несколько раз навещал семью погибшего друга. А Лиза до конца дней сожалела, что не смогла попасть на могилу мужа, взять земли оттуда и таким образом вернуть его домой, к своим.
Тяжелой была послевоенная жизнь в стране. Елизавета Степановна, как и все женщины, на чью долю выпало пережить весь ужас войны, прожила трудную жизнь. Красивая, добрая, певунья, с первого дня войны и до конца жизни проработавшая в колхозе, никогда даже детям не жаловалась на свою долю. Ходила на свой участок за 12 километров от села, пахала на коровах, собирала «урожай» осколков, а порой и не разорвавшихся снарядов, ухаживала за коровами на ферме, пухла от голода. Это было нормой в то время. И Лиза делала то, что должно было делать: работала, растила детей и ждала мужа. Даже тогда, когда получила извещение с горькими словами «Ваш муж пропал без вести», отнимавшими и одновременно дарившими надежду на его возвращение. Лиза ждала его всю жизнь. Жили они с ним душа в душу. «Лизочка моя, красавица моя, ласточка» - эти слова мужа до конца дней звучали в душе. Как и то, что он сказал, прощаясь с ней, когда всю ночь просидели они за столом в родном доме, проговорили : «Война-война…Вернусь ли с третьей…» Ее не стало в 1981 году. Перед смертью она просила своих девочек найти могилу отца, или хотя бы место его гибели.
По разному сложились судьбы дочерей Антона Степановича. Старшая, Антонина Антоновна, дождалась - таки с войны своего мужа Григория, попавшего в окружение в брянских лесах еще в 41-м, прошедшего немецкий плен. Григорий несколько раз пытался бежать из плена, его возвращали, травили собаками, морили голодом, избивали смертным боем, но он выжил, был освобожден в 46 году и вернулся домой. После возвращения в село Григорий увез семью в с.Янкули Курсавского района Ставропольского края – не мог он позволить, чтобы детей его называли детьми предателя, ведь он был в плену. Уже спустя много лет после войны Григорий погиб. Он попытался задержать грабителя, была зима, очень холодно и скользко, милиционер оправдывал свое бездействие скользкой обувью, а Григорий бросился за преступником и был убит. Тоня выполнила завет отца: не оставила стариков – родителей мужа, сохранила и четверых его детей, дала им всем образование. Любаша, которая видела деда, стала Заслуженным тренером России. Прожила Антонина Антоновна долгую жизнь и счастливую, умерла в 90 лет. Говорила, что живет и за отца тоже.
Нина Антоновна была мобилизована после освобождения Ставрополья на работу в Сибирь, работала на военном заводе. Было очень холодно, голодно. Нина заболела тяжело, как последствие – бронхиальная астма. Нина вынуждена была сменить работу, стала бухгалтером. Вместе с мужем кочевали по стройкам – надо было отстраивать заново страну: Куйбышевская ГРЭС, Киргизия. Подарила миру троих замечательных детей : Антона, Петра и Евгению. Прожила 72 года.
Самая младшая, Надежда Антоновна, всю жизнь прожила в родном селе, трудилась в огородной бригаде колхоза с. Благодатного. Работала на тех полях, где когда-то ее отец руководил вначале местной машинно-тракторной станцией, а затем и колхозом имени Крупской. Надя была любимицей отца. Не дал Ивахникам Бог сына, вот и называл свою младшенькую Антон Степанович «Сынок мой, цветок мой». Надя подарила миру четверых деток. Ее не стало в 2010 году.
Матрена Антоновна, с детства очень любившая учиться, несмотря на все тяготы военного и послевоенного времени, успешно закончила школу, хотя была очень больна: после освобождения села подростки продолжали помогать после школы колхозу, фронту нужен был хлеб. Поля окружали камыши, в селе свирепствовала малярия. Моте предрекали близкую кончину, но она, маленькая, худенькая, сумела все преодолеть, выжить и успешно закончить школу. Вместе с Мотей в 1949 году закончили школу с.Благодатного всего 9 человек, 8 поступили в институты. Матрена Антоновна стала студенткой естественно-географического факультета Ставропольского педагогического института, еще в детстве любила она с отцом путешествовать по миру, тогда - по карте, в действительности же не пришлось им вместе попутешествовать.
Трудно, голодное время. Бородинский хлеб она до сих пор называет «хлебом войны». В школе его выдавали на крошечные пайки, которые детвора несла домой, в институте она получала доппаек и опять-таки везла Мотя этот хлебушек домой, чтобы поддержать оставшихся там сестер и маму. Голодали тогда очень в селе. Учились студенты тех лет на совесть, не жалея себя, не растрачивая попусту драгоценное время. Но как бы не было тяжко, как бы не было холодно в тонюсеньком пальто на студеном зимнем ветру, как ни уставала Мотя, она пела: в школьной самодеятельности, в студенческом хоре, да и потом, когда строгая учительница географии пришла в Кировскую среднюю школу, она продолжала петь. Матрена Антоновна вырастила и воспитала двоих замечательных детей.
Всю жизнь Матрена Антоновна проработал в школе. И все время рассказывала своим ученикам о войне, о том, что видела, что поняла в те годы. И всю жизнь не переставала искать отца. Ведь «пропал без вести» – не значит «погиб». На запросы приходили отрицательные ответы. Матрена Антоновна бывала и в Севастополе, бродила по городу и надеялась, что вот сейчас, вот здесь она найдет отца, или место, где покоится его прах. В музее городском ей ответили, что не мог он погибнуть в Севастополе, ведь похоронка датирована 43-м годом, но такие вести на Ставрополье стали доставлять только с апреля 43 года. Матрена Антоновна продолжала поиск. Она бережно хранила письма отца, извещение, фотографии, свои воспоминания о нем, о счастливом детстве, когда они были все вместе.
В марте 2011 года было установлено, что Ивахник Антон Степанович, боец второго взвода седьмой роты третьего батальона 456 стрелкового полка 109 стрелковой дивизии, который еще называли 456 сводный полк НКВД, погиб в последние дни обороны г. Севастополя в конце июня - начале июля 1942 года. Пусть нет его личной могилы, но есть мемориал в память о бойцах этого полка, мужественно и самоотверженно сражавшихся на подступах к Севастополю, на Балаклавских высотах, у подножия древней Генуэзской крепости. Остатки крепости, разделившие с бойцами ад последних дней обороны Севастополя можно считать надгробной памятной плитой тем бойцам и офицерам, что навсегда остались на этих высотках у Балаклавы. Имя ветерана трех войн, коммуниста, и очень хорошего человека Ивахник Антона Степановича внесено в Книгу Памяти г.Севастополя, записано в Пантеоне Памяти в музейно-мемориальном комплексе «35 Береговая батарея» г.Севастополя.
И самое главное: Антона Степановича помнят и чтят его внуки и правнуки. А это значит, что он остается с ними и сейчас, незримо помогая им и опекая. Вот это стихотворение написала его внучка Шмарко Людмила Николаевна, когда нашла письма деда с фронта:
До дыр истертое письмо
Нашла у бабушки в шкафу я,
Сердце дрогнуло мое:
Дедушка! Ты нам писал…
Слов почти не разобрать,
Но сердце чувствует и верит:
Что веру в жизнь нельзя отнять,
В нее лишь можно только верить.
Матрена Антоновна часто перебирает старые фотографии, письма отца, вспоминает все, что пережито. Она сейчас спокойна – она выполнила просьбу мамы, нашла место гибели отца. Осталось только привезти оттуда земли, чтобы навсегда соединить родителей. Только вот почему-то как-то тревожно становится ей на сердце, когда слышит она детскую припевочку-заговор: «Ванька-кубанька, полети на небко, там …». И каждый год 9 мая на столе в семье Матрены Антоновны есть те самые «военные конфеты»: цветные монпасейки, карамельки, обсыпанные сахаром и разноцветный горошек, неказистое сладкое богатство предвоенного времени,- воспоминание об отце и том празднике, что он им подарил в последний год своей жизни.
Рейтинг: +2
1894 просмотра
Комментарии (4)
| Юрий Табашников # 4 мая 2012 в 08:02 0 | ||
|
| Вера Климова # 4 мая 2012 в 08:39 +1 | ||
|
| Вера Климова # 3 июня 2012 в 15:49 0 | ||
|
Новые произведения