Лаокоон
27 июля 2012 -
Владимир Степанищев

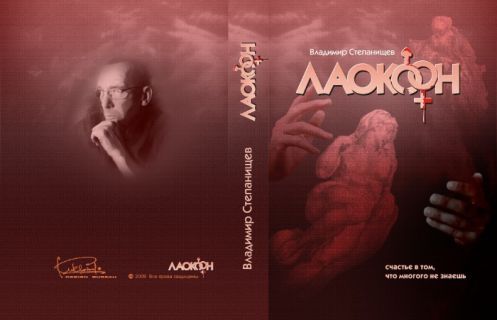
ЛАОКООН
Роман
Кто я?
Часть силы той, что без числа
Творит добро, всему желая зла.
Я дух, всегда привыкший отрицать.
И с основаньем: ничего не надо.
Нет в мире вещи, стоящей пощады.
Творенье не годится никуда.
Итак, я то, что ваша мысль связала
С понятьем разрушенья, зла, вреда.
Вот прирожденное мое начало,
Моя среда.
Я верен скромной правде. Только спесь
Людская ваша с самомненьем смелым
Себя считает вместо части целым.
Я - части часть, которая была
Когда-то всем и свет произвела.
Свет этот - порожденье тьмы ночной
И отнял место у нее самой.
Он с ней не сладит, как бы ни хотел.
Его удел - поверхность твердых тел.
Он к ним прикован, связан с их судьбой,
Лишь с помощью их может быть собой,
И есть надежда, что, когда тела
Разрушатся,
Сгорит и он дотла.
И.В. Гете
Часть 1
Время и старый дворник
Насущное отходит вдаль, а давность,
Приблизившись, приобретает явность.
И.В.Гете
Таракан
«Черт! Многоразовая! мать ее!».
Палыч резко швырнул зажигалку о стену. Та, прорвав старые, когда-то розового цвета, обои и врезавшись своим хрупким прозрачным голубым тельцем в гнилую штукатурку времен блаженной Матроны московской, плюхнулась на грязный линолеум дворницкой. Из получившейся в стене прорехи тонкой струйкой песочных часов просыпался прах, образовав над провинившейся белый погребальный холмик.
«Может, несколькоразовая, правильнее говорить?», - с раздражением продолжал он, хотя, в темном полуподвале с единственным подслеповатым окном вровень с тротуаром, собеседников ему не было, и, саркастически поглядывая на импровизированную могилку, полез в карман за спичками, кои всегда носил с собой, по-стариковски не доверяя ненадежным новейшим изобретениям.
Наконец, он раскурил дорогую, казалось, неуместную в подобном интерьере, да и в подобных руках, трубку. Неизвестно, как попавший в них, настоящий «Бьерн Нельсон» из бриара «мертвого корня», цапой из слоновой кости и седлообразным эбонитовым мундштуком.
Мундштук, правда, был изрядно изгрызен и обшарпанным видом своим, как раз, более подходил хозяину. Его седым, пожелтевшим от никотина, бороде и усам, его узловатым жилистым, с желтыми (однако, стрижеными) ногтями, рукам, его когда-то зеленым, а теперь почти прозрачным глазам… и их пронзительному, но уж больно, какому-то уходящему взгляду. Густая сетка морщин в уголках этих глаз, наверное, могла бы иному досужему наблюдателю рассказать о том, что обладатель ее бывал, когда-то, человеком веселым и даже очень, но огромная двойная трещина между косматыми линялыми бровями, которая, очевидно, пролегла гораздо позже веселых дней, как бы перечеркивала этот «портрет Дориана Грея».
На вид ему…. Трудно сказать. Когда он улыбнется, то дашь и сорок. Если, как теперь, разозлится, то, пожалуй, пятьдесят. Но если уставится своими выцветшими очами в стену и, может, куда-то, гораздо дальше, будто всматриваясь в туманное человеческое будущее или, скорее, в темное свое прошлое – то и все шестьдесят, а то и семьдесят. Такие боль и страдание порой выражал тот взгляд… Трудно сказать, сколько ему было?..
Странно это свойство пожилых мужчин. Странна эта маска увядания. Она - как осенний лес. Озарит ее раннее сонное солнце – и ты слышишь и лепет весеннего ручья, и ропот внезапного летнего ливня, и вздох спелых душистых трав под взмахом похмельного косаря, что поднялся, ни свет ни заря, застать девственную росу на девственной опушке. Скроется светило – тут тебе и шепот с грустью опадающих листьев, и гомон беспокоящихся о будущем своем птичьем, птичьих стай, собирающихся в долгий свой заморский путь, и щёлк пастушьего кнута над налитыми молоком коровами. Но… налетит пронзительный ветер с хладным тоскливым дождем, насупится седое небо до самых маковок мрачных елей и… не слышно ничего, кроме загробно-скорбного Шопена. Глядишь на такой лес и не понимаешь… - зачем! Зачем все, что было… - было... Какой толк в этих ручьях, ливнях, листьях, стаях? Есть ли дело этому, когда-то величественному, а теперь полусгнившему дубу, до того, что завтра он рухнет наземь, ломая ветви жизнелюбивых своих соседей, покроется густым изумрудным мхом? Поселятся в его бренном теле на следующую весну хлопотливые муравьи…, отложат в нем своих жирных прожорливых личинок лесные жуки да мухи…, присядет на него передохнуть и закусить вареным яйцом неутомимый грибник… Что вчерашнему исполину до всего до этого?! Его будущее – тлен и гниль….
Это, или что-то подобное, выражал сейчас взгляд Арсения Павловича Штоца, дворника третьего участка четвертого ЖЭУ Тверского района города Москвы. Дворника, впрочем, уже бывшего. Вчера ему было предложено написать заявление об увольнении по собственному желанию.
Собственно, желания такового у Арсения Павловича, проработавшего на своем месте, бессменно, последние пять лет, не было. Трудился он здесь и раньше, но то было еще в далеких восьмидесятых, в студентах. Сейчас же, он сидел за старым рассохшимся, готовым рассыпаться в любую минуту, кухонным столом в своей дворницкой, в полуподвале дома номер тринадцать по Оружейному переулку. Под столом этим стояла целая коробка «Хлебной» водки, которую Арсений Палыч, в сердцах, прикупил вчера, по получении нехорошего известия.
Надо сказать, что покупка водки была вторым движением его обиженной души. Первым было – спалить, к чертовой матери, жилконтору. Отрешенно бредя по дороге домой, он всерьез обдумывал план, как бы обтяпать это дело. Рассуждал, как вечером, когда начальство покинет здание, он тайком проберется в подвал, разольет там канистру с бензином и уйдет тихонько домой. Затем созовет к себе всю дворницкую братию, предварительно придумав достойный повод для пьянки (да, хоть, день преподобномученицы Феодосии Константинопольской) с тем, чтобы обеспечить себе алиби. Но еще раньше того, он сходит на Белорусский вокзал, даст коробок спичек и сотенную какому-нибудь бездомному парнишке, коих в том суетном месте сколько угодно. Объяснит, в подвальное окно какого дома и в какое время ночи нужно будет кинуть зажженный коробок и пообещает, назавтра, еще сотню, если все выгорит в прямом и переносном смысле.
Рассуждая таким недостойным образом, Арсений Палыч вдруг очнулся оттого, что уперся лбом в стеклянную дверь какого-то магазинчика. В голове его, наконец, прояснилось и…, он нашел более благочестивое решение своей беды.
Трубка погасла. Арсений Палыч раскурил ее вновь, налил себе до краев двухсотграммовый граненый стакан, резко, с шумом выдохнул воздух и отправил водку по назначению. Вместо того, чтобы закусить, хотя, открытая банка шпрот и полбатона «Боровицкого» лежали перед ним на столе, сделал три длинные затяжки густого грушевого доминиканского бленда и задумался:
«Чертовы урюки. Конечно. Просят вдвое меньше, не пьют, аллахово семя, вот нас и вышвыривают, как псов шелудивых. Нас, русских! Ну что, что мы пьем? Я хоть раз не вышел на участок? Ну было пару раз, что заснул на куче листьев. Но так я ведь же сначала эту груду листьев собрал! Ну, послал раз старушку ко Вседержителю! Так она же, старая перечница, котов у меня на участке вздумала прикармливать! Я не против котов. Всяка тварь должна жить, коль ей дал эту жизнь кто-то. Жизнь дал, а кормить позабыл, алиментщик хренов! Вот любопытно. Ну, человек страдает на земле – понятно! Отъел от древа запретного, ну что ж, ослушался - отвечай. А вот кошка, или какая там иная живность. Она-то ведь никаких яблок не ела. Мы по жизни только и делаем, что грешим. Вожделеем, завидуем, сквернословим. Ясный пень – плати. А кошка? Чем она-то согрешила? Кильку украла? Так ведь ей жить надо… Ну да… Так я не против котов. Но эта старуха селедки всякие им приносила в бумажках всяких и так все и оставляла. А я убирай!».
В Арсении Павловиче, еще в не таком уж далеком прошлом, жили два человека. Один – образованный и успешный инженер, крепкий семьянин (впрочем, большой любитель женщин), в общем, самодостаточная советская личность. Другой – опустившийся пьяница-дворник с соответствующим менталитетом и интеллектом. Они, эти двое, между собой не дружили. Каждый проявлялся отдельно, в зависимости от ситуации. Но, в последнее время, оба эти человека как-то перемешались, объединились, взаимопоглотились. И из этого спутанного клубка, то по делу, а то и безо всякого повода выглядывали на свет то один, то другой, как правило, совершенно не к месту. То, в приличном месте изрыгнет идиому такую, что и грузчику неприлично слышать. А то, в компании братьев своих, дворников, моральные письма Сенеки начнет цитировать.
Ах, какой же был когда-то тот, первый!
Как нещадно, как неумолимо-бесстрастно время! Кто бы осмелился три десятка лет назад предположить, что застанет трепетного, тонкого, остроумного юношу, с чертом в глазах и крыльями за спиной, сидящим в подвале полуразвалившегося дома, уставившимся в грязную стену потухшими очами, заливающим в себя водку стакан за стаканом и помышляющим поджечь жилконтору в отместку за несчастную свою жизнь?
Время, время! Что ты делаешь с человеком! Какая у тебя цель? И есть ли у тебя цель? Неужто, вот так, бездумно, бессмысленно катишься ты по пыльной дороге, как отскочившее от проезжей телеги колесо? Лишь на мгновение вздымается под безжалостным ободом придорожная пыль. Взовьется веселым вихрем, потревоженная твоим неуклюжим, ненужным мельканием, расстелется, после, неясной дымкой, да и осядет бесследно, будто ничего и не было. Так и наша жизнь. Взлетает однажды к небу, завороженная молниями сверкающих твоих спиц, полетит за тобой, увлеченная волшебным бегом твоим и…. Нет, не угнаться за тобой. Слишком велико и скоро ты для мелочной, пыльной человеческой души. И растворяется наше бренное бытие зыбким предутренним туманом над столбовой дорогой и… исчезает навсегда под молодым солнцем, будто и не являлось вовсе.
По столу мерно вышагивал рыжий таракан. Он неспешно подошел к банке со шпротами, потыкал в нее своими усами, как бы раздумывая, хочется ли ему взбираться по жестянке вверх… Взбираться не стал, развернулся и направился к хлебу.
«Пшел к черту, жирная скотина! Мало тебе на полу еды?!», - Арсений Павлович смахнул наглеца со стола. Он никогда не давил тараканов. Раньше он не делал этого из брезгливости, теперь он не убивал их из иных причин. Видимо, несколько свихнувшись от пьянства и одинокого своего существования, он начал трепетно относится к любой жизни, даже хоть бы и тараканьей. «Да и чем, собственно, его тараканья душа хуже моей? - рассуждал он. – Сам-то я лучше разве? Забился в щель большой коммуналки под названьем Москва. Ем, пью, испражняюсь и все!
Боже, Боже! Как все бессмысленно!»
Спиной вперед
Грязно выругавшись по адресу времени (проснулся в нем тот, второй), Арсений Павлович взял бутылку и стал медленно лить в стакан, как вдруг…
Все застыло. Таракан повис в воздухе не долетев полметра до пола. Застыла рука с бутылкой и водка будто превратилась в сверкающую сосульку. Застыл и сам Арсений Павлович. Но мысль продолжала двигаться.
- Господи Иисусе! Что это! – в тревоге произнес голос Арсения Павловича, хотя губы его не шевельнулись.
- Это я, – прозвучал за спиной мужской голос.
- Кто это…, я? – уже не на шутку испугался Арсений Павлович.
- Не бойся, Арсений Палыч. Кто я? – Время. Я катилось мимо твоих окон, и вдруг услышало твои мысли на мой счет. Мне они показались равно, как оригинальными, так и несправедливыми, вот я и решило заглянуть, - бодро отвечал голос. Он был мягок и дружелюбен.
- Во, черт! – изумился Арсений Павлович. Страх почему-то моментально исчез. Ему на смену пришло любопытство.
- А можно, - произнесло любопытство, - на тебя посмотреть?
- Нельзя.
- Почему нельзя?
- Почему? Я - иллюзия. Меня нет.
- Не ври, не ври, - совсем осмелел Арсений Павлович, - с кем-то ведь я говорю?
- Во-первых, я никогда не вру, - убедительно произнес голос.
- Прости, но врать или не врать – категории имманентные, присущие миру вещей, а не иллюзий (проснулся в Арсении Павловиче тот, первый), а ты говоришь, что никогда не врешь. Значит существуешь, – почувствовал Арсений Павлович давно забытый полемический задор свой.
- Боже, какие термины! Какие мысли! - саркастически произнесло Время. – Ключевое слово в моей фразе - не «не вру», а «никогда». Вы, люди, такие недалекие. Все лежит перед вами, а вы не можете и слона разглядеть. Все у вас с ног на голову, все акценты смещены с главного на второстепенное. Неужели так трудно понять слово НИКОГДА?
- Черт. Ну ладно. Можно, хотя бы, отмереть. Не могу я так вот стоять, будто памятник пьянству. Рука затекла, - взмолился Арсений Павлович.
- Ну ладно, отомри, - сжалилось Время, – вечно вы не ведаете, чего хотите. То подавай вам, чтоб я остановилось навеки, а то торопите, несетесь, не зная куда. Натерпелось я уже от вас, сил нет. Каких эпитетов только не напридумывали. Уж меня и обгоняют, и тормозят и выигрывают, и убивают, и тянут, и торопят. И проводят меня, и выигрывают меня. То меня не хватает, то меня вагон. Хоть бы слово ласковое одно. А я всего лишь Время. Движусь себе с неизменной скоростью, никого не трогаю, никому не делаю предпочтений, ни зла, ни добра не творю. Меня нет. Но есть ли еще что-то на земле, к чему бы пристегнули столько всего! Стольких собак понавешивали!
Все пришло в движение. Таракан благополучно плюхнулся на пол и, ошалевши, видимо, от таких нарушений законов физики, испуганно забился под шкаф. Водка, журча, полилась в стакан. Арсений Павлович быстро поставил бутылку на стол и резко обернулся. Никого.
- Ты где?
- Я же сказало, меня нельзя увидеть. Меня нет, - прозвучал голос где-то за затылком. Будто даже в самом затылке. – Ты хоть извертись весь – я всегда буду за спиной.
- Почему? – Арсений Павлович наконец перестал вертеть головой и сел.
Невзирая на то, что страх прошел, нервы его были явно взведены. Шутка ли! Время! То ли Время заблокировало каким-то колдовским образом, центры мозга, отвечающие за удивление, но его почему-то не заботил сам случившийся с ним фантастический и абсурдный факт. Он вдруг понял, что у него ко Времени тысяча вопросов и что надо скорее задать главные, пока это чудо длится. А мысли его как-то бестолково прыгали и пихались, будто горит дом и есть только одна спасительная дверь. В - общем, в голове случилась паника.
- Почему? – искренне изумилось Время, - да потому, что все вы глупы. За всю жизнь, что я мотаюсь по земле, я не встречало человека, смотрящего прямо перед собой. Вы идете по жизни спиной вперед. А я-то не сзади. Я-то, как раз, впереди.
- Это как?
- Да так и понимай. Спиной вперед. Глаз на затылке у вас нету. Идете, сами не знаете куда. Лишь бы идти. А взору вашему предоставляется только уходящее. Вы отчетливо обозреваете прошлое, начиная с каждой истекшей минуты и до давно прошедшей, но этот пейзаж вам уже неподвластен. Ваш удел - только двигаться не понимая зачем и обозревать содеянное, не имея возможности хоть что-то изменить в нем. И, не взирая на то, что это, как минимум, странно, да попросту нелепо ходить спиной вперед, вы упрямо занимаетесь этим с рождения до смерти. Будто раки глупые. Да те-то, хоть, клешнями своими, что-нибудь да и выхватят для себя из плывущего мимо. А вы!.. Всего-то, что вам нужно – остановиться, развернуться на сто восемьдесят, и идти себе спокойненько, зряче, разумно. Дак нет же! Прут майскими баранами, да еще в голос честят меня и в хвост, и в гриву – мол-де, все оно виновато, неумолимое Время. Идиоты.
- Зря ты так, - обиделся за человечество Арсений Павлович, - нас Господь создал такими. Тут ничего не попишешь.
- Мне дела нет до ваших богов. Я их знать не желаю. Может, кто из моих коллег? да только скажу, что они, боги-то ваши, либо, такие же дураки как вы, либо, все ж таки, надеялись, давая вам мозги, что вы ими, мозгами этими, сами, как-нибудь… Да куда уж там!
- Как это, коллег? - изумился Арсений Павлович, - ты что, не одно в мире?
- Да сколько угодно. Когда-то, я уж и не помню когда - мы были вместе. А потом, что-то почему-то взорвалось и мы разлетелись по всей вселенной, как твои тараканы по твоей дворницкой. Так, пересекаемся иногда, случайно. Да мне и до них дела нет. Слышал, как-то, что есть где-то Главное Время. Ну, да мне и до него, повторяю, дела нету. Торчу здесь на земле и понять не могу никак, то ли вы у меня в рабстве, то ли я у вас.
Время вдруг загрустило.
- Ты вот что, Арсений Палыч. Ты расскажи мне про себя. Раз уж я у тебя есть пока. А то, бубнят все – мол времени нет. Вот – я. Перед тобой. Расскажи.
- А я думал, что тебе все известно. Ты же было всему свидетелем, - удивился Арсений Павлович.
- Хм. Это вашим богам все известно, а мне некогда за каждым следить. Мое дело – круги наворачивать. Истомилось я. Расскажи. Вот, к примеру. Как так случилось, что ты оказался в таком дерьме? Не всю же жизнь ты в дворницкой провел? Были же и лучшие дни?
- Да. Не всю, - загрустил старый дворник. - Да только, ты знаешь…, моя жизнь началась именно здесь. Я имею в виду осознанную, самостоятельную, взрослую жизнь. Тогда ты было огромным, интересным, насыщенным…
- Ну, это ты опять заливаешь. Я же тебе говорило, я всегда одинаково. Это уже проблема людишек, чем меня наполнить. Иные мною пользуются с умом и толком, другие тянут, как кота за хвост, третьи – попросту убивают. Думают, что могут мной распоряжаться, как им вздумается. Шиш вам! Впрочем, сейчас я остановилось. Никто и не заметит. Рассказывай.
- Изволь, раз тебя у меня полно. Но, ты знаешь, очень трудно разговаривать с собеседником не видя глаз, резонно заметил Арсений Павлович. - Ты бы обратилось в кого-нибудь… если тебе не трудно.
- Не трудно.
Старинное полуразвалившееся кресло, работы, может, и мастера Гамбса, принесенное когда-то Арсением Павловичем с помойки и стоявшее в углу дворницкой, вдруг поднялось в воздух, пролетело три метра и мягко опустилось на пол перед столом. Из ниоткуда, медленно стал вырисовываться силуэт какого-то человека и, наконец, появился, прямо как на фотографии при проявке, лет сорока мужчина в белой тройке. На шее был повязан черного шелка платок, на голове черный круглый котелок, в руках трость с ручкой в виде знака вопроса. Мужчина снял котелок, обнаружив шевелюру черных, как вороново крыло, волос, по плечи, и небрежно бросив его на стол, уселся в кресло, положив ногу на ногу. Трость он прислонил к ручке кресла, на которую оперся левым локтем, подпер кулаком подбородок в черной эспаньолке и вперил в Арсения Петровича черные свои глаза. Глаза были настолько черны, что, казалось, их и вовсе нет, а только дыры, за которыми виделась вечность.
«Вот, передо мной Время. Все, целиком, - подумалось Арсению Павловичу, - но почему же я ничего не вижу?».
- Ты ничего не видишь, Арсений Палыч, потому, что меня нет. Забыл? – прочитало Время его мысли, - налей-ка и мне твоей водки. Попробую, чем ты меня убиваешь.
Арсений Павлович засуетился. Кинулся к шкафу, достал стакан, налил в него немного водки, поболтав, выплеснул прямо на пол и налил уже целый стакан. Перегнувшись через стол, он подал его Времени.
- Ну, что ж, - улыбнулось Время, приняв стакан из рук Арсения Павловича, - за твое будущее, Палыч.
Медленно выпив весь напиток, Время почмокало языком и, подняв черные свои брови, вымолвило:
- Сносно, сносно. И что? С этим ты меня не замечаешь?
- Да как сказать, - смутился Арсений Павлович. – Вначале, вроде, не замечаешь. Бывает, не успеешь оглянуться, как неделя пролетела, но, потом…, наступает похмелье. Тяжкое, длинное, муторное. И тут ты тянешься так медленно, хоть в петлю.
- То-то. Нельзя так со мной. Хочу – тяну, хочу – гоню, хочу – не замечаю. Есть непреложные законы мирозданья, в конце концов, - самодовольно хмыкнуло Время, - Кеплер там ваш, Ньютон, Эйнштейн, наконец. Те, поди, водку-то не жрали. А, и то сказать, один черт, спиной ходили. Ну, рассказывай.
Время вольготно раскинулось в кресле и приготовилось слушать.
Арсений Павлович, забыв, поначалу, выпить свою долю, осушил стакан залпом и приступил к повествованию.
Студент
Мне было шестнадцать лет. Я был студентом. И мне было плохо. Я никогда не любил учиться. Учитель, для меня, любой учитель – человек второго сорта. Что, вообще, заставляет человека преподавать? Согласись, ведь это больные люди. Прав был Фрейд, когда говорил: «Весь мир – мои клиенты». Ну, весь - не весь, а преподаватели – уж точно.
Преподают те, кто не смог, не сумел из себя что-то изъять, вычленить, что-либо означать. Все преподаватели - суть – дилетанты. Учиться надо у мастеров, из-за спины, молча, посапывая, превращаясь в зрение, слух и прочее, во что может обратиться человек, лишь бы быть незаметным. Надо убегать, когда мастер обернется (мастера, как правило, очень жадные, будто то, что они знают и умеют – есть их личное состояние и достояние, не понимая той малости, что дано это им помимо их воли). Надо задавать нелепые вопросы, не стесняясь, что вот сейчас рассмеются тебе в лицо. Но когда глядишь на теперешнего преподавателя, видишь дырку. Маленького уродца, неудачника, который, не умея быть профессионалом, предпочитает их, этих профессионалов, готовить. Docendo discimus – сам учусь, лишь когда учу других – это не про него. Кажется, достаточно года преподавания, чтобы отбить у него всякое желание узнать что-либо за рамками методического плана. Все равно, дальнейшая его карьера зависит не от знаний, а от совсем иных его способностей, которые так тонко сформулировал грибоедовский герой: «Во-первых, угождать всем людям без изъятья...».
Не важно где я учусь. Вуз, как вуз. Пошел наугад, лишь бы не в армию. Почему я так не хотел служить? Да я просто выбрал меньшее из двух зол. В студентах есть хоть иллюзия свободы. Свободы послать преподавателя куда подальше. Да и у доцента, в отличие от майора, есть хоть видимость интеллекта. Хоть слова знакомые услышишь, без ошибок типа: «Это вам чревато боком» или «Выдвинуться на опушку деревьев» (а ведь у всех наших офицеров высшее образование!).
Именем своим я был так же ужасно недоволен. Вот уж наградили предки. Думаю, когда молодые родители выбирают имена своим отпрыскам, они думают об этом акте, как о детской забаве, о наречении куклы, дать имя которой – есть свидетельство их, именно их оригинальности, неординарности их ума. Но думают ли они о том, что рождают личность? Личность, которой жить. Жить даже и потом, после того, как нарицатели эти помрут. Рождают свободную индивидуальность. Нет, конечно, не думают они об этом. Какая уж тут, к черту, свобода, если тебя без тебя уже окрестили, как Акакия Акакиевича!? Так вот и появляются Фердинанды Ивановичи и Альфреды Петровичи. Потом, всю свою жизнь, эти ребята только и делают, что выдумывают аналоги своим «оригинальным» именам, ну, типа, Федя или Алик... Сколько же страданий приносит им эта родительская своеобычность..., в детском саду, в школе, в институте, во всей их жизни, вообще! Какие муки они испытывают представляясь, к примеру, предмету своего вожделения или любви! Да и просто, при всяком ином знакомстве!
Мне не повезло вовсе. Арсений. Даже уменьшительно-ласкательного нет. Так и звали меня с пеленок – Арсений.
Итак. Учиться мне не нравилось, мое имя мне не нравилось, жизнь моя мне не нравилась.
Да и жизнь, то есть, жить мне было не на что. Стипендия – сорок шесть рублей. Половину просаживаешь сразу, в пивном баре, потом, по ночам, разгружаешь вагоны с картошкой. Двенадцать рублей шестьдесят копеек за ночь. Шестьдесят тонн на четверых. Наутро, все тело ломит так, что - какие там лекции! Жизнь – дерьмо. Кто краше, кто не очень, но все мудрецы мира давно высказались об истинности этой мысли. Разводили руками, говоря – «уж так устроен мир», и назвав все это умным словом «онтология»..., умолкали.
Но..., надо жить. Вот еще одна глупость. Ну почему же надо? Кому надо? Зачем надо? Почему, так логичное - «не жить», а еще лучше - «не родится», так противно человеческой природе? Не потому ли, что прав был чертов Сартр? Не потому ли, что ЭТО - не наш проект?
Так или иначе, я живу. И, чтобы выжить, я пошел в дворники. В этот же участок, что и теперь.
Московские дворники – народ особый. Начать с того, что нет средь них ни одного москвича. Даже такой «подмосковный», как я – редкость. Но это и не «лимита». Или, я бы сказал, это лимитная элита или элитная лимита. Лимитчики, конечно, такие люди, которые ради Москвы способны на все. На все, но только не на тяжкий дворницкий труд. Плюс, запись в трудовой книжке – дворник. Это теперь, всем все равно. Но, тогда, в семьдесят седьмом году...
Для студента, вообще, не имеет значения никакая запись. Даже трудовой книжки не нужно обязательно иметь. Я их заводил из любопытства. У меня до сих пор таких две или три. Те, старые, где так и написано: «ЖЭУ №4. Принят на должность дворника» (должность! ядрен-корень. Надо же!).
Короче, восемьдесят процентов московских дворников, в те времена, являлись студентами. А остальные двадцать - кремни. Кремни, ибо это такие «москвичи», которые, ну, настоящие, которых не сшибешь никаким словом, ни делом не сдвинешь. Порфирьевна брала два-три участка, заметала (это правильный термин – не мести, не подметать, а, именно – заметать) их, и имела зарплату поболе, чем какой-нибудь там ведущий инженер научно-исследовательского института министерства среднего машиностроения имеет.
Нам, студентам, выгодно не фигурировать на факультете в графе «подработка», и мы часто «проводили» себя через этих кремней, за долю малую. Тут я и увидел настоящих москвичей. Однажды приезжих, но настоящих москвичей. Москвичей, которые знают свою «чужую» Москву, как пять своих пальцев. Которые заметают Тверскую (тогда еще, Горького), и все, рядом лежащие Тверские-Ямские. Ты будешь смеяться, но именно Порфирьевна, старуха из Альметьевска, рассказала мне, где, на самом деле, Кутузов принял ТО решение. «Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось...». Имел ли в виду Пушкин дворников? Москва – это русский город, город русских, а вовсе не москвичей по месту жительства.
Ну, так или иначе, я – московский дворник и студент первого курса московского вуза.
Дом №13
Арсений Павлович раскурил трубку, поставил пустую бутылку под стол и продолжал.
Дом №13 по Оружейному переулку, в подвале которого мы сейчас с тобой сидим, уже тогда был определен к сносу. Лет пять тому как. Однако, ничто в его облике не напоминало о данном постановлении отдела архитектуры московского горкома партии. Правда, те же пять лет назад, законные жильцы были, выписаны с данных площадей и переселены в спальные районы Москвы. На те районы, те дома и те квартиры, признаться, без слез не взглянешь, но, если их сравнить с внешним видом и внутренним убранством этого пережитка царского режима, то, скорее всего, народ поехал отсюда с удовольствием.
Сегодня-то его хоть как-то подлатали. А тогда это была двухэтажная развалюха с выцветшими, ржавыми подпалинами и плесневелыми подтеками штукатурных стен, с крышей из давно сгнившего, почерневшего, подернутого мхом шифера и маленькими мутными окнами второго этажа в шестиглазых оконных переплетах. Окна эти, через одно, были оснащены внешними грязными ящиками-скворешниками из лохматой, словно слоеный корж, фанеры, служившими, видимо, когда-то, для жильцов уличными холодильниками в зимнюю пору. Инородными, будто случайно кем-то приставленными к стене на время, смотрелись здесь большие стекла витрин продуктового магазина, втиснутого в рыхлые стены первого этажа, явно, не более десяти-пятнадцати лет назад. Собственно, с подсобными помещениями, магазин занимал весь первый этаж этого сиротливо глядящего «особняка». Второй же этаж, изнутри, являл собой длинный коридор во всю длину дома. Вправо и влево от него тянулись двери комнат-пеналов, по пять с каждой стороны, разделенных между собой двойными фанерными перегородками. Коридор заканчивался обширным холлом, выкрашенным вечно-зеленой масляной краской (когда-то, какой-то досужий психолог решил и, главное, научно обосновал, что такой цвет успокаивает нервы), тускло освещенным двадцатипятиваттной лампочкой. В углу холла была навалена какая-то рухлядь (прямо, как у Плюшкина) из старых тряпок и поломанной мебели. Впрочем, она, эта куча (в отличии от кучи упомянутого героя) никогда не пребывала в застывшем состоянии. Тогдашние жильцы - одни, постоянно что-то туда выбрасывали, а другие - тут же все это подвергали тщательному досмотру и, если вещь оказывалась пригодной в собственном хозяйстве, тащили ее в свою комнату. На стене висел черный, довоенного вида телефон, под которым стоял видавший виды диван, обтянутый растрескавшимся от времени коричневым дерматином. Телефон, кстати, работал и имел свой номер на вход.
Направо по коридору, располагалась огромная, неоправданно-огромная кухня, с тремя четырехкамфорочными газовыми плитами и, почему-то, всего одной ржавой раковиной с подведенной к ней лишь холодной водой. Стены и потолок кухни когда-то были выкрашены меловой побелкой, теперь, правда имевшей цвет наждачной бумаги, которой попользовались немилосердно. Ночью же, если тебе вдруг понадобилось, к примеру, согреть чайник, - потолок и стены эти оказывались совершенно черного цвета и, когда ты включал свет, – оживали. Такого количества тараканов я никогда не видел, да и больше не увижу никогда. Они были всех мастей и размеров. От мелких, почти прозрачных, с рыжими пятнами, малышей, до патриархов, богато-шоколадного или даже черного цвета. И двигались эти ночные хозяева кухни сообразно своему тараканьему статусу. Мелкие начинали суетливо дергаться по всем своим ночным владениям, натыкаясь друг на друга и сваливая в суете друг дружку на пол. Те, что постарше, перемещались медленнее и, даже, казалось, осознаннее, то перебегая, то останавливаясь, как бы задумываясь над тем, а стоит ли вообще бежать. Патриархи же, вообще не считали нужным реагировать. Они лишь разворачивались, неспешно переступая своими блестящими косматыми лапами в сторону вошедшего и медленно шевелили усами, рассматривая нежданного гостя без особых эмоций. Случалось мне видеть там даже альбиносов - белых перламутровых тараканов с черными глазками.
Влево, перед входом в кухню был общий туалет, куда ночью, вообще, никто не рисковал входить по тем же энтомологическим причинам. Впрочем, о живности, населявшей дом номер тринадцать по Оружейному переулку, я расскажу позже. Теперь же о жильцах homo erectus (людях прямоходящих).
Все десять (почти все десять) комнат-пеналов второго этажа этого, в некотором смысле, виртуального дома заселяли так же иллюзорно существующие московские дворники. Почему иллюзорно? Да потому что, как студенты, так и лимитчики могли быть вышвырнуты оттуда без каких бы-то ни было моральных осложнений и юридических проволочек со стороны администрации жилконторы, в любой момент. Дом официально не существовал, прописки здешней у жильцов, естественно, не было, а, значит, и самих жильцов тоже не было. Из каких бюджетов финансировались электричество, газ, вода, телефон и отопление в этом общежитии привидений, одному Богу известно (одна из прелестей социалистического хозяйственного устроения). Впрочем, я думаю, все это не по недосмотру, а, скорее, по негласной договоренности с городскими властями. И вопрос этот решен был на самом высоком уровне. Ну, действительно. Какой москвич пойдет работать на такую, с позволения сказать, работу, да еще за семьдесят рублей в месяц? Остаются лимитчики да студенты. Но ведь дворник должен выйти на участок в пять утра, а даже метро в Москве начинало работать в шесть. Значит, он должен жить непосредственно рядом с участком. Вот и пришло в яйцеобразные административные головы мудрое решение - не сносить ветхий фонд, а оставлять необходимое количество домов, выселив, предварительно, оттуда добропорядочных москвичей и заселив в них дворников, не снимая, при этом, виртуальных площадей с баланса жилищно-эксплуатационных контор.
Пять из десяти комнат занимали студенты (иные из которых были давно отчислены из своих институтов), а три занимали настоящие профессионалы - две одинокие женщины неопределенного возраста, чьих имен я так никогда и не узнал и которые, живя через перегородку, общались всегда исключительно через нее же и всегда матом и, уже упомянутая мной, татарка Порфирьевна. Та, точно было известно, жила с мужем или сожителем, пьяный бубнеж которого ежевечерне проникал в коридор сквозь тонкие фанерные стены, но, которого никто никогда не видел. В «квартире», дверью напротив моей, жил студент медик, который представлялся, исключительно, как Кириллов. Было видно, как ему ужасно хотелось, чтоб его называли «доктор Кириллов» (подумать только – третий курс, а по нему уже психиатр вздыхает). Далее, жил аспирант физфака МГУ. Такой тощий, что мне было не понятно, как он справляется с движком (так, профессионально правильно называть дворницкую снежную лопату). Звали его Леонид. Вся его комната была завалена книгами и он, даже, казалось, сам источал плесневелый запах библиотеки. Две следующие комнаты занимали студенты «Плешки». Сколько их там жило на самом деле, вычислить было невозможно. Все они были дагестанцы. Непонятно, вообще, кто из десятков их посетителей действительно числился дворником (и все ли они были студентами), ибо, выходили они на участок либо толпой, либо по одному, но всегда разные. Две крайние комнаты – были блатными. Это значит, что Порфирьевна заметала свой и еще два участка, а, неизвестно кто, получал зарплату за эти участки и отдавал ей. Царица Тамара (так я ее прозвал), техник-смотритель нашего ЖЭУ, о которой разговор особый, просто-напросто, сдавала эти комнаты по своему усмотрению и для целей, на свое же усмотрение. По звукам, иногда доносившимся из этих апартаментов, можно было выстраивать самые смелые догадки но, мы не утруждали себя таковыми. Всяк, кто молод - спит крепко. Хотя бы потому, что вставать ему ни свет ни заря, а ложится студент поздно. Наши же старушки-профи, хоть и судачили промежду собой, да на людях помалкивали.
Я, в известном смысле, имел привилегированное положение. Дело в том, что моя «квартира» находилась в торце коридора. Часть этого коридора была когда-то кем-то «приватизирована» и отгорожена таким образом, что стала второй комнатой. То есть, в отличие от прочих жильцов, я занимал две смежные комнаты. Впрочем, ни у кого это не вызывало зависти. Есть у юности и это удивительное свойство, ибо, не завидует тот, кто собирается, в самом ближайшем будущем, владеть всем миром.
Вот так выглядел этот странный дом номер тринадцать по Оружейному переулку вначале осени 1977 года от Рождества Христова.
Время усмехнулось и огляделось по сторонам.
- Да. Иногда мне кажется, что есть какой-то, пусть, конечно, и метафорический смысл в вашей фразе «время не властно над ним». По моему скромному разумению, этот дом должен был превратиться в пыль лет двадцать назад. Я и не такие постройки уничтожало.
- Порой я думаю, - вздохнул рассказчик, - что этот дом меня дожидался. Будто знал, что через двадцать пять лет я в него вернусь. Магазин уже другой, но площади свои, как занимал, так и занимает. Наверху, где я тогда жил, теперь какие-то офисы. А подвал не тронули. Как для меня берегли, - опять вздох.
- Да что ты пыхтишь, Палыч? – подбодрило Время. - Судьба, мой друг. Я слышало, вы ей верите больше, чем себе. Это, конечно, глупо. Единственная судьба, которой можно верить – это я. Но что об этом говорить? Вы же живете спиной. Вам ничего и не остается, как называть судьбой всякую случайность.
- Случайность. Что, собственно ты понимаешь под этим словом? В русской семантике, случайность – это, всего-навсего - «случать». А что такое «случать»? Это значит - подводить корову под быка (Золя это действо подробно описал). То есть, это конкретные, целенаправленные действия, связанные с продолжением рода. Ну, то есть, специальные разумные действия, с конечной целью. Вот и вся твоя случайность.
- Ну-ну. Не цепляйся к словам. Поставь знак тождества между случайностью и неизбежностью и рассказывай дальше.
Ноябрь скатился
- Ноябрь скатился к декабрю, - запыхтел трубкой Арсений Павлович, вновь погружаясь в воспоминания. - По утрам подмораживало. Листья давно опали. Горы мокрых полусгнивших останков их были добросовестно убраны трудолюбивой нашей братией и вывезены за город соответствующими службами. Снега не было. Ровное плотное серое небо без облаков. Тихо. Ясени словно ощетинились своими черными точеными ветвями, опасаясь надвигающейся лютой московской зимы. На них любопытно смотреть, когда проглядывает через их густую черную паутину унылое осеннее московское солнце. Они, тогда, как в калейдоскопе, с каждым новым ракурсом образуют из себя новый фантастически-точный узор. Ну а если вдруг прилетит в этот неземной круг черная птица, то... Как же жаль, что я не художник!
Великолепная пора для дворника. На уборку участка я теперь тратил не более пятнадцати минут. Уже цивильно одевшись ехать в институт, я брал пакет и просто обходил свою повинность – двести линейных метров тротуара третьей Тверской-Ямской, собирая фантики и окурки. Затем выбрасывал пакет в мусорный бак, шел на троллейбусную остановку на Триумфальной и садился в «Букашку» (так любовно москвичами назывался троллейбус с литерой «Б», курсировавший по Садовому кольцу).
Так было и сегодня. Один троллейбус я пропустил, интуитивно почуяв, что в нем будет контролер и сел во второй. Мы не платили за проезд не потому, что было жалко четырех копеек. Просто, среди студентов, платить за билет считалось дурным тоном. Опускались мы до оплаты, только если везли девчонок в бар или в театр. Чаще в бар. По деньгам, воздаяния и Мельпомене, и Бахусу обходились одинаково, а удовольствия больше, все ж таки, в баре. Уж если и не выгорит вечер в смысле секса – то хоть выпьешь, потанцуешь, музыку послушаешь.
Да и вообще, театры я не любил. Эти бутафорские декорации, обветшалый реквизит. Вишневый сад в виде полуистлевшего пыльного тюля с приклеенными бумажными листочками. Лорд Генри, во фраке, с заплатами на локтях и, отвисающей жидкой бородой, оборванной подкладкой. Музыкальное сопровождение - будто на патефоне моей бабушки... И вот, что мне уж совершенно непонятно – зачем же так кричать. Почему, даже самые тонкие, чувственные диалоги, ну, пускай, «сцена на балконе», нужно произносить с таким надрывом? Там, за дверьми балкона зовет кормилица, девочке надо говорить быстро и тихо, а тринадцатилетняя Джульетта, актриса сорока лет, вместо того, чтоб нежно шептать, орет, как резанная:
«Мне не подвластно то, чем я владею.
Моя любовь без дна, а доброта -
Как ширь морская. Чем я больше трачу,
Тем становлюсь безбрежней и богаче».
Тут Джульетта, вроде бы, уже уходит, и Ромео (тоже сорока с хвостиком) следовало бы почти про себя - но нет - он воет болотной выпью:
«Святая ночь, святая ночь! А вдруг
Все это сон? Так непомерно счастье,
Так сказочно и чудно это все!»
Потом. Почему при диалогах, когда люди, казалось бы, должны разговаривать стоя друг портив друга - они разворачиваются фронтально к залу и, опять-таки, все свои тексты, перекрикивая партнера - во всю силу своих легких?
Или балет, к примеру. С галерки ты ничего не увидишь. Бинокль только мешает, дезориентирует. А достанешь в партер – так за топотом да шарканьем танцоров музыки и не услыхать.
Блистательна, полувоздушна,
Смычку волшебному послушна,
Толпою нимф окружена,
Стоит Истомина; она,
Одной ногой касаясь пола,
Другою медленно кружит,
И вдруг прыжок, и вдруг летит,
Летит, как пух от уст Эола;
То стан совьет, то разовьет
И быстрой ножкой ножку бьет.
Может, во времена Пушкина, они как-то помягче прыгали? А, может, балет сегодня стал поатлетичнее? Во всяком случае, этот «пух Эола» сегодня так брякнется, что, гляди, паркет проломит. Чайковский – это же сам Бог, а тут – кавалькада кордебалета, как рота солдат.
Короче говоря, я могу терпеть только оперу. Там глаза не нужны, там все – голос и музыка. Там никто не топает, там, в оркестре, каждый второй – гений, там не жалеют на костюмы, Там задник по эскизам Бакста, Врубеля. Но – это Большой. А в Большой не очень-то и попадешь, да и всю стипендию просадишь в буфете. Это ж надо! Бутерброд с икрой – рубль двадцать (два полных обеда в студенческой столовой), стакан «Буратино» - тридцать копеек (дороже чем целая бутылка вместе с посудой, если в магазине покупать). Сердце кровью обливается. Да ты еще не смей и виду подать даме, что тебе жалко. Расплачивайся так, будто пирожки на вокзале берешь. Денди из Литвинова, в братовом пиджаке и отцовом галстуке! Черт! Сам-то я понимаю, что и она в платье, которое одно на четверых в общажной комнате. Что на колготах две заштопанные затяжки повыше колена и она их программкой все прикрывает. Да черт бы с ней. Мое-то тщеславие как страдает!.. Ну и кошелек, конечно.
Нет. Лучше в бар. В баре коктейль «Шампань-Коблер» - рубль девяносто, с вишенкой. Музыка на качественной аппаратуре, дым коромыслом. Да и подруга твоя не Чадскому - тебе внимает.
Я протер запотевшее стекло – проезжаем Лермонтовскую. Через одну - кинотеатр «Новороссийск» - моя. Пара по высшей математике, потом по минералогии, затем, по ней же семинар. На математике посплю, а минералы послушаю. Не знаю почему, но то, что внутри, мне всегда было интереснее, чем то, что снаружи. Потому, наверное, что то, что на поверхности, оно и так видно. Если такая красота сверху земли – что же тогда творится в глубине! Геология – хорошая дисциплина. А вот препод по семинару заболеет и я потащу Аленку в бар на Разгуляе. Не плохо бы Юрца прихватить с собой. Юрка – мой друг. Любимец всех женщин. Двухметровый красавец с черными прямыми волосами, обрамлявшими мужественный овал лица. Прямой нос, чуть заметно, на сторону. Тонкие губы и голубые глаза. Ему бы в Голливуд. Боксер и забияка. Мне нравится ходить с ним в бары. Там нас никогда никто не трогает (надираются, бывает, но до драки доходит редко. Побаиваются.) и вокруг нас полно девчонок. Разок нам пришлось туго, но кончилось всего парой синяков и великолепными воспоминаниями. С ним и весело, и безопасно. Елоховка – плохой район.
Откуда-то, я точно знал, что семинара не будет.
Аленка
Аленка поступала четвертый год подряд, на этот раз, на «оптику» и, провалила сочинение. Теперь работала на кафедре геологии лаборантом. Меня поразили в ней пропорции. Никогда я не видел такой огромной груди при таком субтильном теле. Вообще, она совсем не в моем вкусе. Черные, блестящие, как расплавленный вар волосы и такого же цвета глаза. Никогда мне не нравились черные глаза. Дыры какие-то. Сильное чувство, ну, там, гнев или бешеную страсть, в них еще увидишь. А вот чуть чего потоньше – все, как в яме тонет.
Время недовольно покашляло.
- Ой, прости, - осекся Арсений Павлович, взглянув в бездонно-черные глаза Времени. – Это ж я о людях…
- Однако, эта грудь..., - поспешил продолжить он. - Так и хотелось прижаться к ней и целовать, целовать, раствориться в ней. Может, не правы психоаналитики. Не детство в нас формирует сексуальность, а, наоборот, сексуальное в нас пробуждает детство? Впрочем, как говорит их классик – бессознательное сексуально, а сексуальное – бессознательно. Так или иначе, меня к Аленке влекло.
Одна беда. Как я ни врал приятелям - я еще ни разу не был с женщиной. Все мои, не только эти, но и вообще, все мои знания – из отцовской огромной библиотеки. Пользуясь положением номенклатурного работника, он доставал какие угодно книжки. И «запрещенные», в том числе. А я их читал. Однажды, «обжимаясь» с одноклассницей в школьном спортзале, в кладовке, где хранились спортивные маты, я кончил прямо в штаны. Я отчетливо помню все свои ощущения. Ощущения опустошения и..., отвращения. Историю для рассказов я, конечно, дофантазировал и разукрасил подробностями из книг вперемежку с побасенками, подслушанными у ребят постарше. Получилось пошловато, но, вроде, верили. Слушали со вниманием, но, как мне казалось, только чтоб дождаться своей очереди рассказать свою выдумку.
Теперь же, когда ничто не препятствовало мне пригласить девчонку к себе в «дворницкую», я стал страстно хотеть и, в то же время, серьезно опасаться того, как останусь один на один с женщиной. Чего я боялся? Ну, во-первых, того, что опять кончу в штаны. Во-вторых, я понимал, что я просто не знаю, что говорят и как действуют, в случаях, когда перед тобой обнаженная и совершенно готовая к сексу женщина. И, как ни странно, но главное, чего я боялся – что она увидит мою неопытность, что она, внутренне, будет смеяться надо мной, а потом и ославит перед своими подругами. Видимо поэтому, мой выбор пал на лаборантку. Потому, что она никак не знакома с девчонками курса и, в случае провала, не сможет раззвонить на потоке. Потом, ей было двадцать два года (старше меня на шесть лет!). Уж наверняка она все умела и знала. Я всерьез рассчитывал на снисхождение.
- Юр, поехали сегодня в «Разгуляй», - начал я на минералогии.
- Не-е, - сонно отвечал Юрка, - у Аньки вчера месячные начались. К тому же, сегодня сдавать лабораторную по разрезам. Ты сам-то сделал?
- Да не будет сегодня никаких лабораторных.
- Ты почем знаешь? Во было бы здорово. Я ни хрена не сделал, - поморщился Юрка.
- Юр, давай так. Если лабораторку отменят – ты со мной. По рукам?
- С чего это ее отменят?
- Саныч заболел.
- Сведения точные?
- Если были бы точные, я бы пари не заключал. Я просто так чувствую. Есть же и у тебя твои собственные чувства? Ну не чувства, так чаянья. Вот их и поставь на кон.
- Не, Семен, ты слыхал? – толкнул Юрка в бок своего соседа, - наш Арсений имеет предчувствия по поводу безвременной кончины Сан Саныча Юзефовича.
- Ты, Юра, забыл, - отозвался Семен, - что, в последнее время, наш Арсений ни разу не ошибся. Даже дождь предсказал перед парадом на седьмое.
Семен - самый разумный среди нас. Невысокого роста, крепкий и сухой, с въедливыми карими глазами, будто, всегда готовыми сказать: «Приятель, ты не прав». Когда он начинал говорить, то бледные его веснушки вдруг становились темно-красного цвета, будто вспыхивала разлетевшаяся от спички сера. Таким людям подвластно все. Все, кроме наития. Однажды, он сказал, что все, до чего додумается гений, додумается и он сам, разбив проблему «по квадратам» и, если прорабатывать дотошно каждый из этих квадратов - обязательно наткнешься на «то самое». Когда я ему заметил, что на это потребуются, может быть, века – он сказал, что гениальное того стоит. Он всегда легко умел скрыть свое мнение, но я точно знаю – он его имел всегда. Я люблю Семена, пожалуй, потому, что мне, как раз, не хватает этого льда. Все у меня плавится к чертовой матери, мысли, мнения. Вся моя эстетика имеет горячо-оранжевый цвет.
- Алё, галерка, - прервал свою лекцию профессор Иткин обращаясь к нам, - у вас, возможно, есть что сказать о геотектонике мелового периода? Прошу покорно сюда. – Профессор сделал картинный реверанс. - А нет, так с той же покорностью прошу вас, господа, заткнуться.
Зяма Иткин. Один из немногих преподавателей, что мне нравились. Из стариков – не теперешних. Он так любил предмет, что читал, казалось, забывая об аудитории. Увлекшись рассказом, он мог, к примеру, перепачканной мелом рукой почесать себе гениталии, стоя на кафедре перед двумя сотнями студентов. Но не любил, когда ему мешали. Через мгновение он снова был в меловом периоде.
- Ну, так что? – прошептал я.
- Заметано, - кивнул Юрка, - но скажи, Арсений, я-то тебе зачем? Тебе с Аленкой, казалось мне, свидетели не нужны. Пожарной Машины не будет (так он называл Анюту, последнюю свою пассию, за то, что она всегда ходила только в красном). Что я там буду сидеть, как сыч?
- Юрец, ты же знаешь, я с ней не спал. Но сегодня, я чувствую, это произойдет.
- Опять он чувствует. У тебя что, барометр вместо члена? Да и мне, что прикажешь делать, свечку вам держать? – Юра вдруг задумался. Потом перешел на совсем низкий шепот, - постой, Арсений, это у тебя что, вообще в первый раз, что ли?
- Я знал, что догадаешься. Могу я тебе верить? Ты не разболтаешь?
- Арсений. Мне было тринадцать. Когда я очнулся, я был уже мужчиной. Я и до сих пор не знаю, что человек испытывает в такой момент. Пролетело это мимо меня. Расскажешь потом?
- А ты пойдешь? Мне так легче будет. Посидишь с нами в баре, пока я куражу наберусь. Да и, вообще, не ясно, поедет ли она.
- Ха. Поедет ли. Да полетит быстрее ветра.
- В общем так, - взревел профессор Иткин, - вы, вот вы двое, тыкал он своей черной указкой, в нашу с Юркой сторону.
- Да будет вам известно, господа, что нет ничего громче, чем шепот. Когда человек переходит на шепот, то окружающие, самопроизвольно, переключают свои эхолоты на пониженную частоту. Таким образом, милые мои ловеласы, ваша, так сказать, интимная тайна, теперь есть достояние всех. Всех, черт возьми, - взорвался профессор, - но, черт возьми, не морфологии! Вон из моей аудитории, немедленно! Мы, так и быть, подождем. – Скрестил он руки на груди. - Правда, господа? мы ведь подождем, когда нас оставят в покое эти..., - профессор не находил слов от гнева, - эти... исследователи... чрева... земного.
Тут он резко повернулся к доске и начал что-то писать. Мы мигом вылетели за дверь.
- Во, чокнутый, - вскричал Юрка, когда мы попали в коридор, – эхолот хренов. Теперь нас, поди, в голубые запишут.
- Врал он все. Это только у него такой слух. Ты, Юра, за три месяца полфакультета перетрахал. Кто тебя в голубые запишет?
- Один черт, как-то не по себе.
- Да бес с ним. Пойдем на кафедру.
Кафедра
Кафедра геологии находилась в третьем этаже старого корпуса института - бывшего особняка Ивана Демидова работы Матвея Казакова. Пока мы шли, я начал нервничать. Меня самого, в последнее время, стали беспокоить мои «угадывания». Ничего плохого в том не было. Даже здорово, когда предполагаешь, что произойдет в следующую минуту, а, затем, оно так и выходит. Но сейчас я волновался странным волнением. Не понимал, хочу я или не хочу, чтобы сбылась отмена семинара. Дело было даже не в этом предчувствии. В другом. Что будет потом, после бара? «Да и будь, что будет, - решил я, наконец, - нарежусь поосновательней, а там – вывози, родимыя!»
- Привет, ребята, - донеслось откуда-то сверху, когда мы вошли в архив кафедры.
Аленка стояла на высокой стремянке и ворочала ящиками с образцами минералов. Она была в короткой черной юбке, черных сапогах и красном свитере. Казалось, ее совершенно не смущало, что мы стоим внизу, прямо под ней. Впрочем, юбка была обтягивающей и ничего не было видно. Но вдруг она что-то выронила и резко присела пытаясь поймать кусок какого-то там колчедана. Тот, не удержавшись в ее руках, с грохотом ударился о паркет и покатился под стеллаж. Юрка бросился его доставать, а я превратился в соляной столб. Аленка стояла перегнувшись через планку стремянки, и руководила Юриными поисками. Ее юбка теперь раскрылась, как колокольчик, предоставляя моему взору все то, что ему видеть было не положено. Не знаю сколько я простоял, только вскоре ощутил на себе пронзительный взгляд. Из-под руки, которая показывала Юрке где искать, на меня глядели черные Аленкины глаза. В них не было ни искорки смущения, лукавства или презрения. Алена смотрела на меня совершенно серьезно, будто изучая мою реакцию. Тут, горячая волна захлестнула меня. Я резко отвернулся. Мысли вперемежку с образами прыгали в пылающей голове, словно зайчики. В ушах шумело. Джинсы, чуть не лопались от известного напряжения. Но, будто сквозь густой туман, я понимал одно – ЭТО произойдет сегодня.
- А вы знаете, Сан Саныч-то заболел. Позвонил, сказал отменить занятия. - Аленка уже стояла внизу и оправляла юбку. – Давайте, сходим куда-нибудь.
Она обращалась к нам обоим, но смотрела прямо мне в глаза и я будто слышал: «Поехали к тебе, Арсений, ничего не бойся».
- А поехали к Арсению, - вдруг резанул Юрка.
Кровь, все пять литров которой в последние пять минут скопились в моем черепе, резко рванула вниз так, что я чуть не рухнул на пол. Мысли и образы последовали за ней, и теперь в ушах стоял какой-то звон, как будто в горном ущелье прозвучал выстрел и звук этот начал перекатываться неубывающим эхом от скалы к скале.
- К Арсению? – Аленка плохо играла удивление.
- А что, - почти смеялся Юрка, глядя на меня, - живет этот куркуль в центре Москвы, в двухкомнатной квартире, один, как перст. И еще ни разу никого не пригласил.
- Да ты с ума спятил, что ли!? – наконец очнулся я, - ты видал эти комнаты. Не слушай его, Аленка. Сарай, с клопами да тараканами, общий сортир на двадцать душ, горячей воды нет. Это же дворницкая, дворницкая, понимаешь!..
- Ой как интересно, - захлопала в ладоши Аленка, - никогда не была в дворницкой. Это как в Двенадцати стульях? С Тихоном и валенками, которые воздуха не озонировали? Поехали, поехали. И даже не возражай, Арсений.
Тут она подошла ко мне, и так вскинула на меня своими вишнями, что я сразу обмяк. «Чего сопротивляться, ведь ты знал, что так случится, - сказал я себе. – Решено. Но Юрку я потом повешу».
- Платишь за выпивку ты, сукин сын, - процедил я, когда Аленка пошла одеваться.
- Чего это ты злишься? Ты выиграл пари – я честно отрабатываю. Ты ведь этого хотел. Ну чего тащиться в кабак? Потом, один черт, в дворницкую. Не дрейфь, Арсений, все будет хорошо. Поверь старому развратнику. А вот про денежки уговора не было. Пополам, друг мой, прости, пополам, – Юркины глаза сузились, - и, даже, нет. Какого черта пополам? Ты берешь шампанское, бутылку водки и закуску. А я возьму бутылку водки для себя. Так будет справедливо. Он, видь те ли, будет плоть свою ублажать, а я еще тащись потом в свое Новогиреево. И, кстати, поведай мне, откуда ты узнал, что Саныч заболел? У вас с Аленкой сговорено было? Поня-ятно. Во гад какой.
- Я готова, ребята, пошли.
В троллейбусе мы сидели с Аленкой рядом. Она положила мне голову на плечо и, казалось, дремала. Дремала и... благоухала.
Я не разбираюсь в духах. Ни в духах, ни в их смысле. Знаю только, что не такое уж это последнее чувство - обоняние. Зюскинда я прочел без особого интереса. Вообще, сюжетная литература для меня – не литература. Так – капустник, включая «Войну и мир». Ну, ненавидел дед войну, ну, этот, прости Господи, Безухов, ну, этот дуб и двадцать четыре его ипостаси. О чем он написал – я даже сказать не смогу. Может, язык? Да – нет. Какая-то особая, никому неизвестная философия – опять нет. Глыба, мать его. К тому же, Пушкина не любил, сноб. В конце концов, самый популярный в мире сюжет - сюжет «Трех мушкетеров», Бекингем, подвески..., все это Дюма умыкнул у Ларошфуко, а тот, в свою очередь, описал совершенно реальную, достоверную историю семнадцатого века. Читай его мемуары. То есть – хотите сюжетов – читайте Геродота. Но, если предположить, что парфюмер Жан-Батист Гренуй реально существовал, то финальная сцена романа мне представляется вполне возможной. И, вообще, зрение и слух настолько «забили» остальные три чувства, что мне последних даже жалко. Пожалуй верно, что девяносто процентов информации человек получает через зрение. И, уж конечно, слепой куда как несчастливее глухого. Хотя, кому что. Как представлю Бетховена, который не может, по глухоте своей, слышать свою же «Оду радости» - мурашки по коже. Но кто сказал, что информация – это все. Если подумать – чувства определяют бытие человека никак не меньше, чем размышления. Так что ваши девяносто процентов властны лишь над пятьюдесятью процентами человека. Следовательно, у слуха и зрения нет контрольного пакета.
Сейчас, ее запах, тепло ее груди и вкус ее губ решали для меня гораздо больше, чем ее субтильный вид и звук ее нежного голоса. Не то, как выглядит, не то что говорит, а, прежде, запах, тепло и вкус. Было что-то еще, кроме пряного запаха ее духов. И это что-то - казалось мне главным...
- Подъезжаем, командор, - толкнул меня в плечо Юрка.
Я вздрогнул от неожиданности и, невольно, подтолкнул Аленкину голову.
- Черт, Георгий, нежнее надо.
- Грезишь, дворник? Какой я тебе Георгий?
- А какой я тебе командор, мать твою? – разозлился я, - Юрий – это славянская форма имени Георгий. Или не знал? Где мы?
- Самотека.
- Ты же говорил, что не был у него, - полусонно пролепетала Аленка потягиваясь, как котенок.
- Не был, век воли не видать..., в качестве шафера не был, - усмехнулся Юрка.
Она вовсе не смутилась, заметил я. За тот час пока мы закупались да ехали, я успокоился. И, казалось, почти уже перестал бояться. Меня больше сейчас заботило, в каком виде я оставил свой сарай. Я не очень-то чистоплотный. Раз в неделю я убирался в комнате, но это, как правило, был понедельник, а сегодня четверг.
Мы вышли на Каляевской. Дул, пусть и тихий, но пронизывающий ветер. Я посмотрел вверх. Три часа, а кажется, что семь. Свинцово-серое небо, чудилось, будто касалось крыш домов. Час тому - еще этого не было.
- Завтра навалит снегу, - поежился я, - а лопату мне еще не сделали.
Да сделали, конечно, только за ней ехать надо. Движок – инструмент тонкий, как объяснили мне бывалые дворники. Он должен быть из нержавейки, без единой зазубрины. Соединение с древком должно быть прочным, не на гвоздях – а приклепанный специальный железный паз. Ширина и глубина ножа должна быть выверена под тебя лично. С широким да глубоким устанешь за десять минут от тяжести снега, хоть и забирает эффективнее, больше. С маленьким – устанешь кидать. Все чертежи я согласовал с Рашидом, одним из дворников дагестанской диаспоры, который, по его словам, уж четвертый год заметает в Москве. Чертежи я передал отцу, а тот – в какой-то из подведомственных ему цехов. Движок был готов, и даже не один. Я заказал еще и широкий, двуручный, с железной П-образной рамой, на тот случай, если придется вызывать студенческую подмогу. Заказал я и скребок – металлическая труба с приваренной к ней небольшой пластиной, сантиметров двадцать на пятнадцать (соскребать наледь). Был заказан и специальный лом – обычный тяжелый лом, к концу которого приварен топор. Говорили – эффективнее обычного раз в десять. В общем, к визиту неласковой московской зимы я был готов. Но ведь за всем этим надо было ехать. Точнее, вызывать отцовский транспорт.
- Да вроде не обещали, - Юра застегивал куртку на последнюю пуговицу.
- Хочешь поспорить? – улыбнулся я.
- С тобой спорить, что против ветра...
- То-то.
- И, кстати, - оживился Юрка, - ну-ка колитесь ребята, когда сговорились на счет Сан Саныча?
- О чем сговорились, - честно удивилась Аленка.
- Ну, о том, что его, один черт, не будет.
- Да он мне позвонил за пять минут до того, как вы вошли. Я и полезла убирать минералы.
- Да-а? - Юра многозначительно посмотрел на меня.
- Что ты дакаешь? Я тебе сказал – твои чувства против моих.
Мы подходили к дому №13 по Оружейному переулку.
Дворницкая
Я включил свет. Два оранжевых таракана, забредшие ко мне во внеурочное время, нервно забегали по белому кухонному столу, затем, быстро, по его ножкам, спустились на пол и исчезли между обувной полкой и метлой. Кухня служила мне еще и прихожей, и складом инвентаря (лень было относить в сарай дворницкий арсенал, а ведро и совок пригодны были и для домашних целей).
- Ну, милости прошу. Не моя была идея ехать сюда, не вам мне и пенять.
- Тепло, - поежилась Аленка и стала осматриваться.
Кухней я называл ту самую, приватизированную вторую комнату, оттяпанную от коридора. Она была небольшая, где-то три на три метра. Посредине стоял вышеупомянутый стол. Три стула (все разных мастей, от венского до брутально-авангардного) окружали его с трех сторон. Четвертым боком стол упирался в стену, оклеенную грязно-розовыми обоями с когда-то золотым рисунком. Над столом свисал на витом проводе в тряпичной оплетке черный патрон с лампочкой. Абажура не было. Почти во всю противоположную столу стену громоздился видавший виды сервант с округлыми боками и мутно-матовыми, обильно захватанными многочисленными его предыдущими владельцами, стекляшками дверок. Он мне служил складом провизии (в основном макароны, гречка, хлеб, консервы). Как я ни заворачивал все это в целлофановые пакеты, но в них поутру всегда обнаруживался какой-нибудь рыжий сосед. Там же хранились кастрюли, тарелки, чашки и прочая. Сверху серванта, на железном, родом с помойки листе, стояла электрическая повидавшая жизнь ржавая плитка с нихромовой витой нитью, змеею уложенной в потрескавшийся керамический остов, а рядом лежал киловаттный кипятильник с когда-то обгоревшей и теперь перемотанной синей изолентой вилкой. Между входной дверью и сервантом, на полу, стояло эмалированное, зеленого цвета, ведро с черной крышкой, в которое я набирал воду. Там она отстаивалась и, через сутки, немилосердно хлорированная московская вода становилась пригодной нежному подмосковному желудку. В дальнем углу недружелюбно рычал приземистый, костяного цвета холодильник «Север» с истлевшим уплотнителем и поломанной железной ручкой.
Широкий (метра два) проем между кухней и комнатой «украшали» две шелковые зеленые занавески, которые, своей чистотой, вступали в конфликт со всем прочим убранством интерьера «квартиры» в силу того, что единственно они были привезены мной из отчего дома (да еще, конечно, постельное белье и зеленое плюшевое покрывало). Все остальное – наследие предыдущих хозяев да той пресловутой кучи, что громоздилась в холле.
Убранство второй моей комнаты выглядело совершенно нелепо. Ровно посредине нее стояла огромная высокая двуспальная кровать времен Людовика четырнадцатого, как пошутил как-то кто-то из моих приятелей, на металлических ножках. Верхние окончания стоек кровати венчали три львиные головы, выкрашенные серебристой краской, облупленной на носах и окончаниях грив этих достойных животных. В трубу четвертой стойки была вставлена эбонитовая ножка настольной лампы с зеленым абажуром. К спинке кровати был придвинут огромный двухтумбовый стол с гнутыми ножками в виде, скорее всего, львиных лап и зеленым, прожженным в нескольких местах (уже мной) бархатом. Стол этот служил мне одинаково, как для занятий, так и для студенческих застолий (больше для вторых, конечно). На стене висела пара железных полок с книгами. Слева от одного из двух узких окон, наполовину его загораживая, стоял, на некотором удалении от стены, двустворчатый шкаф темного (видимо, когда-то, светлого) дерева. В створки шкафа автором изделия задуманы были два зеркала. Сегодня в наличии оставалось только одно, мутное, обильно усиженное мухами стекло, с витиевато отколотым правым верхним углом и выдававшее, в силу каких-то неизвестных мне физических законов, двойное изображение. Сверху шкафа выглядывал гриф моей гитары с пошлым, чьей-то игривой девичьей рукой, повязанным розовым бантиком, концы которого изрядно поистрепались и, чувствовалось, повидали пыли. Оба окна были плотно занавешены ситцевыми шторами в когда-то красно-черных цветах, из-за которых даже просматривался желтый от времени и никотина, тридцатых годов тюль. Довершала сию картину огромная, не по габаритам комнаты, шестирожковая чугунная люстра. Плафонов не было. Из шести ввернутых лампочек горели только две. Если бы я не прокоптил немилосердно комнату сигаретным дымом, здесь пахло бы плесенью.
Аленка была похожа на тонкую молодую рябину, которую клонит шаловливый летний ветер. Она стояла и всматривалась, наклонив головку так, как если бы примерялась, как она будет здесь жить. Всегда видно, когда женщина смотрит с любопытством, а когда с интересом. Любопытство - лишь слегка оживляет женские черты, тогда как практический интерес их преображает. Лицо делается одухотворенным, в глазах загорается, нет, не мысль - но огонь обладания. На щеках появляется румянец, а улыбка становится загадочной (иногда, если не умеет скрыть, даже алчной). Если и есть описание сексуальной женщины, то это, как раз – женщина с прагматическим интересом. К обычному природному движению души ее добавляется желание иного содержания, многократно усиливая женскую чувственность или чувственную женственность (как вам угодно). Впрочем, в этот момент я не был столь аналитичен в оценках, я видел только ее сексуальность.
Она сняла куртку, подала ее мне, снова обдав меня своим незабываемым запахом, а сама быстро подошла к кровати и присела на корточки.
- А это, Арсений, зачем? - Алена указывала на ножку кровати.
Действительно, это казалось странным. Каждая ножка была «обута» в использованную консервную банку и в каждой банке была налита вода.
- А я ведь предупреждал – не стоит сюда ехать, - вздохнул я. – Клопы, милый друг, кло-пы. Эти гады ползают по стенам и полу и я, наивный, думал, что таким способом обману их.
- Из-за них кровать посредине? - догадалась Аленка. – А почему наивный?
- Лежу я как-то, читаю на ночь. Вдруг, вижу, ползет по потолку этот подлец. Ползет, доползает до средины комнаты, ровно над кроватью и, что ты думаешь? – начинает планировать, кружась и переворачиваясь, будто осенний лист. И прямо ко мне в постель.
- Во, черт, - поморщилась Аленка, видимо, живо представив эту картину.
- А ты по периметру голый провод в двести двадцать пустил бы, – усмехнулся Юрка выставляя бутылки и закуску на письменный стол.
- А ну их, - воспринял я всерьез Юрину шутку, - они тогда со стен научатся прыгать. Дарвин, мать его. Я читал про них в БЭС. Их тридцать тысяч видов по всей земле. Это больше, чем у любого живого существа. В анабиозе они выдерживают температуру, близкую к абсолютному нулю. Им не страшна радиация. А вот если тебе снится, что ты давишь клопа – это значит, что ты испытываешь бессознательное сексуальное влечение к несовершеннолетним детям, да еще с садистскими потугами.
- Господи, и откуда ты берешь всю эту чушь? Давай, лучше, нож, тарелки, рюмки. Будешь ты хозяином, в конце-то концов?
Я пошел к Леониду, стрельнуть газет. У меня-то их никогда не было, потому, что я их не читал вовсе. Дома, отец выписывал «Правду», как партработник, а как человек интеллигентный (странное сочетание для того времени) – «Литературку». Вот ее я почитывал. Но здесь... Утром на участок, затем, в институт, потом, в читалку или в пивную, далее, спать, а завтра – то ж. Если уж и было время для чтения газет – так это воскресенье, но я его тратил на поездку домой. Отдать матушке постирать белье, помыться, одеться в чистое, поесть по-человечески. А вечером – в Оружейный. В общем, режим тяжкий. Удивительно, но если я и успевал по предметам, то только благодаря метле. Она не позволяла мне расслабиться.
Я расстелил газеты, достал из серванта нож, вилки, тарелки и стаканы. Рюмок у меня не было, зато, были пивные кружки в неограниченном количестве. Их мы воровали почти после каждого посещения пивной. Зачем мы это делали – не знаю. Наверное, это было побочное явление социалистического воспитания. Все вокруг воспринималось нами, как своё, так что мы даже воровством это не считали. Позже, я прочел, что именно воровством определял еще Карамзин суть русского (отнюдь не советского) менталитета. Кстати, происхождение моих вилок и ложек было таким же - из студенческой столовой. Тарелки, сковородки и кастрюли я привез из дома. Стаканы, однако, были из какой-то забегаловки.
Аленка взяла один из них и, сощурившись, посмотрела его на свет.
- Арсений, а есть у тебя сода?
- Нет. На кухне на раковине вроде была, а тебе зачем?
- А где кухня? – Аленка теперь стала похожа на заботливую наседку.
- Юр, покажи. И..., заодно..., и туалет покажи. Чтоб уж навсегда отбить охоту делать визиты в московские трущобы.
Юрка сгреб стаканы и сказал: «Пойдем, хозяюшка». Видно было, что Юрке нравится его новая роль сводника. Он и был на два года меня старше, но сейчас, выглядел лет на двадцать пять, эдакий старший брат.
Аленка по-хозяйски сняла с вбитого в торец серванта гвоздя полотенце (благо еще не грязное), повязала его, как фартук и они ушли. Я нарезал хлеб, колбасу, открыл консервным ножом банку с голубцами, поставил ее на электрическую плитку и воткнул вилку в розетку. Затем, принес стулья из кухни, включил кроватную лампу, освещавшую мне, заодно, и стол, когда я занимался. Выключил люстру. Комната озарилась мягким изумрудным светом, показавшимся мне в эту минуту каким-то таинственно-завораживающим. Грязные, в бурых пятнах раздавленных клопов стены, ржавые книжные полки, одноглазый шкаф - все потонуло в волшебном сумраке. За окнами совсем уже стемнело. Казалось, есть только ярко освещенный стол и кровать. Я подошел к кровати и поправил подушки и покрывало. «Как Наполеон, осматриваю поле будущего сражения», - усмехнулся я про себя. Странно, но страх, который еще недавно так парализовывал меня, испарился вовсе. Эта совсем интимная атмосфера, этот Аленкин импровизированный фартук... Да именно фартук. Полотенце целиком скрыло ее юбку так, что я будто впервые увидел, какие у нее стройные ноги, и она показалась мне такой домашней, будто жила здесь всегда.
- Что, клопа увидел?
Ребята стояли в проеме между кухней и комнатой. Аленка была уже без «фартука». Юрка готов был разразиться хохотом. Это вывело меня из оцепенения. Я вдруг понял, как, наверное, нелепо смотрюсь вот так, стоя перед кроватью с глупой блуждающей улыбкой на лице.
- Что-то приснилось, командор? У тебя тут, прям, новогодняя ночь. – Юрка раскинул руки, как бы пытаясь ухватить этот волшебный зеленый свет. - А в такую ночь, как мы знаем, случается всякое…
Юрка продолжал балагурить, но теперь меня это уже не смущало.
- Как у тебя уютно, Арсений. – Аленкин голос тоже показался мне совсем иным, именно, домашним.
- Юр, там, наверное, разогрелось, давайте к столу, что ли, - решил я вести себя радушным хозяином.
Юрка поставил стаканы на стол. Они сверкали как хрустальные, что, действительно, вкупе с шампанским и водкой, придавало столу совершенно рождественский вид. Юрка пошел за голубцами. Я открыл шампанское, затем, водку. Юрка вернулся с дымящейся банкой, которую поставил на тарелку.
- Давайте я вам разложу, - Аленка приняла у него блюдо с банкой, - а то эта жестянка весь вид портит.
Она разложила голубцы по тарелкам, Юрке и мне.
- А ты, Алена?
- Мне колбасы хватит, - она подцепила ухоженными ногтями кусок колбасы и положила на хлеб, - командуй, Юра.
Юра взял шампанское и разлил по стаканам. Оно весело зашипело, заиграло на призрачном свету, выбрасывая в воздух мелкие брызги, которые, взлетая над пеной, лопались, разнося почти невидимые глазу вспышки, как праздничный фейерверк.
- Ну... за новый, в вашей жизни год, за таинство рождества, - улыбнулся он.
Я хотел, было, что-то возразить, но Алена быстро положила свою теплую узкую ладонь на мою. Мы выпили молча.
Черная птица
Я сидел за столом поджав под себя ногу, подперев голову рукой, курил и смотрел на спящую Алену. Черные волосы ее рассыпались по подушке, как крылья какой-то неземной черной птицы, которая, устав от длительного перелета, рухнула без сил на прибрежный белый песок. Большие черные ресницы закрытых ее глаз давали длинную тень от лампы и от этого чудились просто огромными. Спелые ее губы были чуть приоткрыты и, притом, что в полумраке казались почти черными, я так и видел, как они горят алым соком. Она лежала ногами ко мне, так что прямой свет от лампы не попадал ей на лицо, и освещена она была лишь тихим сиянием абажура. Обе руки, ладонями вместе, она положила себе под щеку, как ребенок, от чего ее великолепные груди, прижавшись друг к дружке, виделись каким-то фантастическим плодом из райских садов. Все остальное ее тело было покрыто простыней, которая еле заметно вздымалась от ее мерного дыхания. Было в ее облике что-то совсем детское, беззащитное, совсем непохожее на то, что я ощущал по отношению к ней еще час назад. Час назад, я был целиком в ее власти.
Я налил себе водки и выпил. По крови тут же растеклась теплая волна. Пробежав по всему телу и набрав силы она вернулась, и накатила на голову. Все картины этой ночи стали вновь всплывать в моей памяти.
Юрка, отдать ему должное, ретировался, даже не выпив своей обычной нормы – бутылки водки. Я-то, как раз, налегал, потому, что чувствовал, как дневной страх начинал снова подкрадываться ко мне. Посидев час, Юрка просто взглянул на часы, и, сказав «пора», оделся и ушел. Я, весьма уже захмелев к тому моменту, не стал возражать, скорее потому, что на какое-то время, буквально, позабыл о том, что должно воспоследовать дальше.
Как только он ушел, отпустив, впрочем, какой-то очередной полунамек, Алена встала со своего стула, обошла стол и села на столешню, рядом со мной, так близко, что я снова ощутил тот пьянящий аромат. Она налила себе шампанского, а мне - больше полстакана водки (обычно, мы наливали меньше).
- Хороший у тебя друг, Арсений. Давай выпьем за него.
Она назвала меня по имени, как обычно, но, похоже, впервые мне понравилось, как звучит мое имя. И еще, я, неожиданно понял, что ее зовут Аленушка. Как в сказке.
- Юрка-то? – спохватился я, - хороший. Драчун только. Не доведет его это до добра... Да и меня вместе с ним.
- Ну вот и выпьем, чтоб не довело. А вы что, много деретесь? – Алена положила ногу на ногу так, что ее колено в черных колготках оказалось совсем близко и этот дурманящий запах стал еще сильнее. Это были не духи – это был ЕЁ запах.
- Да нет. Дерется он, а я только задираюсь. Точнее, задираются ко мне.
- Что, серьезно?
- Так получается, Алена. Я не понимаю, что во мне такое. Может, выгляжу как-то не так, или говорю что-то не то, да только, пристают в барах всегда именно ко мне, а мозги вышибает потом он. Мне всего-то один раз досталось, да и то, потому, что их было пятеро. Четверых Юрка раскидал, а пятый мне врезал. Я не герой, Аленка.
- К тебе пристают обыкновенные люди, Арсений, за то, что ты необыкновенный.
С этими словами она погладила меня по щеке и взглянула так ласково, что я чуть не утонул. Если есть нежность в чистом виде, то сейчас это была она. Аленка подала мне мой стакан.
- Давай выпьем за твоего друга, за то, чтобы он всегда тебя охранял.
Мы выпили.
- Жаль, что у тебя нет музыки, - окинула она взглядом комнату.
- Отец обещал дать денег, если сессию хорошо сдам. Но это не проблема. Я сейчас.
Я сбегал к дагестанцам и вернулся с кассетным магнитофоном, включил в розетку у стены. И вернулся на место. Стаканы вновь были наполнены. Заиграла музыка. Это был Элвис Пресли.
- Гляди ты, какие продвинутые дагестанцы, - пьяно удивился я. Язык мой переставал меня слушаться, - Элвис.
- Ну, они же московские студенты. В Москве нет национальности иной, чем москвич. Давай выпьем и потанцуем.
Ее голова едва доходила мне до подбородка, а ее грудь мягко упиралась мне в живот. Она обвила меня своими руками, сцепив их за спиной. Я обхватил ее за плечи и она совсем исчезла у меня на груди - такая она была миниатюрная. Мы не танцевали, а просто стояли и покачивались из стороны в сторону в такт музыке Love My Tender.
У меня началась эрекция, и я, забеспокоившись, попытался отстраниться от Алены, но она лишь крепче прижалась ко мне.
- Кассета закончилась, надо переставить, - обрадовался я.
- Не надо, - тихо сказала Аленка, - пойдем.
С этими словами она подвела меня за руку к кровати, усадила и села передо мной на корточки.
- Посмотри на меня, Арсений, посмотри. Ну что ты так дрожишь?
Она глядела своими огромными черными, как самый глубокий омут, глазами, в которых уже не было и следа нежности – в них пылала страсть. Страсть, которой я больше никогда не увижу (так думал я в тот момент). Если произнести слово «похоть» или, там, «вожделение», или, даже, черт с ней, «любовь», то все, как бы и понятно. Но, когда ты видишь страсть... Ту страсть, что видел я... Не умею ее описать. Не знаю, что именно, имел в виду мудрец, говоря, что миром правит страсть, но я знал, что самая эта Страсть, в первозданном виде, снизошла сейчас на мою дворницкую...
Она стала расстегивать на мне рубашку, а голос ее перешел на странный шепот, который, мне показалось, вдруг зазвучал громче крика.
- Не волнуйся, милый, все будет хорошо, все будет хорошо – дрожали ее руки.
Предметы в комнате замелькали у меня перед глазами. Я совсем перестал соображать, где я. Она быстро сняла с себя свитер и этот запах, ЕЁ запах, вдруг, заполнил всю комнату, будто вырвавшись из какого-то волшебного сосуда Пандоры. Затем, она толкнула меня в грудь так, мне показалось, сильно, что я упал на спину прямо поперек кровати, а она запрыгнула, именно запрыгнула на меня верхом.
Остальное восстановить невозможно. Память выхватывает какие-то куски и, возможно, я помню по частям абсолютно все, но когда пытаюсь собрать вместе – ничего не склеивается. Помню ее крики..., кажется, кричал и я. Помню еще, что мы были абсолютно мокрыми, с головы до ног. Еще помню, что этот запах достиг совершенно нереальных размеров и, чудилось, что его можно было даже потрогать. Он проник в мой пот, в мои простыни в самый мой мозг. Он...
Я налил себе еще и поднес стакан к губам...
- Иди ко мне, - Аленка лежала в той же позе, что и спала, но теперь глаза ее были широко раскрыты. Она приподнялась на локте правой руки, а левой откинула простыню, - иди ко мне.
Я встал из-за стола и подошел к ней. Странно, теперь меня совсем не смущала моя нагота и не повергал в трепет вид ее обнаженного тела.
В эту ночь я стал мужчиной.
Время сидело в задумчивой позе и глядело в потолок.
- Да-а, - протянуло оно, наконец. – Даже, кажется, жалко, что мне не ведомы все эти страсти. Наверное это здорово, а, Арсений Палыч?
- Да теперь уж и не знаю, - Арсений Павлович протянул руку под стол и достал из коробки очередную бутылку, - будешь?
- Почему нет? – выпрямилось в кресле Время. – Раз уж я взяло выходной, так давай отдыхать.
- Не пойму я, чего вы, люди, так ропщете на меня, - Время подцепило на вилку шпротину и отправило себе в рот, закусывая водку, которой Арсений Павлович отмерил Времени, как и себе, полный стакан. – На кой черт голосить фаустом «остановись мгновенье, ты прекрасно». Дурак он был, хоть и доктор. Ну, остановилось бы я в тот момент, когда ты кончал. И что? Ни предвкушений, ни приятной усталости, ни сладких воспоминаний. Прекрасные минуты тем, как я понимаю, и хороши, что вначале ты их ждешь с трепетом и страхом, потом они обрушиваются на тебя разрушительным штормом, потом, проходят, успокаиваются сияющей гладью моря (ты из меня поэта сделаешь). Нет. Определенно, вы, люди, совершенно глупы. То, что я неумолимо – это ваше счастье, а вы этого не цените.
- Когда я все это рассказывал – да, это счастье. Но когда вынимаешь голову из воспоминаний, видишь эту комнату, эти стены…
- Нет. Ты дурак, Палыч. Совершенно дурак. Ты потяни воздух. Этот дом до сих пор хранит тот запах. Слышишь? У тебя, только у тебя есть этот дом и этот запах…
Арсений Павлович закрыл глаза и сделал глубокий вдох через нос.
- Ну? Слышишь? слышишь?
- Да, - выдохнул Арсений Павлович. – Но, к сожалению, слышу и другие запахи. Рассказ-то не кончен.
- Ну-ну, давай, - Время поудобнее расположилось в кресле и приготовилось слушать.
Большой город
- Хочу рассказать тебе немного о москвичах, - начал Арсений Павлович. – Москва очень большой город. Большой и сложный. С одной стороны – это центр русской культуры, с другой - выгребная яма со всею вонью низменных людских страстей, со всем букетом болезней мелочной человеческой души.
Вирус, вообще - это неклеточная форма жизни, представляющая собой автономную генетическую структуру, способную размножаться только в чувствительных по отношению к ней клетках бактерий, растений и животных. Ну и в нас, конечно. Это определение из энциклопедии. А проще говоря, это как бы гены, без гениталий. Чтобы им размножаться, им обязательно надо во что-то попасть и что-то поесть, а уж дальше они все подстраивают под себя.
В известном смысле, человечество – это вирус. Лиши его еды, и оно умрет. Но дай ему поесть – и оно будет размножаться как саранча. Сожрав все в одном месте, оно переселяется на другие земли, где начинает снова уничтожать все вокруг, мало заботясь о том, много ли еды у него осталось. Оно плодится и плодится. Когда оно «зарывается», Господь насылает на него какую-нибудь моровую язву или, там, мировую войну, чтобы хоть как-то урезонить паразита. (Наивно с Его стороны. Он извел в двух страшнейших междоусобицах двадцатого века сто миллионов человек, а статистика говорит – пять процентов населения!). Человечество, конечно, затихает на время, зализывает раны в укромном углу, а оправившись, вырывается на свежий и чистый воздух земли и начинает пожирать планету с удвоенным, удесятеренным аппетитом. Только больное воображение таких же, как этот вирус ученых, могло назвать этот дьявольский коктейль из жиров, белков, углеводов и дезоксирибонуклеиновой кислоты – homo sapiens (человек разумный), а современные «вирусы», вовсе обнаглев, и чтобы как-то дистанцироваться от первобытного человека, заявляют, что они, мол де, homo sapiens sapiens (имея в виду, что они теперь – человеки очень-очень разумные). Этого «очень-очень разума» им хватило на то, чтобы расплодиться по всей земле до шести миллиардов. Во времена Гомера и Соломона, к примеру, на земле жило всего-то десять миллионов человек, ко времени Иисуса и Понтия Пилата – сто миллионов, современников Ларошфуко и Людовика XIII уже полмиллиарда, Ленина и Ницше – полтора, к началу правления Брежнева – три с половиной, на момент моего повествования было уже пять - а Брежнев еще тогда не закончил... Не приведи тебя Бог построить диаграмму. Получишь такую гиперболу, что впору сразу бежать на кладбище. Наше необъяснимое, казалось бы, стремление в космос, на самом деле, есть ни что иное, как подспудное понимание и страх того, что жратва скоро закончится. Кроме всего прочего, человечество – это и самый бестолковый из всех вирусов, потому, что, добропорядочные вирусы не пожирают друг дружку. А мы...
Законы выживания вирусов действуют и в более мелких структурах, нежели наша планета. Ну, к примеру, в Москве, в москвичах. Какой только заразы здесь нет!
Я не люблю стадность. Для меня хуже нет, чем шагать в толпе, с одинаковой скоростью со всеми. Ненавижу и, когда, идя по тротуару, я чувствую, что кто-то меня догоняет. Одинаково не люблю и то, если кто-то маячит впереди, закрывая мне путь своей спиной. Тогда мне просто необходимо его обогнать. По-настоящему комфортно я чувствую себя тогда только, когда иду один. Ну, скажем, как в тот день, по ночной Москве... Я проводил Аленку до электрички. Ей до Балашихи, с Курского. Потом сел на «Букашку», а она доехала только до Колхозной площади. Ждать другого троллейбуса? Время – двенадцать ночи. Когда там следующий? Идти?.. Пошел. Тут - десять минут ходьбы. Прогуляться, поразмышлять…
Конец января. Сессия закончилась. На стипендию я наковырял, с грехом пополам. Заслужил-таки магнитофон. Может, любовь и созидающее чувство, да только не в моем случае. Аленка, честнее будет сказать, это новое для меня состояние – близость с Аленкой, так вскружило мне голову, что я вышел в лидеры в своей группе, по прогулам. Благо, староста явно была в меня влюблена и все гасила. Влюблена… Конечно, надо понимать, что любая провинциалка в московском вузе, уж непременно, в кого-то влюблена. Даже не в кого-то, а в прописанного конкретно в Москве или пригороде, студента, а то (чем черт не шутит) и преподавателя. Единицы из них приезжают за образованием. Да и те, кто за образованием, к пятому курсу понимают, что не тем занимались пять лет. (К слову сказать, из шестнадцати девчонок нашей группы, лишь три отправились восвояси, в глушь, в Саратов. Остальные как-то зацепились. И якорем, конечно, стало замужество за москвичом).
Ну, так или иначе, любовь к Аленке начала рушить мою учебу и уже стала подбираться к работе. Заснуть в три после бурной ночи, а, затем, подняться в пять, чтобы лопатить снег, после чего ехать в институт... Нет - любовь – чувство разрушающее. Апофеозом созидающе-разрушающей любви для меня всегда был лосось. Да, обычный лосось. Рыба, которая заходит на нерест из моря в пресные горные реки, из последних сил достигает верхних озер, затем, мечет икру и..., умирает, оседая на дно гниющими останками, но именно с той целью, чтобы будущие мальки питались их разлагающимися телами. Так и хочется воскликнуть: «Прав Ты, Господи!». И добавить при этом: «Мать твою так…. Ибо создал Ты совершенный, я бы даже сказал, безотходный мир!».
Но вот, что меня тяготило больше всего. Я осознал, что отношения между мужчиной и женщиной не могут быть застывшими. Они, как живой организм, должны либо развиваться, либо умереть. Я уже отлично понимал, во что может произрасти наша с Аленкой связь, боялся этого и, вместе с тем, совсем не хотел терять такого умопомрачительного удовольствия – секса с ней. Юрка говорил мне, что в мире полно женщин, которые трахаются не хуже, но разве в этом дело? Ну, наверное, физиология у всех одна. Способов, сколько б их ни было – конечное число. Но есть вот одна фразочка расхожая – «есть с кем заснуть – не с кем проснуться». Секса, как ни врали бы мы друг дружке, у нас, от силы, на пятнадцать минут, ну, с прелюдией – полчаса, ну, с повторениями..., а что потом? А с Аленкой мы беседуем часами и до и после. Но еще Юрка мне говорил, что первое расставание с первой женщиной, куда как тяжелее, чем преодоление первого страха перед первой близостью с ней. И я чувствовал, что он прав. Хотя, надо признать, сходство между этими актами есть. За тем и за другим лежит..., удовлетворение или, правильнее сказать, разрешение от бремени.
Пегий с белыми пятнами пес, перебегая мне дорогу, вдруг остановился, понюхал воздух, вытянул свою морду кверху, показалось, хотел заголосить, но, передумав, проследовал по своим собачьим делам дальше.
Мне, почему-то, вдруг тоже захотелось завыть. Я ощутил какую-то неясную тревогу.
- Дай закурить, шеф, - услышал я за спиной, через секунду.
Я обернулся. Здоровенный небритый детина в белом «милицейском» тулупе, осенних ботинках и в наглой улыбке на загорелом, не по сезону, лице, стоял широко расставив ноги. В правой руке он держал кусок водопроводной трубы, сантиметров шестьдесят длиной, похлопывая ею по ладони левой. Нечего было и сомневаться в его намерениях. Животный страх больно сжал мое сердце. Я почувствовал, как вмиг вспотели мои спина и ладони. Есть такие лица, которые имеют удивительное свойство парализовывать. И нет в них, вроде, ничего сверхъестественного. Да только есть что-то такое, что сковывает вмиг и тело и мысли. И стоишь ты перед ними голый и немой и поделать ничего не можешь. Этот парень мог даже трубу не брать с собой.
Унизительный трепет пронизал меня всего, и вдруг я увидел, где-то у себя в черепе, но так отчетливо, будто на экране телевизора - из-за опоры Самотечной эстакады выходят еще двое, хотя, стоял я спиной к ней. Страх, заставил бешено работать сердце, а сердце - мозги и я, совершенно неожиданно для себя произнес:
- А Толяну с Седым тоже надо закурить?
Детина перестал размахивать трубой и раскрыл рот.
- Откуда ты..., - поднял он брови.
- Я много, чего знаю, Саша. Я знаю, что у тебя в кармане почти полная пачка Явы. Точнее, без трех штук, у Толяна – Беломор, а у Седого – Прима. Что закурить вам не нужно, а вам нужны деньги, которых у меня нет, потому, что я – нищий дворник. Еще вы хотите снять с меня мою енотовую шапку с тем, чтобы пропить ее.
Двое уже стояли за моей спиной, а я говорил и говорил без остановки.
- Еще я знаю, что у тебя нет мизинца на левой ноге, ты отморозил его на зоне, где сидел за «хулиганку» по малолетке. Знаю, что Седой спит с твоей Валюхой и Толян это знает, и тоже намерен переспать с ней...
- Ты что, козел, там блеешь, - угрожающе зашипел Седой выходя из-за моей спины.
- А ну, назад, - скомандовал детина. На его грубом, недалеком лице отражались, вперемешку, все чувства, от беспокойного удивления до дикой злобы и... панического страха.
- Ты кто, черт возьми?
- Не поминай черного всуе, сынок, - понял я его испуг. Я увидел, как это вот «сынок» больно резануло по самолюбию ночного флибустьера, но он смолчал.
Тут я посмотрел на Седого - прыщавого худого блондина без верхнего переднего зуба и с некрасивым старым шрамом, заросшим явно без участия хирурга, тянувшимся от правого его глаза к подбородку. Странно, но, в отличие от досужего мнения, шрам его вовсе не украшал.
- Ты бы, Костя, сходил бы к венерологу. А то, наградил Валюху, а она - приятеля твоего. Трихомоноз – штука не опасная, но очень неприятная. А тебя, Толя, Бог миловал..., пока. Хотя..., - тут маленький тщедушный Толя, парень, моих лет, с красными слезящимися глазами и слюнявым ртом, как-то съежился и умоляюще посмотрел мне в глаза, - не бросишь травку - отнимутся ноги, - безжалостно закончил я.
Здесь суеверный страх оживил лица уже всей компании.
- Черт, да кто ты такой, - заговорил дрожащим голосом обладатель уже, очевидно, ненужной трубы, Валюхи и трихомоноза.
- Я тебе сказал. Еще раз помянешь его и остальное тебе совсем уже не понравится.
С тем, как ужас поселялся в их головах у меня, напротив, поднимался кураж. Сейчас я не анализировал, откуда из меня все это повыперло, все эти чудесные сведения. Я просто наслаждался своей властью.
- Все. Ну его к ч..., - осекся детина, - пошли отсюда.
Но они не пошли. Они, сначала, смешно попятились задом, а потом, как по команде, развернулись и пустились бежать со всех ног, даже не оглядываясь. Труба так и осталась лежать на утоптанном снегу.
Пошел снег. Это была мелкая крупа. Такую легко убирать. Ее можно даже метлой заметать. И много не нападает, даже если будет идти до утра. Я задернул занавеску, завел будильник, потом проверил постель на предмет клопов. Их не было. Вообще, у них, у клопов, есть одно любопытное свойство. Они обожают «свежую» кровь и совершенно индифферентны к «старой». То есть, к полгода живущему рядом с ними, они почти не пристают. Но стоит Аленке или любому из моих друзей остаться ночевать, как эти вампиры выползают изо всех своих преисподних. Мало того. Клопы соседних «квартир», почуяв инородный запах нового человеческого тела, покидают своих хозяев и пускаются в путь, преодолевая перегородку за перегородкой, пока не достигнут моей комнаты. Приходилось пользоваться пусть и неприятным, но единственно действенным средством – дихлофосом. Вонь от него стоит жуткая, наутро болит голова, но, как говорится, из двух зол... Я лег и выключил свет.
- Однако, что же это было, как думаешь? - обратился Арсений Павлович ко Времени. – Я рассказал тебе этот случай не из-за чудес. Просто, это одна из сторон московской жизни. Один тип москвичей. Но все же, что это было? Сперва был парализующий страх. Потом я увидел себя на снегу, истекающим кровью, с пробитой головой. Я отчетливо видел эту картину. Здесь не было ничего странного при моем воображении и невозможности трактовать развитие ситуации двояко. Но все, что я увидел потом – было волшебством. Эти подробности и, главное, их точное попадание. Это уж никак нельзя отнести к предчувствию. Это были, непонятно откуда взявшиеся, точные знания. Если б я начал драться и победил – это было бы маловероятно, но, возможно. Даже самый последний трусливый заяц, зажатый в угол, видя за спиной лишь смерть, может начать драться, как лев. Но я побил противника оружием мне неизвестным, фантастическим. Это что, предвидение?
- Помилуй, Арсений Палыч, ну какое же это предвидение, какое там, к черту, волшебство! Из якобы будущего ты видел только себя в крови. Ну так этого и не произошло. Не было этого в будущем. А все эти подробности. Ну, про эти сигареты, отмороженные мизинцы, трихомонозы… Они же все из прошлого. А идущему спиной, прошлое обозревать несложно. Ну да. Есть некоторая странность в подробностях. Но ты был в состоянии стресса. Страх – сильнейшее чувство на земле и может творить чудеса гораздо большие, чем это принято считать. И возможностей всяких в вас понапичкано! А то, что вы пользоваться не умеете…. Все прошлое записано, как на патефонной пластинке. Надо только уметь услышать. Ты испугался и услышал. Вот и все.
- Ну, пусть так. Ладно, - недоверчиво пожал плечами Арсений Павлович и продолжал.
Царица Тамара
Ту ночь я спал, как убитый.
- Арсений! - неистово колотил кто-то в дверь, - Арсений, а ну, открывай немедленно!
Я резко вскочил с постели и, вовсе еще не проснувшись, кинулся к двери и скинул крючок с петли. Царица Тамара резко прошла в комнату и быстрым хищным взглядом профессиональной ищейки окинула мое жилище. Собственно, предметом ее интереса была постель. Она была пуста.
- Ты знаешь, Арсений, сколько сейчас времени? - сказала Тамара, гораздо спокойнее.
Я щелкнул выключателем на кухне и зажмурился от ударившего меня яркого света. Затем, поняв, что стою в одних трусах, быстро прошел к кровати и стал натягивать спортивные штаны. Тамара села на стул в кухне и, с видимым удовольствием взирала с него, как с трона, на мое замешательство и, мне показалось, на мою наготу.
Техник–смотритель третьего участка ЖЭУ № 4, Тамара Степановна Жилина (в девичестве, Чуркина), была классическим примером успешного проникновения в столицу провинциалки с восьмью классами образования, миленьким, подкупающим деревенской простотой и детской непосредственностью, личиком и запредельными амбициями в светленькой кудрявенькой головке. Приехав откуда-то из-под Калуги с допотопным обшарпанным чемоданом ситцевого тряпья и сорока рублями в кошельке, она устроилась в службу быта при собесе Тверского района города Москвы. В ее обязанности входило помогать престарелым пенсионерам. Трудилась она с восьми до пяти. Ходила по квартирам стариков и старушек, выполняла работы по дому, относила и забирала белье из прачечной, мыла полы, готовила, если просили, еду. Чаевых от пенсионеров не очень-то дождешься, но деньги ее и не интересовали. Со словами «Да что вы, что вы, мне совсем не трудно», она выполняла любую работу, числилась на хорошем счету и ютилась в общежитии, в комнате на четверых, в которой проживали еще шесть, таких как она, «завоевательниц». Удача улыбнулась ей довольно быстро. Однажды, она заприметила немолодого, но солидного мужчину, лет пятидесяти, который пришел навестить свою мать, одну из клиенток Томочки, как та ласково ее называла. То, что мужчина был холост, Тамара определила сразу. На это у нее был нюх.
Как любопытно устроена женщина. Взорвись хоть ядерная бомба - а она и не заметит, если это не входит в ее планы. Но, стоит появиться хоть намеку на ее тайную, одной ей да Богу известную задумку, и она, как фантастический гирокомпас, с точностью до радиальных секунд, определит куда идти и что делать.
В свободное от работы время Томочка устроила наблюдательный пункт напротив подъезда означенной старушки, и уже через месяц знала совершенно расписание посещений матери сыном. Теперь Тамара утроила внимание к своей клиентке, но посещала ее, в основном, во внеурочное время, после пяти, ссылаясь на большую свою занятость. Надо ли говорить, что ее и его визиты совпадали по времени до минут. Тамару стали приглашать к вечернему чаю. Они вместе смотрели телевизор, ну и тут уж, в неспешной беседе, в ход шли все те, набившие оскомину свой незатейливостью и одинаковостью, рассказы о трудном детстве без отца, о трех младших братьях, о необходимости учиться и работать, помогая больной матери сводить концы с концами и прочая, и прочая, и прочая.
Михал Петрович Жилин, добряк, пять лет, как вдовец, и доцент кафедры экономики Московского Института Стали и Сплавов, был мужчиной грузным, неповоротливым и, казалось, нуждался в помощи собеса не меньше, чем его мать. И, очень скоро, Томочка уже прибирала и его квартиру. Он ей платил деньги помимо ее зарплаты, но на этой работе она просто расшибалась. Она ничего не требовала, ни на что не намекала, не стремилась в его постель, она..., просто, однажды, там оказалась, как фатальная неизбежность. Спустя полгода они поженились, еще через год Михал Петрович скончался от желудочного кровотечения, случившегося прямо на лекции, а еще через месяц не выдержала горя и старушка.
В результате сих несложных стечений обстоятельств, как ты говоришь, случайностей, и появилась девятнадцатилетняя коренная москвичка, Тамара Степановна Жилина, вдовствующая хозяйка трехкомнатной квартиры по адресу улица Фадеева 12, квартира 8. Коренная москвичка в седьмом колене и..., страшная ненавистница всей этой «лимиты». Подводил ее только, непонятно откуда взявшийся подкалужский говор, от которого она никак не могла избавиться и совершеннейшее незнание ни географии, ни истории, ни культуры родного с пеленок города. Все, на что человек мог лишь надеяться, дай Бог, к концу жизни, она получила еще, в сущности, не начав ее. Тут-то, наконец, и прорвалось, так долго сдерживаемое завидной ее целеустремленностью, ее женское неуемное естество. Но, дорвавшись до полноценных представителей мужеского пола, она, по-прежнему, была расчетлива и осмотрительна. Она ни в коем случае не спала с мужчиной, если не могла от него хоть что-нибудь получить. Через три года Тамара уже ездила на оранжевых «Жигулях» третьей модели, а еще через пять имела диплом Московского Кооперативного Института, вечернее отделение которого, она успешно закончила (не посетив, впрочем, ни одного занятия).
Пожалуй, теперь она смогла бы устроиться и в приличное место, но ее природная, впитанная с молоком матери, ненависть к «лимите», к этим «понаехали тут», заставила ее выбрать такую хлопотливую должность. Конечно, она метила (и попадет, уж поверь) в начальники ЖЭУ, но и на сегодняшнем месте она устроилась неплохо. В результате несложных махинаций она устроила так, что сдавала с десяток «виртуальных» комнат, Имела, поговаривали, реестрик девочек для известных утех. Девочек она набирала из тех лупоглазых приезжих неудачниц, среди подобных которым она провела и свою целомудренную юность. Говорили, так же, что за некоторые интимные услуги, уже для себя, она раздавала и участки полегче, и квартиры получше, крепким симпатичным молодым дворникам. Может и врут люди, но история ее карьеры и подобные слухи надоумили меня прозвать ее Царицей Тамарой.
Тамара избавилась от нежной и неуместной, как ей казалось, для ее должности, белокурой своей внешности. Она перекрасилась в радикально-черный цвет, от чего стала выглядеть совершенно нелепо с ее прозрачными, как весеннее небо, глазами и вечно белыми корнями новых ее волос. Со временем, наросли и заматерели некоторые части ее тела. Стал намечаться второй подбородок и, появлявшиеся, в последнее время, все чаще и чаще круги под ее глазами, наконец, так, однажды, и остались на ее некогда нежном лице. Но, в целом, она была еще вполне миловидной женщиной, лет тридцати, пока..., не раскрывала рот. Как сейчас, к примеру.
- Ну что, посмотрел на часы, дворничек хренов? Сколько там? – начала она воспитательную беседу.
- Семь, - поморщился я, одевая рубашку.
- А ты знаешь, что к семи все участки должны блестеть, как у кота яйца.
«И откуда она набралась этих пошлостей», - подумал я. Наверное, ежедневное, на протяжении десяти лет, общение с дворниками да кочегарами наложило здесь свой отпечаток. А может, в деревне ее так выражались спокон веку.
- У всех заметёно, а у тебя сугробы. Народ ноги ломает. А ты знаешь, что мне достаточно одной жалобы от любой старушки, чтобы выкинуть тебя к черту на рога?
- Да я думаю, Тамара Степановна, что вам и этого не нужно, - ответил я с деланно глупой улыбкой, дабы подчеркнуть ее всесилие, и продолжал, - простите, больше этого не повторится. Вчера занимался допоздна.
- Да. Давай, заливай. Занимался. Сессия-то давно кончилась.
- Приятелю помогал. Хвост у него по физике.
- Ну-ну. Пой, ласточка, пой. Знаю, небось, какой «хвост» ты вчера мял в руках.
Тамара поднялась и стала прохаживаться по комнате, разглядывая интерьер, будто была здесь в первый раз. Потом, перевела взор на смятую мою постель.
- По девкам, небось, шлялся?
- Да что вы, Тамара Степановна, мне и семнадцати-то нет, сделал я невинное лицо.
- Да что ты?.. Ты что, девственник?.. Не может быть.
Тут лицо ее оживилось и подернулось похотливой улыбочкой. Она медленно подошла к двери, накинула крючок на петлю и выключила свет на кухне.
Участок в этот день я так и не убрал.
***
- Да, брат, похоже, тебя просто изнасиловали, - ухмыльнулся Леха (главный среди нас. Светлая голова, и в прямом, и в фигуральном смысле - блондин с космами до плеч, кутила и книгочей, плюс к этому, настоящий друг всякому, кто с ним дружен), когда я закончил свой рассказ.
Мы сидели впятером у меня в дворницкой. Под столом стояли два ящика «Жигулевского». Один ящик был уже пуст. Мы отмечали завершение первой своей сессии.
- Поздравляю с первой изменой, - подхватил Семен, покачиваясь на табурете, одном из двух, что я принес от Рашида, - теперь тебя можно шантажировать.
- А, что, Арсений, отдай мне Аленку. Ты у нас, один черт, по рукам уже пошел, - продолжил сюжет Юрка.
- Идите вы! Сволочи. Не сделай я этого, не сидеть бы нам здесь и не потягивать пивко. Она же старуха, у нее кожа рыхлая, как мартовский снег.
- Нет, вы на него поглядите, каков Чичиков, - вступил и Федот, потряхивая кудрями - пострадал по службе за правду.
Федот был желтый и тощий парень. Назови его Вовой или Сашей - и никто бы его и не заметил. Так что, он должен был бы и поблагодарить своих родителей за свое имя. А, может, есть какая-то справедливость в том, как родители называют детей? Черт его знает. Мелкие черты лица его, его тонкий нос и узкие губы, всю эту невзрачность его наружности с лихвой компенсировала огромная белая копна мелко свитых волос, ровно, как у пуделя. Если у Феди появлялась мысль, то все мы знали о том, потому, что его «барашки» начинали вздрагивать, будто колокольчики, звонящие о том, мол де: «Я хочу сказать».
- Господи, да если б я хоть пьяный был. Трезв, как стекло, семь утра. Противно. Хорошо, хоть, темно. Молчит, сопит, а насытиться не может. «Ну вот, теперь ты уж и не мальчик», - говорит потом. И по щеке еще похлопала уходя... Как щенка по морде.
- Надеюсь, ты был не очень хорош. А то, усладил если - так зачастит, - совсем расстроил меня Леха.
- Господь с тобою. Не приведи, пронеси мимо, - перекрестился я, - у меня и не встанет на нее больше.
- Как же он встал в этот-то раз? – не унимался Леха. – Ты гляди. Есть такое извращение, инцест называется. Понравится еще.
- Инцест – это когда с родителями, - возразил я.
- Ну, я и говорю. Насколько она тебя старше, на пятнадцать? – вполне могла родить уже.
- А ну вас, ей Богу, - схватился я за кружку и осушил ее залпом.
Мне, признаться, было приятно. Дешевое мужское тщеславие, но приятно. Еще три месяца назад, я не знал женщину вообще. А теперь в глазах друзей я становился, прямо-таки, профессионалом. Казанова, ни дать, ни взять. Никто из них, а все они были старше меня, не мог похвастать таким «арсеналом» возраста своих постельных побед. Остальное ведь, домысливается. «Если он такой, всеядный, то уж сколько их у него было...», - полагаю, думали они. А этот вопрос «сколько» - был камнем преткновения среди нас, юных студентов. Назывались цифры – и пять, и десять, и пятнадцать. Кто-то на курсе даже ляпнул – двадцать семь. Никого не интересовала сложность победы или, там, ее качество. Каждый будто делал зарубки. И, уж конечно, всегда врал. Можно было даже ввести формулу, «N - 3». То есть, если парень говорил, что спал с пятью, то можно было говорить смело – он спал всего с двумя. Врали все.
По-настоящему, верили только Юрке, потому, что он был так эффектен, красив, и, очевидно-бесстрашен, что ни у кого и в мыслях не было ему не верить. Я же ему верил, хотя бы потому, что он говорил: «Не помню, сколько». И он говорил правду. Счет ведет только тот, кто комплексует. А Юрка вообще не знал, что такое комплексы.
Этот случай, конечно, немало повлиял на ход последующих событий, но..., я должен признаться, мне, тем утром, было не так уж и неприятно. Брезгливость, которая овладела мной, когда она начала свои, так сказать, действия, как-то, сама собой, исчезла уже через минуту. Тамара действовала, как учительница, которая ведет практические занятия. Я освоил пару видов секса, о которых и не знал, ну, точнее, знал, но как-то не верилось, что это со мной. Цинизм этих способов лишь секунду провоцировал отторжение. Но, потом... О деталях, я, конечно, ребятам не рассказывал. И еще - запах. Я понял - ЭТОТ запах – не есть Аленкина прерогатива. Это – не что иное, как запах женского желания. И когда он действует, эстетика отступает в тень. Мне понравился этот запах. Мне понравился секс с Тамарой.
- Тебе, скажи честно, понравилось, - наклонился ко мне Юрка.
- Пош-шел ты, Юрец, - осекся я на своих воспоминаниях. – Главное, что я чувствую. Да что там, чувствую – знаю – мне это выйдет боком. Ни один последующий опыт не стоит того, чтобы платить за него предыдущим.
- Ну, может быть, и нечестно платить прошлым за будущее, но, к сожалению, весь мир стоит на отторжении прошедшего, - начал Леха.
- Алексис, ты переначитался умных книг. По твоим стезям, и предательство учеником учителя – суть прогресса.
- А как же? Если б Аристотель не послал к черту Платона – не было бы Аристотеля. Если б Спиноза не послал к чертовой матери Декарта, не было бы и Спинозы. Если бы Шопенгауэр не начхал на Гегеля – не было бы и Шопенгауэра.
- Ну-у-у, понесло Алешу, - заметил Федот. – Давайте его отправим в «подвал» (так мы называли магазин, который находился ровно под моими комнатами).
- Ну, сходит он..., - заметил я, - а где вероятность того, что он, снова, не начнет про инцест и Шопенгауэра?
- Вероятность, конечно, есть, - улыбнулся Юрка, - но мы, зато, хоть водки выпьем.
- Сходит он..., - возмутился Леха, - как это вы быстро решили.
- А я считаю, - заметил Семен, - жребий – самый демократичный способ определить гонца.
- Скажешь тоже, гонца. Спуститься на первый этаж.
- Зима, мой друг. Одеваться-то, один хрен, надо. Нет, давайте тянуть жребий.
- Ну-ну. Давай тянуть, но, помяните мое слово, пойдет Леха.
Короткую спичку вытянул Леха.
- Скажи мне, Арсений, только честно, - Леха натягивал на себя «аляску», - как ты знал, что спичка достанется мне? И, вообще, что с тобой происходит? Вот эти все твои предчувствия, предсказания. У тебя что, в роду ведьмы какие-нибудь?
- Эх, Алексей, - вздохнул я, - кабы мне знать.
Москвичи
Москвичи.
Когда я поступил в институт, то, хоть город мой и находится всего в двадцати верстах от Москвы, ощущал себя дремучим провинциалом. Я не так одевался, не так говорил, не так, даже, курил, как они.
Был первый день занятий. Первое сентября. Я сидел на лавочке в сквере перед институтом и что-то читал. А на соседней, шумела компания из четырех человек. Это были Леха, Семен, Федот и Юрка.
- Эй, парень. Ты из какой группы, - окликнул вдруг меня Леха.
Оказалось, мы все из одной группы, шесть-Бэ. Вот, так просто, без прелюдий и реверансов, и началась наша дружба. Открытая бесцеремонность, которую я, поначалу, определил как бестактность, на поверку оказалась той самой московской искренностью, которая так отличает коренных москвичей от «залетных». Коренной не нуждается ни в хамстве, ни в заискивании. Он просто у себя дома. И то, что многие полагают в них, как столичный снобизм – есть ни что иное, как чувство собственного достоинства. Сам дух, воздух Москвы таков, что когда провинциал въезжает в нее, он уже сразу, как-то, становится меньше, что ли. Настолько велик ее образ в голове каждого русского человека, что она уж и ничего не делая, подавляет его. Каждого, кроме коренного москвича. Он вдохнул этот воздух с первым криком и это, для москвича и есть рукоположение. Этот ореол он будет нести всю жизнь, даже если проживет ее, эту жизнь, вдали от родного города.
Уже через пять минут «допроса с пристрастием», они знали, кто я и откуда. Знали, что я сынок партработника и, что я самый младший среди всех студентов. А я узнал, что все они из одного района Москвы, что дружат со школы, что у всех у них нет отцов и все они из простых рабочих семей.
Я так устал за все свое детство и отрочество от незаслуженной элитарности своего положения, из-за номенклатурности своего пращура, что, как в омут окунулся в обыкновенных людей, обыкновенную Москву. И все это отдохновение дали мне они, мои друзья.
- А я говорю, мудак он, твой Шопенгауэр, - стукнул кулаком по столу Федот потряхивая своей гривой.
Федя, обычно молчаливый, от водки с пивом становился разговорчивым, а в особо эмоциональные минуты, агрессивным. Как я и предполагал, Леху понесло по философской части.
- Из вас двоих, Федя..., как ты думаешь..., кто мудак? - Леха сложил руки в замок на своем огромном пузе и надменно поглядывал на Федота.
Лехина матушка работала на пункте приема макулатуры, которую обменивали на редкие книги. Дюма, Стендаль, Джек Лондон и прочее – это было для всех. Но у Лехи шкафы были завалены такими книгами, о которых мы и не слыхивали (точнее, не слыхивали ребята. У моего отца-то все это было). И Леха все их читал. Лучше уж никаких знаний, чем знания бессистемные. Порой, Леху слушать было невмоготу. Но сегодня он сел на своего конька..., да еще по праву гонца...
- Позволь, я напомню тебе слова Фридриха Ницше. Тот говорил: «Не уживаются в одной голове громкий голос и тонкие мысли». Ну что ты разорался. Ты же остаток разума выживаешь этим криком.
- Я, е... твою мать, разумен, как никогда. А говорю громко, чтобы, е... твою мать, до твоего гнилого ливера хоть что-нибудь дошло, толстобрюх хренов! Что это такое, мать твою, воля?! Старуха с клюкой?! Ничего не знает, ничего не хочет. Рвется наружу без видимых причин и мотивов?
- Ну да. Ее цель – жизнь. Жизнь, сама по себе.
- Это вот, что?! Вот мы, пять человек, задумали из себя чего-то сделать..., ан это не мы что ли? Это твоя воля блевануть решила?! Нас не спрашивая?!
- Федь. Ты фитилек-то прикрути – коптишь очень. Потухни. Чего шашкой-то махать? – Леха, явно, был доволен собой. – Ты что? Сам решил сюда поступать? Или матушка твоя, или бабуля твоя, Анфиса Захаровна? Ты, мать твою, никак не хотел кончить под забором, как твой отец (прости меня, грешного). Воля твоя противилась этому. Она же и решила, что будешь ты теперь первым в роду инженером.
- Дурак ты, Леха. Я сам, слышишь, сам решаю, кем мне быть, понял? – Федя снова ударил кулаком по столу.
- Ну да. А помнишь, как мы сидели и выбирали по уровню конкурса? Владетель судьбы хренов. Помнишь, как ты хотел поступать в Горный, а там оказалось семь человек на место? Воля, как и вода, мой друг, ищет оптимального пути...
- Тебе не надоело слушать этих дураков, - обратился ко мне Юрка. Определенно, он был пьян и взведен.
- Полагаю, они спорят ни о чем. То есть, о своем детстве. Один прочитал на двадцать страниц больше, чем другой – вот теперь и выдрючивается.
- Как у тебя с Аленкой? – неожиданно перевел разговор Юрка.
- А что такое, Юрец? – я почувствовал неладное.
- Да так спросил. Сам говоришь – отношения должны развиваться.
- Ну, да они и развиваются... Черт знает куда...
Ничего, кроме секса, меня с Аленкой не связывало. Более того, я, в последнее время начинал тяготиться ее заботами обо мне. Она стала себя вести совсем, как жена. Вот уж кем я себя представить не мог – так это мужем.
- Отдай ее мне.
Брови мои поползли вверх.
- Ты что, Юрка, крыша поехала?
- Поехала, малыш, поехала.
Только сейчас я понял, что Юрка говорит серьезно.
- Говори ты – я помолчу. Есть у меня чувство, что тебе есть, что сказать.
- Да, ты, как всегда, прав. Мне, действительно, есть, что сказать. И главное то, что я скажу – любовь. Я люблю ее, а ты – не любишь.
- Юр. Ты сбил меня с ног...
Мысли вихрем завертелись в голове. Как в тот раз, под самотечной эстакадой, я увидел картинку. Четкую, как если бы я смотрел на нее держа в руках фотографию. Мой Юрка - в черной тюремной робе с белой нашивочкой на груди и с шестизначным номером на ней.
- Что с тобой, Арсений?
- Юр, – меня передернуло от этих образов, - а ты уверен, что хочешь этого?
- Я люблю ее уже давно. Как познакомились. Ты её забрал первый... ну, тут, вроде, и делу конец.
- Но как же ты тогда… сам свел нас? Сам в постель уложил, можно сказать?!
- Думал, справлюсь. И, потом, ты же мой друг, - Юра уткнулся головой мне в плечо.
- А Алена? – продолжал не верить я.
- Мы всё думали...
- Мы?
- Да. Мы все думали - кто из нас решится сказать. По-мужски..., вроде как..., вышло мне. Вот я и говорю тебе – я люблю эту женщину, а она любит меня. Она хорошо к тебе относится... но...
- Она, не далее, как вчера, говорила, что безумно любит меня. Юр, ты что, дурак?! Ты что, не понимаешь?
Я все еще надеялся, что слышу пьяный бред.
- Да. Не понимаю. Я, в первый раз, за всю мою гребанную историю, полюбил. Отпусти нас, Арсений.
- Нас?.. Юра, я уж и не думаю о себе... Я вижу твое будущее. Поверь мне. Не делай этого.
- Видеть будущее, дружище – еще не значит – им управлять. И вот, тебе предоставляется такая возможность. Распорядиться будущим. Сделать людей счастливыми.
- Будто, скажи я нет, что-то изменится.
- Изменится, Арсений. Еще как изменится. Я никогда не пойду против друга.
Юра, хоть и был пьян, говорил совершенно серьезно.
- Черт возьми. Надеюсь, того, что я видел, никогда не случиться. Юра, тебе осталось три месяца. Ты хоть понимаешь?
- Я понимаю только одно – ты благословляешь нас?
Весь хмель теперь вышел из его головы.
- Нет, клянусь, этого не будет, - теперь я не на шутку испугался.
Конечно, в известном смысле, я даже был рад такому простому разрешению проблемы. Покалывало, безусловно, где-то под сердцем. Чертово тщеславие. Хотя, признаться, если бы ей выбирать между мной и Юркой..., я и близко бы не стоял.
- Не боишься будущего? – сделал я последнюю попытку, хотя, уже и так все было ясно.
- Дурак ты, Арсений. Мы же любим друг дружку. Это - неизбежность, как бы ты этого не хотел.
- Неизбежность..., - только и смог вымолвить я.
Страх обуял меня, когда я открыл глаза.
Я увидел перед собой..., потолок. В метре от меня был потолок. По нему, деловито осматриваясь, полз поносного цвета юный таракан. «Боже, где это я?» Сознание немедленно вернулось ко мне и я резко встал, больно ударившись при этом о «потолок». «Потолком», как выяснилось, оказался мой стол. Я валялся на полу, раскинув ноги на кухню, а голова моя, лежала ровно между двумя тумбами моего непманского стола, а этим мифическим потолком была, как раз, крышка столешни с обратной стороны. «Ну и нажрался, - подумал я, - ни черта не помню».
Я встал и осмотрел комнату. Поперек кровати, в своих черных вельветовых джинсах и полурасстегнутых сапогах, неудобно вывернув руки назад за спину, лежал Юрка. Бутылка пива валялась у его правой ноги. Видимо, вчера она была полной. Упавши, она пролила из себя свое содержимое, что обернулось весьма внушительной лужей, которая наполовину уже высохла, и образовала вокруг себя липкое грязное «побережье». Справа, ближе к окну, к этой луже примостились два таракана. Один, явно, чего-то еще пытался пить - второй же, был совершенно, что называют - «в муку». Я понял, что «в муку» и я сам.
- Боже! Что это вчера было... Юр, Юра, - начал я трясти приятеля за плечо.
- Чо-о-о..., матерь вашу..., - застонал Юрка, переворачиваясь с живота на спину. Затем, он согнул пополам свои два метра, сел на кровати и тупо уставился на лужу пива.
- Гляди, Палыч, - мотнул он косматой своей головой на тараканье озеро, - эти ребята тоже любят побезобразничать – Есть что-нибудь?
- Черт его знает, Юрец. Я сам проснулся под столом. Давай посмотрим.
Мы оглядели поле брани.
На столе, ровно по центру, стояла большая тарелка с толстым ломтем надкусанной, уже заветренной любительской колбасы и тремя сжеванными окурками, разбросавшими вокруг себя черные икринки пепла. Белый эмалированный чайник, с неизвестно куда подевавшейся крышкой, стоял несколько наклонен, потому, что привалился одним своим боком на тарелку с двумя засохшими загогулями черного хлеба, и..., как бы споря с этой разрухой, на столе стояли две совсем чистенькие блестящие бутылки непочатой водки.
- Не, Арсений, ты можешь в это поверить? – заскрипел Юрка, мотнув головой в сторону стола, - откуда они взялись-то...
Я не помнил ничего. Ничего, кроме, может быть, того, что я сделал что-то очень неправильное. Какая-то заунывная необъяснимая тревога холодила сердце. И поселилась она явно вчера.
- Может..., я полагаю..., - начал я пытаться соображать, - это ты сходил в подвал? Может... контрибуция?
- Какая еще... О, черт..., - начало возвращаться сознание и к Юрке.
- Не называй это так..., Арсений..., Это не так, черт возьми. – Юрка уткнулся взглядом в лужу.
- Давай-ка, Юрец, вздрогнем по маленькой, да и забудем. Или, если хочешь, вспомним... о чем мы, бишь...
Юра, мне показалось, с остервенением сорвал жестяную пробку с одной из бутылок и разлил по стаканам водку, громко гремя стеклом о стекло. Затем, он, не произнося ни слова, не чокаясь, махнул свой стакан, занюхал рукавом и размеренно произнес:
- Я... ее... люблю...
Я выпил свою долю, хотя, налито было сверх меры. Меня передернуло.
- Юра, - начал я, - я, может, и кажусь тебе ревнивцем, но дело-то, поверь мне, не в том. Я увидел вчера твою судьбу. Я уверен, что тебе на это срать, но - не срать мне. Откажись от этой идеи. Алена погубит тебя.
Юра так и сидел, уставившись на лужу пива под ногами. Один утренний таракан куда-то исчез, а второй так и лежал, положивши усы свои в озеро. Помер, наверное.
- Из этих двух тараканов, - усмехнулся Юрка, глядя на лужу, - один ты, другой, тот, что окочурился – я, – и уже серьезно. - Уверен, точно знаю, что ты не врешь, Арсений. Никто уже и не сомневается в твоем этом уникальном даре. Мне плевать, что ты там видел. Все равно, хуже смерти ничего не выдумаешь. А мне и смерть – нипочем. Я впервые полюбил. Впервые! Понимаешь!?
Последние слова были произнесены с каким-то надрывом. Водка настолько быстро начала действовать, что я даже и не заметил, как окосел.
- Юра, Юра, Юра..., - пробормотал я. – Ты слышал когда-нибудь историю Лаокоона?
- Кого?.. – Юрка уже тоже поплыл.
- Не суть, Юр... Все дело в том, что он говорил дело... Правду... Про троянского коня... ну и там..., про всякое там нехорошее будущее... Он предрекал гибель Трои. Дело не в том, что он верил в будущее..., или, может, точно его знал... Дело в том, что ему не верили. Но, да и то, что не верили – полбеды. Его змея сожрала за его предсказания. Впрочем, наказан он был не за предсказания. Ему, как жрецу Аполлона, запрещено было жениться. Но он нарушил запрет. Мало этого. Он сошелся со своей женой в храме своего бога. Прямо на алтаре.
Понимаешь! Не иди к Аленке хотя бы потому, что меня сожрет змея. Сожрет за то, что я тебя не уберег. И… еще за что-то ужасное. Я это вижу.
- Не знаю, к чему ведет твой рассказ. Я лучше послушаю до конца, - произнесло Время. - Одно могу сказать заранее – будущее неизвестно даже мне. А путать предчувствие с предвидением – стандартная человеческая ошибка. Вы всегда склонны назвать обычное всего лишь объяснение, причиной. Латиняне это называли Qui Pro Quo (одно вместо другого).
- Да я, собственно, не об этом. Бог с ним с предчувствием, - возразил Арсений Павлович. – Я просто показываю тебе, какие еще бывают москвичи. С одной стороны, шлюха Тамара, с другой – Юра – благородство безо всякого династического древа.
- Ну и ладно. Давай дальше.
Главное – промывка риса
Хочу показать тебе еще один тип москвичей. Точнее, один из способов ими становиться.
- Приготовление плова, мой друг, - это волшебство.
Рашид вывалил рис в раковину, пустил воду, и начал выбирать черные семена.
- Два непреложных правила плова. Никогда, даже близко не подпускай к казану женщину. И, второе, никогда не готовь плов «насухую».
С этими словами Рашид кивнул головой на бутылку «Столичной», стоявшую на грязном подоконнике мутного, усиженного мухами окна кухни, - разливай.
Я открутил крышку и разлил по стаканам. Мы выпили.
- Промывка риса – это самое главное. Хорошая баранина – тоже самое главное. Желтая морковь – тоже.
В тот день в дагестанской дворницкой был большой праздник. Я шел с участка довольно усталый. Вечера навалило снегу, но да и не в нем дело. Его я раскидал без особого труда. В мороз снег легкий, пушистый. Он искрится в свете белых уличных люминесцентных фонарей, как ковер серебряного песка, а ты, как Аладдин или какой-нибудь лондоновский старатель сгребаешь его в серебряные горы. Сформировал ровные кучи на обочине улицы, чтобы машине легко было его захватывать. На это и часа не ушло. Но есть оборотная сторона в исправности московских жилищно-коммунальных служб. Уж больно они хорошо топят. Дома очень теплые и даже при минус двадцати, крыши их, заваленные снегом, таки прогреваются до плюса, и капель не умолкает всю зиму. Падая на асфальт капли застывают, образуя огромные, если регулярно не скалывать, ледяные наросты. Я ленился целую неделю и вот теперь пришлось расплачиваться. Затем, чтоб уж участок совсем выглядел, как паркет, я проехался по нему с тележкой песка с солью, и разбросал смесь. Соль начинала действовать моментально и когда, уходя, я оглянулся, весь асфальт был мокрым, как от летнего дождя. Поставив тележку, лом, скребок и движок в сарай, я усталый и удовлетворенный своей работой, пошел домой.
Усталость после такой работы сродни усталости, какую испытываешь, когда пробежишь на лыжах «десятку» или «пятнашку» по морозному лесу. Хочется напиться горячего чаю, закутаться в плед, лечь перед телевизором и «задавить» часа два.
- А-а-а, Арсэний, захады, дарагой, - крикнул мне кто-то через раскрытую дверь одного из дагестанских «апартаментов». Аслан, маленький черненький горец, сидел посреди комнаты, заваленной какими-то тюками, коробками и баулами. Он здесь не жил, но часто бывал. Он был студентом пятого курса Плехановского института. В принципе, я ребятам сочувствовал. Не только этим, но всем иногородним. Приехав пять лет назад из какой-нибудь дальней деревни, да даже не деревни – столицы какой-нибудь союзной или автономной республики в Москву, они, за эти пять лет, настолько привыкали к столичной жизни, к этим ресторанам и театрам, к этим огням и суматохе, к этому особому неповторимому духу, которого нет ни в одном другом городе нашей страны, что уже и не мыслили для себя иной жизни, в ином месте. Теперь же им надлежало возвращаться назад, в уже для них серую провинциальную жизнь. В Москву их не распределяли.
Способов остаться было немного. Первый, самый сложный – поступить в аспирантуру, защититься и остаться при кафедре института преподавателем. Можно было, плюнув на образование, устроиться в «органы» и работать участковым инспектором. Самый идеальный способ – жениться на москвичке по любви и жить долго и счастливо добропорядочным москвичом в черных усах и с южным акцентом. Самый дорогой и не вполне законный способ – фиктивный брак. Находишь подходящую «вдовушку», оговариваешь цену и заключаешь сделку-брак. Она тебя прописывает на пару лет, потом, ты с ней разводишься и вот ты уже и москвич. Невесту при этом ты видишь всего один раз, когда расписываешься в загсе. Аслан пошел по последнему пути.
- А-а-а, захады дарагой, празднык у мэна сэгодня. Женюсь я, Арсэний. Прощай халастяцкая жи-и-и-изнь, - обхватил он ладонями голову раскачивая ею из стороны в сторону и притворно завывая. Затем вскинул руки в стороны и рассмеялся.
- Гляды, сколько калыму, - повел он взглядом вкруг себя.
Комната почти полностью была завалена так называемым калымом. Тут была огромная коробка с надписью Philips, видимо, с телевизором. На ней стояла коробка поменьше с надписью Sharp, изображенным на ней двухкассетным магнитофоном и японскими иероглифами. Три огромные «сардельки» перегораживали по диагонали весь этот «склад» – очевидно, ковры. Две «сардельки» поменьше, прислонены вертикально в углу. Две напольные вазы стояли рядом с ними, обернутые в карандашную кальку. Все остальное пространство комнаты было заполнено чемоданами с тряпьем, коробками с хрусталем. Пара ящиков какого-то импортного коньяка. Коробка пива Budviser. Остальные коробки были без опознавательных знаков.
- Аслан, ты что, сразу на трех женишься? гляди тут сколько, - удивился я этому изобилию.
- Да что ты, Арсэний, уже палавина у нэе дома, да еще двадцат тысяч живых дэнег заплатыл. Адна. Адна всэго, дарагой. А! – махнул он рукой, - это, Арсэний, все мусор, навоз. Это мы заработаем. Главное, что я тэпер - масквич. А астальное..., - он снова махнул рукой. - Давай, давай, Арсэний, ыди, пэрэодэвайся. Паможещь Рашиду с пловом. Скоро гости прэбудут.
- Теперь заливаем масло. Масло должно быть очищенным и, желательно, оливковым.
С этими словами Рашид достал из-под стола импортную металлическую банку оливкового масла и стал лить в уже раскалившийся на плите казан, размером с детскую коляску.
- Теперь ждем, когда масло начнет чадить, а ты пока разливай, - Рашид вытер глаза от слез, вызванных резкой лука.
- Рашид, вот ты говоришь оливковое, - заметил я, - но ведь нет и не было в Дагестане оливкового масла.
- Арсений, Арсений. Тебя послушать, так мы до сих пор должны бы бегать в набедренных повязках и жарить мамонтов на вертеле, - возразил Рашид. - Прогресс, малыш. Кто отказывается от лучшего, тот получает худшее. Пусть звучит банально, но я буду готовить плов на оливковом масле. И если мне скажут, что какое-нибудь там масло кураре лучше для плова, то я начну использовать его. И пусть меня казнит шариат в моем родном Изербаше. Разливай.
Мы снова выпили. Мясо уже минут двадцать кипятилось в масле. Он всыпал лук в раскаленное масло, достал специальную деревянную лопатку и стал помешивать.
- Тот, кто делает плов, должен быть художником. Здесь все определяется цветом продукта. Если я не дожарю лук – плов будет бледным, если пережарю – коричневым. А плов должен быть золотым. А золотым он будет только тогда, когда будет золотым лук.
Приятно было на него смотреть. Вообще, всегда приятно смотреть, как работает профессионал, что бы он ни делал. Как-то, уже после четвертого курса, на летней практике, я наблюдал за тем, как рабочий копает шурф. Ну, казалось бы, выкопать яму в два метра глубиной. Так вот, он по шнурочку все разметил, определил точку выемки породы и, затем, за полчаса построил целое сооружение. С абсолютно ровными стенами и гладкими ступеньками, ведущими прямо к месту выемки. Любопытно, что после изъятия пробы шурф должен был быть закопан. И этот работяга без сожаления сравнял с землей свое творение. А мне было жалко. Только настоящий профессионал может легко расстаться со своим детищем, сколько б труда он в него ни вложил, ибо, он создал то, что хотел. Остальное – не важно. Так, наверное, относятся к своим творениям буддийские монахи, упражняющиеся в каллиграфии на морском песке, зная, что после прилива все будет уничтожено. Плов тоже будет съеден.
- Ах! Хорош зирвак, - покачал головой Рашид, попробовав получившийся бульон в котором уже плавала золотистая баранина, лук и морковь. - Ну вот…, теперь рис.
С этими словами Рашид аккуратно начал выкладывать в казан промытый рис.
- Скажи, Рашид, а как находят вот таких фиктивных жен. Это ведь опасно. За этим же следят, - вспомнил я, по какому поводу, в общем-то, плов. – И, потом, сколько ж это денег стоит!
- Ну, у Аслана, отец – второй секретарь обкома. Деньги – не вопрос. А где их берут, таких жен? Есть люди, которые этим специально занимаются. Все организовывают. Берут десять процентов. Никакого риска – были бы деньги.
- Это что? фабрика по производству москвичей?
- Ага. Наливай, - хлопнул в ладоши Рашид. – Видишь, ли. Мы, на востоке, относимся к женитьбе, к женщине, не так как вы здесь. Это ошибка, считать, что плохо. Мы относимся к ним, именно, не так, как вы. Кстати, ты знаешь, что существует рейтинг, оценивающий различные религии и конфессии, по степени уничижения женщины? Так вот. В этом списке, ислам стоит на седьмом месте, а христианство ваше – на третьем, следуя за какими-то уж совсем отмороженными ортодоксами. Это ведь ваш Екклесиаст сказал: «Горше смерти - только женщина».
- Соломон был иудеем, а не христианином, - возразил я, заступаясь за православие, хоть и не верил в него. Хоть и понимал, что Рашид прав. Что женщину церковь наша ни в грош не ставит. Считает грешной по определению. Кутает в платки, не пускает в храм во время менструации и прочее, и прочее. Свинство, конечно. Но, что ислам, с его полигамией, чадрой, побиванием камнями, лучше христианства – для меня было новостью.
- Учение еврея Иисуса, наследует иудаизму, - не сдавался Рашид, закусывая водку стручком перца.
- Не согласен, - последовал я его примеру и пожалел. От такого перца у меня во рту разразился пожар. – В Нагорной проповеди он отменяет Моисеевы законы и дает новые. И ничего там плохого о женщине не говорится. Кроме того, Магомет, тоже наследует иудеям. Ваш Джебраил – ни что иное, как наш Гавриил, ваш Сулейман – это наш Соломон, а ваш Исса - Иисус. И одна из его жен была христианка, а еще одна – эфиопка.
- Хорошего Христос о женщине тоже, ничего не говорил. Вообще, ничего. А вот, что пишет Священный Коран, к примеру, о рае: «Для богобоязненных есть место спасения — сады и виноградники, и полногрудые сверстницы, и кубок полный. Не услышат они там ни болтовни, ни обвинения во лжи… В садах благодати — толпа первых и немного последних, на ложах расшитых, облокотившись на них друг против друга. Обходят их мальчики вечно юные с чашами, сосудами и кубками из текучего источника — от него не страдают головной болью и ослаблением… среди лотоса, лишённого шипов, и тaлxa, yвeшaннoгo плoдaми, и тeни пpoтянyтoй, и вoды тeкyчeй, и плoдoв oбильныx, нe иcтoщaeмыx и нe зaпpeтныx, и кoвpoв paзocтлaнныx. Mы вeдь coздaли иx твopeниeм и cдeлaли иx дeвcтвeнницaми, мyжa любящими, cвepcтницaми…». Ну, и так далее. Согласись, за такой рай стоит побороться. И, кстати, праведная женщина становится в раю одной из гурий мужа. Либо же, ей будет предоставлен райский юноша. А что у вас, кроме непонятно зачем, вечной жизни и никак не описанной небесной благодати?
- И что? ты попадешь в такой рай?
- Я – нет. Я тут с вами совсем обрусел. Даже акцент свой утратил. Пятикратного намаза не совершаю, аятов не помню, да и в какой стороне Мекка, ума не приложу. Воздухом будет мне огонь, едой – помои да колючки, питьем – кипящая вода хамим. Вообще, мне самому не вполне ясно, что заставляет мусульман быть такими богобоязненными. Прекрасное описание «Его Щедрости» в раю, или жуткие картины Корана «Его Справедливости» в аду. Вот послушай: “Самым малым наказанием людям в день Воскресения будут два огненных угля, лежащие под средней частью стопы, от жара которых вскипает головной мозг, подобно тому, как закипает котёл”. А остальное и читать-то – глаза сами жмурятся. По преданию, кстати, всю эту белиберду, Моисей (Мусса, по нашему) надиктовал Магомету во время его ночного путешествия на крылатой кобыле на небо. По другой версии, пророк своими глазами узрел и ад и рай. Между прочим, по исламу, Аллах вначале создал их, а уж потом, человека. М-да. Надо бы мне начать праведную жизнь…
За теософским спором, вторая бутылка водки была приговорена.
- Ну вот, а теперь, мой личный вклад во славу новоиспеченного москвича Аслана Рустамовича Газимагомедова.
С этими словами Рашид посыпал выложенный на ляган плов зернами граната, нарезанными горьким перцем, помидорами и луком.
- Неси. Будешь ему московским крестным.
Метро
Я люблю ездить в московском метро. Мне никогда не бывает скучно, как далеко бы я ни ехал. Я наблюдаю людей.
Когда ты общаешься с человеком лично, ты никогда не увидишь его истинного лица, его характера. Никогда не поймешь, от чего он бежит, к чему стремится. Ты находишься под давлением того, чем человек хочет казаться, защищая то, что он есть на самом деле. Психологи называют это термином «персона». Ты общаешься не с личностью а с «персоной», щитом, который твой собеседник выставляет против тебя. И ты, в свою очередь, выставляешь свой щит, свою «персону». Так что человеческое общение, которое так любят идеализировать интеллигенты всех сортов и мастей, радость этого общения - не что иное, как поединок лицемерий. Почему говорят, что первое впечатление о человеке – самое верное? Да потому, что человек, при первом знакомстве, не успевает надеть свое забрало, взять свой щит и свое копье.
А в метро – не то. В метро человек ни с кем не общается. Ему тяжко все время носить свои доспехи и, наивно полагая, что на него никто не смотрит и ему не от кого защищаться – он сбрасывает свои латы и снимает свою маску. В переполненном людьми метро, человек, уж не знаю с чего, полагает, что он один. Сползают с лица человека нежные деланные улыбки любви к нелюбимому человеку, исчезают ухмылки липового превосходства над, в два раза умнее его, коллегой, выгибаются глуповатыми дугами натужные брови якобы умного и строгого ментора. Отчаяние возвращается на лицо безвозвратно увядающей красавицы. Детское горе видится на лице прыщавого юноши, которому не видать своей сногсшибательной одноклассницы, как своих ушей. Старушка, еще пять минут назад так бодро перебранивавшаяся в очереди за колбасой, являет на своем, истерзанном жизнью лице, стоящую у порога смерть – итог бессмысленной, бестолковой ее жизни. Старик в профессорской бородке утыкает свои выцветшие бессмысленные глаза в пустоту, обнаруживая - как давно уже оставили их интеллект и память.
Вот респектабельный пышнощекий толстячок, в дорогом пальто и ондатровой шапке, забыв, что он не один, а в вагоне метро, усердно выковыривает козявку из волосатой своей ноздри, внимательно рассматривает ее на своем мизинце, а, затем, большим пальцем стряхивает и она плюхается на полу полушубка какого-то спящего пассажира. Вот белокурая красавица с небесно-голубыми глазами, неизвестно, как и попавшая под землю (такие должны ездить в лимузинах, наверное), забыв, как она остроумна, весела, грациозна…, уродливо-брезгливо оттопырила нижнюю губку и зло посматривает на храпящего рядом работягу, опасно грозящего завалиться своим истрепанным кроликом на пышного песца ее шубки. Вот очкарик-аспирант, забыв о своей игре в скромность и почтительность на кафедре квантовой физики, надменно осматривает серую массу окружающих его пассажиров, как бы говоря: «Чернь». Вот сидит и, якобы, спит огромный детина с яркими пятнами здоровья на щеках. Конечно же, он не спит, но если «проснется», то придется посмотреть в глаза стоящей перед ним беременной женщине с двумя большими авоськами в руках. Там – прислонился мокрым лбом к стеклу двери с надписью «Не прислоняться» страдающий похмельем небритый слесарь-сантехник. (И почему все наши предупредительные надписи ставятся в повелительное наклонение? «Не входить», «Не влезай, убьет», «Стой, запретная зона», «Не курить». Что проще, написать «Пожалуйста, не курите» или, «Просьба, не входить»? А в ответ на эти хамские окрики, так и хочется нарушить все и вся. Но это Россия!) Там – близоруко уткнулся в книжку средних лет инженер, которому давно пора стать ведущим инженером, а он никак не может подойти с просьбой о повышении к начальнику лаборатории, оправдывая перед женой свое бездействие, воспитанностью и интеллигентностью, которая, на поверку, суть – трусость. И сейчас на его лице нет ничего, кроме трусости. Там – самовлюбленный плейбой вывалил всем на обозрение свой бегающий в поисках аплодисментов глаз. Там – страх, там – боль, там – смерть, там – злость, там – усталость, там – безразличие, там – гордыня, там – похоть, там...
Любопытно наблюдать и за теми, кто не один. Кто, соблюдая свое лицо на контроле, играет внимание к собеседнику. Кто, поминутно наклоняясь к уху попутчика, пытается перекричать ревущий во мгле подземелья поезд. Здесь, хоть говорящие и держат свои щиты друг перед другом, но тебе, сбоку, все равно, все видно. Ты не слышишь, о чем они беседуют и тем интереснее за ними следить. Наблюдать то, насколько прозрачны их души в профиль.
Как легко видеть, чего именно она от него хочет. Как приторно-переиграно она вскидывает летучими своими ресницами, как лживо-скромно опускает она глаза долу, как натужно-живо притекает к ее щекам нечестный ее целомудренный румянец, как, наверное (здесь не слышно), звонким серебром рассыпается ее смех, в ответ на его глупую шутку. Как смешно наблюдать за его, подернутыми туманом любви, глазами. Как они пожирают ее небесный образ, перелетая от бирюзовых глаз к коралловым губам, пробегают по ее мраморному лбу, с какой любовью и мечтательностью разглядывают милые ямочки на ее персиковых щеках.
Как смешно видеть, что он ничего не видит. Да здравствует женщина!
А вот и две студентки обсуждают поход в магазин. Здесь щиты и латы сброшены, потому, что они мешают жестикуляции. Надо же показать где там были бретельки, докуда декольте и вырез на спине, надо очертить двумя средними пальчиками тоненьких своих ручек подол воображаемой юбки и где заканчивается боковой ее разрез. Все это сопровождается неудержимым потоком слов, которых явно не хватает, почему и вступает в дело во всей своей красе и безобразии, мимика их лиц. Как же портят женское лицо эмоции. Безмерное удивление превращает совсем еще молоденький лобик в старую стиральную доску. Святое возмущение сминает аккуратный вздернутый носик в бесформенный комок бумаги. Безудержный смех очерчивает морщинами минуту назад милый ротик, обратившийся теперь в огромную пасть с не вполне ровными и не вполне белыми зубами с черными дырами кариеса, там в глубине, на коренных. Недавно томные глазки сначала выкатываются из орбит, а затем, сжимаются в узкие щели, стирая с лица последнюю альфу и омегу красоты – зеркало души, и ты видишь теперь совсем уж страшную маску и думаешь – а была ли девочка?
Сдерживайте эмоции, женщины. За вами могут наблюдать.
А вот вам толстый и тонкий, умный и глупый. Причем, в отличие от правильного хода событий (где умный молчит, а говорит глупый), здесь умный и толстый говорит, а глупый и тощий молчит. Тощий, при этом, так усердно кивает головой, будто конь на выездке, так усердно сдвигает брови и так безуспешно выдавливает на свои глаза отсутствующий интеллект, что его глупость видна всем, кто дал бы только себе труд взглянуть. Всем, кроме толстого собеседника. Тот так увлечен излагаемой темой, что ничего не видит, кроме них. Темы и... себя. Нельзя не заметить его тщеславия. Он думает, что он его глубоко спрятал, но это не так. Оно здесь. Торчит прямо из кармана. Кричит о себе в чуть выше, чем надо, поднятом подбородке при окончании фразы, чуть дальше выпяченной нижней губе при произношении гласных звуков, в чуть более многозначительно, чем нужно, поднимаемых бровях при смысловых акцентах и в слишком уж победоносной улыбке в паузах...
В общем, кажется, что ничего положительного нельзя увидеть в этом сонме обнаженных людей, бессмысленно блуждающих из конца в конец двухсоткилометровой московской подземки, как тени в царстве Аида. Но, так только кажется, пока вдруг не понимаешь, что они прекрасны эти люди. Прекрасны все безобразные, но наивно-честные движения их беспомощных и ранимых душ.
И все это – московское человечество.
И тут вошла Она.
И тут вошла Она
Арсений Павлович остановился перевести дух. Начал набивать трубку. Процесс этот весьма важен. Набьешь плотно – и полчаса будешь только и делать, что напрягать легкие, высасывая по капле вкусный дым. Набьешь слабо – и задохнешься в дыму, так и не ощутив вкуса. Набивать надо в три закладки. Первую почти не уминаешь, вторую чуть прижимаешь, но уже используя «ножку-топталку» - специальное приспособление для набивки трубки, третью же, уже мнешь вдумчиво, аккуратно и плотно. Арсений Павлович закончил процесс и отложил трубку в сторону. Затем, разлил водку по стаканам, даже не спрашивая у Времени, хочет ли оно.
- Не длинно рассказываю, - заботливо осведомился Арсений Павлович.
- Господь с тобой, Арсений Палыч, - замахало руками Время. – Меня у тебя столько, сколько понадобится. Пусть я и иллюзорно, но давай не будем забывать, что я вечно. Возможно, я единственная сущность на земле, которая никуда не торопится.
Не в моих привычках сожалеть о чем-либо, но, право же, я все больше не понимаю, чего вам сетовать на жизнь, если она так обильно наполнена положительными эмоциями? Я начинаю всерьез грустить, что мне никогда не будет дано этой чувственности. Бесстрастность – мой крест. А у тебя - живая жизнь. Пусть и конечная, но живая.
- Живая, - сокрушенно вздохнул дворник. – Эмоции. Это ты верно заметило. Если б только положительные. Но есть ведь и другие.
- Не знаю. Мне показалось, что ты и грустишь с настроением. Ты скучаешь по любым эмоциям того времени, о котором рассказываешь. Не только любовь. Но и собственный страх и собственную подлость ты вспоминаешь с каким-то, если не удовольствием, то с сожалением, что, мол, прошло. Разве я не право?
- Может, ты и право. Дальше будет все грустнее и грустнее, но я, один черт, хочу туда окунуться.
- Ну вот и купайся, смешной ты человек. Зачем еще нужно я, как не для воспоминаний. Действия и события происходят сами. Тут и усилий не нужно. А вот воспоминания… Их нужно уметь хранить. Тут я уже власти не имею. Оберегать их от всяческих там переоценок ценностей, утраты деталей и нюансов, простого забывания, в конце концов. Воспоминания – вот истинное богатство человека. Я помочь не могу. Я могу лишь выделить для этого часть себя.
- Пожалуй, пожалуй. Давай вздрогнем.
Арсений Павлович поднял свой стакан, Время, свой. Выпили без тостов. Время потянулось к шпротам, Арсений Павлович стал раскуривать трубку.
- Ты знаешь, - запыхтел, наконец, дымом дворник, - я что-то не пойму. Пью-пью, а меня все не берет.
- Вот, чудак. Да ты хоть цистерну влей в себя. Я ведь остановилось. Вот тебе наука. Не зови «остановись, мгновенье» - ни черта не получишь.
- Во, черт! Прокрути хоть пару минут. Жалко ведь продукт. Да и речь пойдет о Полине. Мне согреться надо.
- Ну ладно, Бог с тобой. Только смотри, не окосей. Я дослушать хочу.
Время достало часы на золотой цепочке из своего белого жилета, открыло крышку.
- Две минуты. Не больше.
Время щелкнуло пальцами, часы пошли, громко щелкая своим анкерным механизмом.
Мгновенно, будто окатило Арсения Павловича ушатом горячей воды. Кровь зажурчала веселым весенним движением по жилам. Почудилось, ручейки сбегаются в ручьи, ручьи в потоки, потоки в реки. Половодье…
- Стоп, - щелкнуло крышкой часов Время, - достаточно.
Арсению Павловичу, и вправду, было достаточно.
- Ну, вот, - начал он довольно развязно…
***
Случалось вам идти по музею, рассеянно разглядывая скульптуры, полотна, акварели? Что-то задерживает ваше внимание, что-то раздражает бездарным цветом, неумелой композицией, неприятным персонажем. Особенно злят библейские сюжеты. Они почти всегда мертвы. Всегда вымученно-статичны. Мария протянула свою руку к младенцу, но в ней нет движения. Кажется, что она у нее задеревенела и сейчас отсохнет. А вот и Иосиф, всегда с таким глупым выражением на лице, будто говорит: «Я рогат, ребята». А вот и волхвы с вечно сладко-кислыми физиономиями. И, уж конечно, у итальянцев, все иудеи - с итальянскими, у немцев – с немецкими, ну а у русских - с вологодскими рожами. Господи! Известно, на сколько столетий отбросила религия науку. А искусство? Наука – Бог с ней, от нее одни неприятности, но искусство!
Или Питер Пауль Рубенс. «Дородное блюдо любви» - сказал кто-то о его творчестве. Не знаю. У каждого времени своя эстетика женской красоты. Но, мне кажется, что он был несколько болен на голову, выписывая и прорисовывая все эти складочки и наплывы, сморщенности некогда прекрасного женского тела. А, впрочем, Рубенс – великий мастер.
Не всякого тронет Амедео Модильяни, Поль Сезанн, Анри Матисс. Но давайте вспомним Оскара Уайльда: «Дух времени лучше передается в абстрактных идеалистичных искусствах, поскольку дух сам по себе абстрактен и идеалистичен… Великий художник никогда не видит вещи такими, какие они есть на самом деле. А если бы увидел, то перестал бы быть художником». И он чертовски прав, даже если речь идет о классических реалистах, таких как Рембрандт Ван Рейн или Илья Ефимович Репин. Портреты их кисти… И здесь вновь уместен этот великий писатель и тонкий ценитель искусства: «Верят только тем портретам, в которых крайне немного от модели и очень много от художника».
Такие или подобные им впечатления, лишь украдкой, как бы стесняясь, касаются тебя, почти не причиняя ни удовольствия, ни, хоть сколько-нибудь, серьезных переживаний, как вдруг, будто кто-то зовет тебя по имени. Ты оборачиваешься и видишь перед собой «Лунную ночь» Куинджи, шишкинское «Лесное кладбище», или «Омут» Левитана, или «Сирень» Врубеля. И тут ты понимаешь, что присутствуешь при волшебстве. Люди, создавшие эти чудеса, давно в земле, а их произведения, как бы кричат: «Остановись, посмотри, как прекрасен, как божественен этот мир!».
Сейчас я был не в музее, а в вагоне метро, но это знакомое чувство пронзило меня.
Итак, она вошла.
Случилось это (ну вот, опять это слово - «случилось») на станции метро Площадь Революции. Странная станция. Всякий раз, когда я попадал на нее, у меня появлялось ощущение, что я нахожусь в пещере какого-то подземного короля. Даже в ушах начинала звучать музыка Грига из Пер Гюнта. Этот красный мрамор, эти темные арки, эти низко висящие два ряда тусклых светильников, которые освещают только потолок, как факелы в подземелье, дающие лишь тусклый отраженный свет и, главное, эти согбенные скульптуры Манизера. Из-за того, что они чуть больше пропорций человека, ты кажешься себе совсем уж карликом. Такая станция только и могла возникнуть, что в тридцать восьмом. Настоящий памятник той эпохи. Фантастическая станция.
Она вошла и встала около дверей, прислонившись к бортику, отделяющему проход от сидений, раскрыла какую-то толстую книжку, обернутую в поистрепавшуюся газету, и стала читать.
Странно, но первым осознанным чувством, которое я ощутил по отношению к ней была... ревность. Восторг, восхищение, любовь – все промелькнуло в мгновение ока. Я будто уже давно ее знал, будто она давно уже была моей..., а тут..., все мужики, как по команде, развернулись в ее сторону и выпучили свои поросячьи глазки. Да. Жгучая ревность, одно из двух самых отвратительных человеческих чувств на свете (второе – страх, хотя, по сути, и ревность – разновидность страха), схватило меня за горло и, буквально, не давало дышать. Если поразмыслить, ревность родилась из тех же животных глубин, что и страх. Право самца на завоеванную самку, право на воспроизводство себя в потомстве через нее (женская ревность, надо сказать, имеет совсем иные корни) и страх прекращения собственного рода из-за потери самки. Человек (или Бог) наполнил этот простой инстинкт таким интеллектуальным содержанием, что мы и забыли в чем его суть. Точно так же, кстати, он поступил и с половым инстинктом, превратив его в любовь. Но я-то не знал этой богини, не завоевывал ее, не владел ею. Откуда же эта ревность? Я сразу положил, что пойду за ней на край света. Куда бы она сейчас ни ехала, я последую за ней, а когда она выйдет из метро, продолжу преследование, пока не выясню, где она живет или, где учится. Уличным псом буду бродить под ее окнами, встречать утром и провожать вечером, спать у нее в подъезде. Буду служить ей вечно…
«Край света» оказался недалеко. Томный, грудной, даже, в данный момент мне показалось, материнский голос из репродуктора объявил Курскую - мою. Она с трудом уложила свою толстую книжку в миниатюрную сумочку (весьма дорогую, импортную, обратил я внимание) и вышла.
Я устремился за ней. Тоненькая хрупкая, она шла неспешно, не глядя по сторонам. Попадавшиеся навстречу мужчины, кто нагло, кто похотливо, кто боязливо, кто восхищенно, вперяли в нее свои взоры и меня просто переворачивало.
Мы, мужчины, никогда не следим за собой, когда смотрим на красивую женщину. А надо бы. Ведь мы из людей, будь ты профессор, студент или дворник, превращаемся в животных, без единого признака такта и интеллекта. Зацепившись за красивое лицо, глаза, наш взгляд безудержно скользит вниз, в область талии и живота, по дороге отметив грудь, (так важно для самцов детородное место и потенциальные способности к кормлению). Нам очень важны и живот и бедра, а, точнее, их соотношение. Задержавшись там, мы внимательно рассматриваем область вагины. Достаточно ли широко отстоят друг от друга ноги в этом месте, выделен или скрыт лобок (опять-таки, видимо, бессознательно оценивая ее способность рожать без проблем). Интересно, что не важно, во что она одета, в платье или в брюки, мы как-то умеем угадывать все эти, так сказать, параметры. Затем, наш взгляд скользит вниз по ногам в район колен, голеней, лодыжек и ступней. Надо сказать, это самое проблемное место у женщины. Детородная область мало у кого вызывает вопросы. Кому нравятся полные или даже очень полные, кому худые или очень худые, кому нравится наличие животика или даже живота, кому – плоский или даже впалый живот, все найдет своего «потребителя», все идет в ход в этом совершенном мире (спасибо Создателю за разнообразие вкусов). Но с колен и ниже, в свои права вступает эстетика в чистом виде. Никому не нравятся бугристые или костлявые колени (только округлые), никому не нравятся толстые лодыжки, никому не нравятся большие ступни. Если лето, и женщина в босоножках, когда видны пальцы ног, мы смотрим еще и на них. Не знаю в чем секрет, почему мы так любим их целовать, может желание декларировать свою подчиненность (в ожидании награды), но рассматривая их, мы думаем именно об этом. И если здесь беда, то это может легко (как странно) испортить всю картину.
Закончив детальный осмотр, мы переходим, так сказать, к общим оценкам. Прежде всего пропорции. Правильно, что пропорция, когда отрезок делится точкой так, что малая часть относится к большей, как большая ко всему отрезку, названа золотым сечением или Божественной пропорцией. Леонардо доказал, что все человеческое тело подчинено этому закону. Лоб - ко всему лицу, голова – к туловищу, плечо – к руке, кисть - к локтю, фаланга - к пальцу и так далее, все соотносится (должно соотноситься) именно таким образом. И если это не так, то, может мы и не осознаем того, но наше эстетическое чувство страдает. Так вот тут, у подавляющего большинства женщин, большая проблема. Талия далеко не всегда делит тело золотым сечением, даже, бывает, что и просто пополам делит. Но даже если здесь все в порядке, то нога с животом и бедрами почти никогда не соотносится, как хочется. Вечно ноги короче, чем нужно. Подсознательно, стремясь исправить положение, женщины взбираются на каблуки и этот обман (как и многие другие их уловки), им удается.
Покончив с общими оценками, мы обращаем свое внимание на одежду. Женщина может иметь идеальные пропорции, красивое лицо и, даже, иногда, умный, одухотворенный взор, но..., не иметь вкуса. Ну, здесь, положим, мода им помогает. Следуй журнальным канонам – и не ошибешься. Там, как-никак, профессионалы работают. Оценивать одежду на предмет уровня достатка – это дело каждого мужчины в отдельности – кому что нужно. Но вот, опрятность? Не дай бог, если шов юбки расположен не по центру, или стрелка на колготах, или испачкан локоть на белой блузке – пиши пропало. Никакие лицо и фигура, никакие вкус и дороговизна одежды не спасут ситуации. (Есть еще такие «параметры», как походка, грация, стать, обаяние и прочая, что можно уловить за мгновения, но, как бы мы не думали, что в основе нашего внимания к женщине лежит вожделение или эстетика - в основе лежит инстинкт продолжения рода и улучшения породы). Лишь только совершив все эти движения глазами и мозгами (что происходит, зачастую, за считанные секунды), мы вновь возвращаемся к лицу... но девушка уже прошла мимо.
Я шел за ней следом по длинному переходу, уничтожая взглядом нагло пялящихся встречных мужиков, и победоносно ухмыляясь, когда те, несолоно хлебавши, с грустным видом проходили мимо. Да. Я уже считал ее своей.
Наконец, мы вышли из длинного подземного перехода на улицу Казакова, повернули к театру Гоголя и я понял, что она идет в сторону моего института. Комок надежды и радости вдруг подкатил к горлу: «Боже, неужели мы учимся в одном вузе!». Мы, действительно, перешли на противоположную сторону улицы. Она, о радость! свернула направо, через гнутые, всегда открытые настежь железные ворота, во двор многоэтажного здания нашего общежития. Тут я увидел, растекающуюся в глупой улыбке, рожу Лехи. Он стоял на крыльце общаги и курил. Я злым выстрелом взглянул в его сторону: «Не нужен ты сейчас мне!». Но тут я понял, что улыбается он вовсе не мне.
Она стала подниматься по разбитым ступенькам (хотя здание построили всего лишь год назад). Тут Леха совсем расплылся, как кот.
- Здравствуй, Полинка, - масляно пропел он.
- Здравствуй, Алеша, - голос ее прозвучал для меня небесным колокольчиком, - все куришь?
- Полина, ты только прикажи и я тут же брошу, прям здесь, - начал флиртовать Леха.
- Если у тебя есть сила воли, Алексей, то бросишь и без моих слов, а если нет, так тебе и Господь Бог - не указ.
С этими словами она открыла стеклянную дверь общаги и скрылась за нею.
На Лехином лице продолжала плавать глупейшая улыбка. Я готов был еге растоптать. Мешала только безумная радость оттого, что, почти наверняка, она учится в нашем институте. Из Лехи надо было выудить максимум.
- Кто это, Леш? - немедленно начал я допрос, еще пытаясь разглядеть ее в темном вестибюле общежития через грязное стекло двери.
- Может, поздороваешься для приличия, Лаокоон?
Так меня, не помню уж с чьей, может и с Лехиной, легкой руки, с недавнего времени, начали называть на курсе.
Тут только я заметил протянутую для приветствия руку. Я спешно пожал ее и повторил вопрос.
- Что, хороша? - ухмыльнулся Леха.
- Только дурно воспитанные люди, Алексей, отвечают вопросом на вопрос, - озлился я совсем на его улыбочку.
- Ну, отца я почти уже не помню, а матушка вечно на работе была. В школе училка по литературе сама писала с ошибками и прилюдно ковыряла в ухе, а на улице – только по матери встречали да провожали, так что, ты учи, учи меня, Арсений, я восприимчивый, и память у меня...
- Заткнись ты, к черту. Откуда ты ее знаешь? Кто она? Откуда? Где учится? В общаге что ль живет?..
- Тпрррууу, - осадил мой поток Леха.
Он достал пачку Явы и протянул мне. Я закурил.
- Помедленнее, мерин. Подбери губу-то, ишь, раскатал, гляди, наступишь. Полина Блок, Оптика, первый курс, москвичка, дочь декана той же Оптики. Забудь, малыш. К ней там все курсы с первого по пятый клеятся, да вот только впустую – вылил он на меня ушат воды.
Факультет Оптического Приборостроения был у нас элитным. С нами они не общались. Были как Status in Statu (государство в государстве). У них даже учеба проходила в отдельном корпусе (вот почему я ее раньше не встречал). В общем, все это было не здорово, но, в сравнении с той радостью, что она здесь, рядом – это были мелочи. Я успокоился и присел рядом с Лехой на перила.
- А ты откуда ее знаешь?
- Вы, когда на картошку ездили, помнишь? я же опоздал, ну, меня и послали на ремонт корпуса к оптикам. Там и познакомились. Красавица, да еще и умна, как Сократ. Она не афиширует, но как-то, один там интеллектуал, что-то развыдрючивался не в меру, так она его та-а-ак приложила... Все время с книжкой. Очки, мне кажется, ее даже и не портят.
- А она что? в очках? Я и не заметил.
- И куда ж ты смотрел? На задницу? Впрочем, у нее и попка голове подстать, - вздохнул Леха, - ладно, пойдем, у нас сейчас «вышка».
Леха загасил сигарету о подошву ботинка и соскочил с перил.
- Стой, Леха, представь меня ей, забеспокоился я.
Леха пристально на меня посмотрел.
Влюбился что ли? Так ты забудь, приятель. Говорю тебе, не подкатишь. Ты, хоть у нас парень и интеллигентный, да только и не таких отшивала. Во всяком случае, так рассказывают. Мне видишь ли, чтоб тебя представлять, надо бы самому быть знакомым покороче. А я, так, шапошно.
- Ну, сведи с тем, кто нешапошно, - озлился я, - ты ж всех оптиков знаешь. Может вечеринка какая у них там намечается. Что ты, блин, как неродной.
- Ну-ну, завелся. Я поспрошаю. Пойдем, а то опоздаем.
«Полина», - вздохнул я про себя и поплелся на лекцию.
***
Я лежал на спине и смотрел ввысь.
Вечерело, почти смеркалось. Лишь на западе золотилась полоска чистого гаснущего неба. Багровый диск по пояс уже был в земле, но макушкой своей касался облаков – так он был огромен. Надо мной же, причудливыми клубами теснились живые облака. Казалось, они были так близко, что протяни только руку - и не увидишь собственной кисти. Хотя ветра и не было, но они с каждой минутой образовывали фантастические картины, одна невероятнее другой. То, прямо передо мной, возникал смешной заяц, боязливо оглядывающийся, будто готовый сейчас же убежать. Через секунду так и случалось, и на его месте появлялся седой старик с длиннющей бородой и кривой клюкой, когда же он повернулся, оказалось, что это вовсе не старик а грудастая обнаженная баба в весьма развратной позе. Но вдруг ноги ее оказывались не ногами а ушами какого-то неземного существа с весьма зловещей улыбкой. Улыбка его начинала искривляться и, наконец, превращалась...
«Как небо, должно быть, похоже на человеческие мозги», - подумал я, хотя слабо себе представлял, как могут они выглядеть изнутри. В кабинете биологии в школе были не только рисунки мозга во всяких ракурсах, вид сверху, снизу, сбоку, разрезы вдоль и поперек. Был и обшарпанный временем гипсовый муляж с отколотым гипофизом. Но вот вида изнутри не было. «Может это и есть высший всеобщий разум? - продолжал я рассуждать, глядя на облака. - Вот так вот шевелятся его мысли, рождая причудливые образы. Может, он тоже пишет стихи, или музыку, или изобретает научную систему? А мы, мы все, люди, звери, птицы, леса, моря... Мы – всего лишь плод его необузданной фантазии, его, часто больного, нелогичного воображения? Иначе, как объяснить все те гадости, что происходят на земле? Все эти войны, эти холокосты, эти катыни, этих маньяков-убийц, этих насильников детей, да и просто даже самые мелкие подлости, что люди чинят друг другу изо дня в день, из века в век? Или, с другой стороны - любовь, детский смех, даже котенка погладишь – и тебе тепло на душе... Ведь и в моей голове чего только не бывает. Движения души, от низменно-развратных до небесно-возвышенных. Может и я, рождая свои образы, заставляю кого-то страдать или радоваться? Может я тоже, кому-то там в моем мире причиняю боль, радость, убиваю, рождаю?.. Черт, голову можно сломать от таких мыслей».
Я всмотрелся в небо и вдруг отчетливо увидел лицо Полины. Она улыбалась. Но, постепенно, она перестала улыбаться. В глазах ее отразился сначала испуг а, уже через секунду, лицо ее перекосил гнев и она закричала: «Ничтожество!»
Я резко сел на кровати и отер пот со лба. Включил свет. За окнами темно. Три часа ночи.
В последнее время меня очень стали беспокоить мои сны. В обычной ситуации, как утверждают психологи, сны, если и передают информацию о грядущем, то в виде символов, аллегорий, которые невозможно истолковать. Советские психологи вообще считают, что сны имеют только рефлекторную природу – реакцию на прошедшие или, в крайнем случае, текущие, но реальные переживания. Мои же сны всегда были понятны, говорили о будущем открытым текстом, без аллюзий и, самое страшное, всегда сбывались.
Но что означает вот это вот, «ничтожество»? Да еще прямо с неба. Господи, зачем мне знать будущее, если я ни черта не знаю, как его предотвратить или приблизить!
Хук
- Знакомься, это Хук, а это Арсений, - махнул рукой Леха сначала в сторону Хука, потом, в мою.
Мы стояли втроем в пивной на Покровах.
Пивная «На Покровах» - неофициальное название. Просто она находилась ровно на Чистых Прудах. Точнее, на перекрестке Чистопрудного бульвара и улицы Чернышевского. В наших студенческих кругах, она - самая популярная по многим причинам. Во-первых, три остановки по прямой от института. Во-вторых, ровно напротив, на правой стороне Чернышевского – винный магазин. В-третьих, чуть по диагонали, уже на Хмельницкого – неплохая шашлычная. В винный мы заскакивали почти всегда. Ну, а если у кого вдруг появлялись деньги (что случалось отнюдь нередко. Когда за деньгами не бегаешь, они всегда есть.), то шли и в шашлычную. По десяти рублей за порцию.
В этой пивной почти никогда не бывало милицейского шмона на предмет распития спиртного, помимо пива. Точнее, он бывал не реже, чем в прочих пивных. Просто, чтобы подойти к входу нужно было пройти через маленький дворик, в котором всегда терлись мужики, и, пока наряд милиции доходил до основного зала, все бутылки были уже спрятаны. Внезапного налета не получалось. В этой пивной (единственно в ней, в ближайшей округе) продавались сушки с крупными кристаллами соли вместо мака. Отличная закуска к пиву. Двадцать копеек за десять штук. Это выгоднее, чем два пакета соленой картошки. Хватает на большее число кружек.
Интерьер этого храма отдохновения московского работного и студенческого люда мало чем отличался от интерьеров тысяч московских пивных. Те же грязные, крашеные зеленой масляной краской стены. Тот же прокопченный, прокуренный, и, некогда белый потолок. Те же круглые высокие столы на одной шаткой ноге, вкруг которых собиралось до десяти человек. Тот же тесный и страшно вонючий туалет с парой загаженных унитазов в открытых кабинках и писсуарным «акведуком» вдоль стены. Пяток двадцатикопеечных пивных автоматов и пышная стареющая блондинка на кассе, меняющая рубли на двадцатки, выдающая соленые сушки и вечный сизый сигаретно-папиросный дым. (Неудивительно, что до Петра Чистые пруды назывались «Погаными»).
Леха назначил встречу на два. Я опоздал минут на пятнадцать. Они уже успели выпить по паре кружек.
Хук был студентом пятого курса Оптики. Когда я спросил Леху о том, что, может, у Хука есть имя, то он ответил, что имени его никто не знает и он адекватно отзывается на погоняло Хук. Это был парень моего роста, но пошире в плечах, с черной шевелюрой слегка вьющихся волос, черной плотной щетиной до голубых глаз. Одет он был в кожаную черную короткую куртку, тонковатую для зимы. На шее желтый вязаный шарф. Шапки он не носил.
- Рад, что вы нашли время..., - начал я.
- Ну вот, ё... твою мать, - отозвался Хук и повернулся к Лехе, - это что за фрукт?
- Я же тебе говорил. Влюбленный интеллигент, - усмехнулся Леха.
- Ну вот, что, ин-тел-ли-гент, - выговорил Хук с иронией, - выкать будешь Полине, а я Хук и зовут меня «ты». Понял?
- Понял..., Хук..., Ты...
- То-то.
С этими словами Хук полез во внутренний карман, вытащил горлышко бутылки водки и оглянулся.
- Доставай смело, Хук. Их до вечера не будет, - успокоил я.
- А ты что, ясновидящий? Или у тебя их график на руках? – не поверил Хук.
- Доставай, не дрейфь, - подтвердил Леха, - он - ясновидящий. Зуб даю.
- Ну смотрите, школяры, - достал Хук бутылку и поставил на стол. – Я на пятом. На меня хоть сто телег пиши – меня не выкинут, а вам, первокурсникам, и чиха хватит, чтоб вылететь.
- Вот я и говорю. Видишь мы спокойны, так тебе-то и, вообще, нет смысла подпрыгивать. - Леха открыл бутылку, – давайте отопьем.
Мы отпили по полкружки пива и Леха разлил водку. Затем, оглянулся, что-то ища глазами.
- Пелагея, - крикнул он.
- Я здесь, родной, - послышалось откуда-то из-под стола.
Пелагея, дама, ростом не выше полутора метров, неопределенного возраста, в мужской кроличьей шапке с проплешинами на сгибах, в мужском же, вытертом на локтях до дыр, демисезонном пальто и валенках в калошах, приняла пустую бутылку.
В какую московскую пивную вы не войдите – там всегда есть вот такая Пелагея, или дядя Панкрат. Если б они не пили, то жили бы безбедно, сдавая все эти бутылки в пунктах приема посуды. Но они пили. Пили с утра до вечера. Там, где-нибудь на Чистых Прудах, ее уже поджидала целая банда таких вот дядей Панкратов. Сейчас наберет посуды на бутылку и побежит к ним. Потом снова сюда. И так - с утра до вечера, каждый день, из года в год. Когда такая Пелагея помирает - на смену ей будет другая москвичка. Она ведь москвичка. Лимита не пьет.
- Ну, что, вздрогнем, - поднял Хук свою кружку.
Мы с Лехой подняли свои и все выпили по половинке.
- Ну, - захрустел сушкой Хук, - значит, говоришь, познакомить тебя с Полиной?
-Ага, - передернуло меня от «ерша». – Даже если не познакомить, то хоть дать возможность познакомиться. Не знаю. Может общая компания или, там, мероприятие какое. Ходит же она куда-нибудь.
- Не-а, - жестоко сообщил Хук. – Она – фифа. Дочь декана факультета. Если и ходит куда, так в Большой, во МХАТ, на Таганку.
- Черт, - опять передернуло меня. «Ерш» никак не хотел улечься. – Так какого хрена мы тут...
- Гляди, какой резвый, - подмигнул Хук Лехе.
Меня это успокоило. Явно, Хук знал, что делать, но им хотелось поиздеваться надо мной. Пускай. Был бы результат.
- Погоди, - водка начала действовать и, как мне показалось, заработали мозги, - Лех, вот тогда, в первый раз, она же пошла в общежитие, помнишь? Значит, ходит же она в компании.
- К подруге она ходит. Та на Аэрофаке учится, - отозвался Леха.
- Ну, через подругу как-нибудь, - загорелся я. – Ты, Леха, знакомишься с подругой, потом мы вместе собираемся и...
Я не договорил, потому, что оба моих собеседника разразились таким хохотом, что на нас стали оборачиваться мужики, стоящие за другими столиками.
- А что, Алексей, - произнес, наконец, Хук, немного успокоившись, - пострадай за друга.
- Ну уж нет, - Леха вытирал слезы, а тело продолжало вздрагивать от остатков хохота, - уволь, брат. Грудью от пули прикрыть – ради Бога. Но это...
- Что, страшна? - предположил я.
- Страшна? Слово-то какое ласковое.
Ребята опять закатились смехом.
- Ну Лех, - не унимался я. – Ты же помнишь? я спал с тридцатилетней старухой – и ничего. Они в темноте одинаковые. И устроено у них там все, как у всех.
- Ой, Арсений, я тебя умоляю, - трясся в конвульсиях Леха, - переспать-то с ней можно…, после пары бутылок. Как говорил твой коллега Тихон – кому и кобыла – невеста. Да ведь они же нас в театр потащат. Ты, значит, будешь с первой красавицей, а меня за голубого примут?
- Черт, - понял я, что бесполезно уговаривать, - ну почему у всех красивых девчонок подруги – уродины?
- Это потому, Арсений, что они на их фоне еще краше выглядят. Как картинка в рамке.
- Нет, Леша, - возразил Хук, - это из-за поклонения. Одна нуждается в том, чтобы поклоняться, другая – чтобы ей поклонялись. Ежечасно. И не мужики, а, именно, бабы. Наши оценки им ни к чему. Наши оценки на сексе замешаны. А вот если тебе поклоняется баба… Когда она идеализирует, обожествляет твой образ, старается быть похожей на тебя, говорить, как ты, думать, как ты, читать, что читаешь ты... Вот это, как я понимаю, высшее для них блаженство. И страшилка эта рада до зеленых соплей, что прикасается к божеству, что ходит с ней, говорит с ней, даже советует ей что-то. И, потом, посуди сам. Красивая подруга – всегда конкурентка, опасность, затмит, отобьет.
- Нет, - прервал я, - Полина не такая. Ей это не нужно.
- Многие с тобой согласятся, Арсений, - Хук стал серьезен. – Полина – особенный человек. Уникальный. – Тут он глубоко вздохнул и сразу стало ясно, что и он по ней сохнет. Или сох..., да засох. – Ты прав. Полина в этом не нуждается. С ней рядом – любая красавица – уродина.
Он поднял свою кружку. Мы с Лехой последовали его примеру. Все выпили молча.
- В общем, так, – занюхал Хук рукавом. - Через неделю, в субботу, в нашем ДК у нас какой-то там юбилей факультета. Дискотека и все такое прочее. На дискотеки она не ходит, но она в оргкомитете по организации празднества, а, следовательно, будет от начала до конца. Вот тебе и наколка. А вот тебе и билет. Держи.
С этими словами Хук достал из внутреннего кармана приглашение. Картон немного подмялся и закруглился, видимо, от бутылки водки, что недавно лежала в том же кармане.
Когда я его брал, у меня дрожали руки.
Полина
Торжество было посвящено официальному переименованию факультета из Оптико-механического в Факультет Оптического Приборостроения.
Россия!.. Иногда кажется, что переименовывать – наша национальная забава.
Сначала выкинули слово Русь, заменив его на СССР. Затем, в ход пошли города. Под нож легли Петербург, Екатеринбург, Самара, Царицын, Кенигсберг et cetera. Об улицах уж и говорить не приходится. Нет в России ни одного города или поселка, где не было бы улицы Ленина, Комсомольской или Советской. И, конечно, все эти названия налеплены на старые добрые имена. Что же касается учреждений, то здесь и подавно – полная чехарда. Любой новый начальник, заступая на должность почитает первейшим своим делом переименование подведомственной ему конторы. Хоть буквочку, хоть дефисик новый - да вставит. Это все равно, как собачка, обязательно должна переметить метку, оставленную предыдущим кобельком. Что?! Какая национальная черта за этим стоит? Или это свойство человека, вообще? Ведь придумывают люди замену даже именам. Ну, скажем, двое влюбленных. Они же почти никогда не зовут друг друга по святцам. В ход идут, всякие там, зайчики, мышонки, медвежонки и прочее зверье. Наверное, это способ обозначить право собственности. Да. Я убежден - это собачья метка.
Меня не волновало, что ее отец, Михаил Маркович Блок, в этом смысле, ничем не отличался от прочих начальников. (Кстати, говорили, что, во время оно, его фамилия была Блох, но он как-то сумел выправить ее на более благозвучную для русского уха – Блок. Благо, «Х» и «К» очень похожи). Приходится отметить, что у него есть вкус. Труднопроизносимая аббревиатура ОМФ превратилась в короткое, лаконичное ФОП. Правда, скорее всего, студентов факультета во множественном числе будут называть теперь «фопы», что созвучно с определенной частью нашего тела. Тут Михал Маркыч как-то не продумал. Но, зато, я так благодарен ему за имя Полина (надеюсь, она не Аполлинария по паспорту, хотя, и здесь, по значению, она – дочь бога Солнца). Это имя сейчас звучало для меня, как музыка.
Ну, так или иначе, не переименуй он факультет – не было бы и вечеринки.
Торжественная часть прошла традиционно-пафосно и скучно. Сначала выступил ректор института, потом какой-то приглашенный партийный гость, какой-то астроном. Затем, произнес речь и сам Блок, аргументировано доказав, что новое название полностью отражает суть факультета в свете развития оптической науки и приборостроительной индустрии. Потом выступил какой-то партиец, из наших, потом, профсоюзник, потом, комсомолец. В общем - все, как всегда.
Мутная часть, наконец, была завершена и началась приятная возня. Со сцены исчез стол с кроваво-красной скатертью. Взамен них появились гнутые микрофонные стойки, дешевый четырехоктавный синтезатор на тонких металлических ножках. С грохотом сооружалась установка ударных инструментов с рваным подвесным «томом» и, совершенно измятой, как старая консервная банка, тарелкой «крэш». «Раз, раз, раз» - проверял микрофоны рыжий прыщавый парень. В углу сцены начали подстраивать гитары под визгливую Ля первой октавы синтезатора. В зале, тем временем, творилась еще большая суета. Студенты выносили куда-то стулья, соревнуясь, кто больше ухватит за один раз. Кто-то соорудил «стопку» из десяти стульев, поднял, прошел пару шагов и грохнулся под всеобщий смех и аплодисменты.
Меня все это ни мало не интересовало. Я смотрел на НЕЕ. Полина, в короткой серой юбке, открывающей всю умопомрачительную красоту ее точеных ног, розовой блузке и сером же жакете порхала от сцены к противоположному концу актового зала и обратно и руководила перестройкой его интерьера под дискотеку. Ревность начинала душить меня, когда она подходила к какому-нибудь из парней, чтобы дать какое-то распоряжение. Ревность и… зависть. Как бы я хотел, чтобы она просто подошла ко мне и приказала сделать хоть что-нибудь. Хоть расчистить снег перед клубом, хоть отдраить туалет – все что угодно, лишь бы услышать как она произносит мое имя. Мое! «Черт. Я уж совсем, как купринский Желтков. Тот, правда, не ревновал. Он боготворил. Да и на пулю в сердце меня не хватит», - вдруг подумал я.
«Друзья, - прокатилось по всему залу. У микрофона, возвышаясь на полтора метра над толпой студентов, на сцене стоял тощий лохматый парень с гитарой наперевес, - вас приветствует группа Дважды Два. Отдохнем, ребята!»
Тут он картинно размахнувшись ударил по струнам. Вечный ля-мажор. Ему тут же ответили ритм, бас, клавиши и барабаны. Дискотека началась.
Кто из нас не хотел играть в рок-группе? Стоишь на сцене, чувствуешь себя Элвисом Пресли. И даже не в том дело – все девчонки о тебе думают, что ты – Элвис Пресли. В детстве, точнее, в отрочестве, я играл в школьной группе на клавишах. Это не то. Сидишь, подыгрываешь. Убери синтезатор и, кажется, никто и не заметит. Другое дело, если ты на лидер- или ритм-гитаре и поешь. Ну, барабанщику, еще, бывает, выпадает соло. Но клавишник в группе – это фон. Так обидно. Вообще, всегда обидно быть фоном. Пусть незаменимым, пусть прекрасным, но... фоном.
Акустические колонки стояли впереди сцены и надрывались нещадно. Толпа дрыгалась и дергалась, подвластна ритму бас-барабана. Полина отошла в нишу, справа от сцены, в самый угол (за колонками было гораздо тише), села на стул, положила ногу на ногу, чем совершенно свела меня с ума, достала из пакета книжку и стала читать.
Что это, если…, в восемнадцать лет, девочка не интересуется танцами? Не интересуется танцами – значит, не интересуется мальчиками. А что это значит? Первое, что приходит в голову – лесбос? Приходит на ум мопассановская «Полина». Но, Полина – не лесбиянка, я это как-то чувствовал. Хотя бы потому, что и лесбиянки пляшут. Фригидность? Да в ее взоре столько страсти... Хотя бы, когда она вот тут распоряжалась. Как горели ее глаза, как розовели ее мраморные щеки.
Понятно. Воспитание. Эти дурацкие отцы, безумно любящие своих дочерей, безотчетно, но по-Фрейду. Они так их ограждают от всяких естественных влияний и потребностей, загружают все их детство чем ни попади, от математики до скалолазания, что, к выходу в свет, они – совершеннейшие дети. И теперь ведь, гад, не отпустил ее куда-нибудь в МГУ – оставил при себе, самодур. Впрочем, я ему благодарен. Я стою. Я не танцую. Я смотрю на нее и наслаждаюсь ею. И я рад, что она целомудренна.
Раза три к ней подходили ребята с приглашениями на танец. В те моменты сердце мое готово было выпрыгнуть. Мне казалось, я бы не перенес того вида, когда она кладет руки на плечи какого-то потного козла, а он своими волосатыми копытами обхватывает ее талию. Потом подсела какая-то подружка и долго-долго трепалась. Так долго, что я стал ревновать даже к ней. Я вдруг понял, что время уходит, что дискотека скоро закончится, а я, как истукан, так и простою, жуя сопли, как сказал бы Юрка. Когда подружка упорхнула, я, наконец, набрался смелости и подошел к ней.
Она сидела очень прямо, положив ногу на ногу. Книга лежала на ее правом колене. Глаза опущены к чтиву. Огромные светлые ресницы (они были даже не накрашены). Тонкий-тонкий нос. Я бы сказал, греческий нос. Полные маленькие губы в розовой помаде. Аккуратный подбородок и длинная тонкая шея. Короткая, почти мальчишеская стрижка. Я впервые видел ее так близко. Сердце мое совершенно зашлось. Надо что-то говорить, но язык мой совсем присох к гортани.
Тут я увидел, как под ее ресницей начала набухать капля. Она росла, росла и, наконец, разрешилась стремительным ручьем, который пробежав по бледной щеке обогнул губы, скатился на подбородок и повис над книгой угрожая замочить страницы.
- Простите, можно поинтересоваться, что вы читаете? – решился я, наконец. Вид слезы придал мне храбрости. (Хрупкий стан, светлые волосы и… слезы пробуждают в мужчине мужчину, заставляя чувствовать себя защитником. Хотя, я думаю, что такой вид женщины всего лишь рождает в нас образ более легкой добычи).
Она подняла свои огромные серые глаза, полные слез. Сняла очки и долго смотрела, кажется, не видя меня и не понимая вопрос.
- Простите, что Вы сказали? - очень тихо проговорила она, как бы очнувшись.
- Мне показалось, что то, что Вы прочли, очень Вас тронуло. Можно узнать, что это было?
- Ах да, простите, - спохватилась она, - это Куприн, Гранатовый браслет.
- Тогда понятно. Вы в первый раз прочли? («Слава богу – подумал я, - я читал. Спасибо папиной библиотеке»).
- В первый.
- Тогда понятно, - глупо повторился я.
- Это прекрасно.
Ее серые глаза близоруко смотрели сквозь меня. Она по-прежнему была там, в книге.
- Как вы думаете, если б он не застрелился, чем бы дело кончилось? – обрадовался я тому, что тема нашлась сама собой.
Полина задумалась, сдвинула брови, будто испытала боль и сказала:
- Было бы еще хуже.
- А, разве не говорит один из героев рассказа, что любовь должна быть трагедией?
- Это не главная мысль, - задумчиво произнесла она наклонив голову на бок и посмотрев куда-то в даль.
- Я понимаю, - отозвался я, - главная мысль в том, что единственная огромная любовь может пройти мимо?
- Точно, - кажется, она только теперь поняла, что говорит с кем-то, - простите, а Вы?..
- Я Арсений. Я с геофака. Я не люблю танцы, - соврал я, - я..., мне показалось, что Вы тоже их... не очень...
- Нет, неправда. Я люблю танцы. Я, просто, не люблю..., так сказать..., ну..., толпу.
Было видно, как неудобно ей произносить это слово. Она даже порозовела от стыда, что придало ей еще больше обаяния и нежности.
- Правильнее было бы сказать, стадо?
- Ну что Вы. О людях нельзя так говорить..., - тут она спохватилась, - простите, меня зовут Полина.
- Как красиво, ой..., простите..., очень приятно. Кажется, у нас с Вами не самые модные имена?
- Модные? - искренне удивилась она.
Глаза ее уже просохли и смотрели с детским любопытством. У меня кружилась голова. Я не мог поверить, что говорю с ней. И говорю так просто.
- Ну да. Как ни прискорбно понимать, но и на людские имена есть мода.
- Не знаю. Меня, кажется, назвали по церковному календарю.
- Но Вы же..., - начал и осекся. «Вот ведь дурак», - подумал я.
Она рассмеялась.
- Еврейка?
- Простите.
- За что?
Я совсем потерялся.
- Я не помню, кто это сказал, но звучит это так, - продолжала она весело, - человек принадлежит к той нации, на языке которой он думает. Я думаю по-русски. Вот и все.
- Но тогда, полмира – англичане?
- И пусть. Я готова начать думать хоть на языке Буркина-Фасо, лишь бы весь мир думал на одном языке. Если все начнут думать на одном языке, значит весь мир будет одной нации. Тогда не будет войн, не станет страданий, голода. Все будут друг дружку выручать, поддерживать.
Щеки ее разгорелись. Она была совершенно по-детски искренна.
- Не знаю. Мне кажется, что мысль не имеет языка. А вот, когда она уже родилась, тут уж происходит формулирование на диалекте. Я вот, люблю Вас, и когда я это ощутил, я точно знаю – никакого языка не было...
Полина раскрыла рот и долго-долго посмотрела мне в глаза. Краска залила мне лицо. Пламенем разгорелись уши. Я сам не понял, как это из меня вырвалось. Это была ее магия. В ее присутствии я забыл, вообще, где нахожусь. На другой планете. Я не видел скачущих людей, не слышал оглушительной музыки. Лишь музыка ее голоса и бешеное счастье от того, что она со мной говорит.
- Когда Вы это ощутили? - серьезно спросила она.
- В метро. Две недели назад. Вы вошли на Площади Революции. Я потом пошел за Вами следом, потому, что не мог не идти. Потом я был в восторге, что мы с Вами из одного института, потом я выпросил билет на эту вечеринку, потом я подсел вот сюда, потом мы говорили о Куприне, потом...
- Все, все, все, - она приложила свой тоненький указательный палец к моим губам и я, чуть не грохнулся со стула, опьяненный этим прикосновением.
- Вы, Арсений...
- Прошу, не зовите меня Арсений. Звучит, как вступление к смертному приговору.
- Хорошо, Сеня, - улыбнулась она, - так лучше? Вы слишком торопитесь..., и Вы мне очень понравились. Я предлагаю вам дружбу. И не сходите с ума. Ладно? Я ведь не хочу пропустить ту, единственную в жизни любовь. Хорошо?
Все кружилось у меня в глазах. Я не мог в это поверить. Мне казалось, я сейчас упаду в обморок. Просто возьму и грохнусь на пол. И как она нашла это нежное «Сеня»? Меня в жизни никто еще так не звал.
«Храни тебя Господь, Александр Иванович, там, на небесах», - только и было в голове.
Брррр!
«Любопытно, - думал я, когда проводив Полину до Курской, стоял на троллейбусной остановке на Чкалова, - Куприн и Гранатовый браслет пришли ко мне в голову до того, как я подошел к ней. Это здорово, но почему же мне так страшно от моих предвидений?»
Эйфория от удивительного вечера прошла. Осталось ощущение, что мы знакомы с детства. На душе было очень тепло от сегодняшних воспоминаний но веяло холодом от завтрашнего будущего. Мешала эта заноза – мой дар. Или тот сон беспокоил меня? Но нет. Тревожило еще какое-то близкое предчувствие. Предчувствие, что я еще сегодня совершу что-то очень нехорошее.
Я медленно поднялся по лестнице дома номер тринадцать по Оружейному переулку, свернул в коридор и..., сразу понял, что именно меня так пугало. В мою дверь стучала Царица Тамара.
- А-а-а, явился, - заметила она меня, - а я уж думала, что ты там затаился и не хочешь меня видеть.
Она кокетливо и криво улыбнулась обнажив желтые от никотина, но ровные зубы.
Как же противно, когда кокетничает стареющая женщина. Как уродливо она выпучивает глаза, пытаясь, как ей кажется, «стрельнуть» ими. На самом же деле, этим она только подчеркивает свой возраст, вместо того, чтоб прятать его за сдержанностью. Как нелепо-картинно наклоняет она голову, скромно-похотливо заглядывая тебе в глаза из-под своих обильно измазанных тушью ресниц. Ее взгляд что-то тебе обещает, и видно, как она думает, что я должен быть в восторге от этого обещания. Как неосторожно-глупо она не прячется от яркого света, выставляя напоказ все свои морщины, замазанные толстым слоем штукатурки. Как неуместно-ярко накрашены ее губы. Брррр!
- Да что Вы, Тамара Степановна, как можно? Я в институте задержался.
- Не надо, Арсений, звать меня Тамара Степановна. Для тебя я просто Тома, хорошо?
- Как скажете, Тамара Сте..., Тома, - поправился я.
- Ну вот и ладно, открывай дверь-то, - мягко, но явно приказывая, сказала она, ты устал, наверное? Я тоже. Вот мы и отдохнем на пару.
- Да я Тамара..., Тома, я..., мне завтра рано вставать, - решил сопротивляться я.
- Ну ничего, милый, я тебе прощаю завтрашний прогул. К тому же, у тебя убрано, а снега на завтра не обещали. Смелей.
Она хлопнула меня по плечу, как бы говоря, что вопрос решен. Я открыл дверь и мы вошли. Когда я включил свет, тараканы заметались по комнате и стенам, поняв, что их праздник закончился. Тамара по-хозяйски разделась, прошла в кухню, достала из принесенного с собой пакета бутылку Столичной, ноль семь, в экспортном исполнении и поставила ее на стол.
Да. Стареющие женщины весьма неприятны для нежной эстетики юности, но, что-что, а опыта им не занимать. Интуитивно или сознательно чувствуя свои слабые стороны, они знают, как решить эту проблему. Вино – беспроигрышный ход. Грань между безобразным и прекрасным не то, что стирается под действием водки, а, просто, все переворачивается с ног на голову.
«Ну ладно, - подумал я, - выпью, наберусь храбрости и прогоню ее». Наивный. Когда мы выпили всю бутылку, она без прелюдий плюхнулась передо мной на корточки и принялась расстегивать джинсы.
- Тамара, Тамара, что ты делаешь. Я не могу!
- Что? - властно произнесла она, с наглой ироний посмотрев на меня снизу вверх и продолжала расстегивать брюки, - ты, мальчик, не шути со мной. У меня тут очередь на твое место. Тут она справилась с джинсами и с силой придвинула меня к себе. «Полина, прости меня», - только и подумал я.
- Вот так вот, Юра, - сокрушенно произнес я, закончив рассказ.
Мы сидели у меня и пили пиво. Юрка сегодня помог мне убрать участок, а я, с зарплаты, купил ящик Жигулевского.
- Да, Арсений. Не знаю, что тебе и сказать. С одной стороны, ты поступил правильно. Она может тебя вышибить отсюда в любой момент. С другой стороны – это вопрос времени. Ты ей, рано или поздно, надоешь и она тебя заменит на другого мерина.
- Эх, Юра, не в этом дело. Я ничтожество. Я впервые полюбил по-настоящему, до одури, до смерти, как мне казалось. Так удачно сложилось наше знакомство. Так искренне она предложила свою дружбу. «Я ведь не хочу пропустить ту, единственную в жизни любовь», - сказала она. Ну что может быть прекраснее? И что я? Через два часа мой член был во рту у этой ведьмы. Тьфу! Гадость!
- Да не переживай ты так. Во-первых, у тебя нет еще перед Полиной никаких обязательств. И, потом, женщина, если хочет, всегда добивается своего. Привыкни к этому. Привыкни и смирись. Если не можешь изменить обстоятельства – измени взгляд на обстоятельства. Смотри на Тамару, как на неизбежное зло. Ты же без удовольствия убираешь участок или, к примеру, учишь фотограмметрию? Ты это делаешь потому, что это необходимо для тебя. Вот и к этому относись так же.
- Да есть у меня обязательства! - стукнул я кулаком по столу так, что подпрыгнули и недовольно загомонили пустые и полные пивные бутылки, перебраниваясь друг с другом, - есть! Перед собой. Пусть даже она никогда не узнает, на мне вечно будет висеть этот камень. И потом, главное, Юра. Я точно знаю, что она узнает. Я видел сон. Себя в виде трусливого кролика, Тамару, какого-то старика, какого-то чудищу и..., Полину. И она крикнула: «Ничтожество!».
- Свихнешься ты, Арсений, со своими предчувствиями.
- Ну, что же мне, в Армию Спасения податься, что ли?
- Не знаю, брат. Знаю, что тебе надо крепко подумать.
- Пока Полина не будет моей, ни о чем думать не хочу. Точка.
Снова зазвенели бутылки.
- Ммммм-да, - промычало Время, - видно рановато я стало завидовать людям.
- Вот именно, - одними губами произнес Арсений Павлович.
Он будто еще находился там, в семьдесят восьмом.
- Более того, я даже начинаю вновь завидовать себе. Мимо скольких миллионов таких ситуаций я прохожу и сердце мое не всколыхнется. Представляешь, если бы я переживало каждую такую коллизию, как свою? Да мое колесо вовсе бы остановилось. Да-ааа. Вы должны радоваться, что жизнь ваша конечна. Вы должны боготворить меня за то, что я честно исполняю свою работу. Что я неумолимо.
- А как же сцена на дискотеке? – возразил вдруг Арсений Павлович, – как без такого жить!
- Ну это мы еще посмотрим, что там впереди. Не в уплату ли за нее ты здесь гниешь, - высказало догадку Время.
- В уплату за святые безвинные минуты? А я думал, мы платим за грехи. За всяких там Тамар.
- Кхе-кхе, - крякнуло Время. – Плати человечество за грехи, то, думаю, в раю никого бы не было, ибо, как я понимаю, нет такого у вас здесь, кто бы не грешил. А вот восторг любви, творчества, самоотречения… Это испытывают, как я понимаю, единицы. Неужели ты думаешь, что Данте поместил в ад Сократа с Платоном и прочими мудрецами за то, что они, по неведению своему, не знали истинного вашего Бога? Ерунда. Они там парятся, вечно, за восторг, как они наивно полагали, прозрения в вечную истину, за радость познания (будь то любви, искусства или науки). Тем, кто намучился на этой земле от своих тяжких грехов и уготован рай, чтоб хоть как-то извиниться за то зло, что ваш Господь принес вам, сделав вас слабыми и грешными. А вот те, кто и при жизни получил отдохновение счастья…, счастья любви к любимой женщине или к вечной…, кхе-кхе, истине (что, полагаю, одно и то же), те – пожалуйте в первый круг.
- Ну это ты врешь, - поморщился Арсений Павлович.
- Ну подумай сам, - невозмутимо продолжало Время, - сколько счастья на земле испытывает праведник. Здорово его тело, здоров дух. Всю жизнь он взирает на вас, грешников, свысока. Всю жизнь он парит над смердящей грязью жизни, как бы говоря: «Это не мое». Подумай о святых отшельниках, что бросая своих родных и близких, их тревоги, заботы, ужасы их бытия, уходят в пустыню. Из гадливой трусости измараться, с одной стороны, из ленивого нежелания хоть как-то облегчить их страдания, с другой, и из неуемной похоти получить удовольствие отдохновения души, с третьей. Что это за такое титаническое усилие они приложили, чтобы из природной своей брезгливости не коснуться скверны греха? Что? За это прямиком в рай? Чушь.
- М-да, - совсем загрустил Арсений Павлович
- Хочешь, я дам тебе еще пару минут.
- Конечно. Мне понадобится.
- Уууу-ххх! Как здорово, - прикосел опять Арсений Павлович, когда сеанс закончился. – А это откуда?
На коленях у Времени неизвестно откуда возникла черная пушистая кошка. Она мирно спала свернувшись колечком, а Время почесывало ее за ухом.
- Кто? А, это? – наконец поняло Время, проследив взгляд Арсения Павловича. – Это Инь, моя кошка. Символ моего бесконечного обращения в пространстве. Посмотри. Она спит, и хвост ее касается морды. Понимаешь? К тому же, у вас на земле она является символом женского начала. У меня есть еще и собачка. Его зовут Янь. Белый пудель. Кошка всегда бывает черного цвета. И твоя Полина, и твоя Тамара – суть – Инь.
Ну, да ты рассказывай дальше.
Андреевский Гоголь
Арсений Павлович пожал плечами, недоверчиво взглянул на кошку и продолжил:
- Да… Кошка… Известно, что многие сильные мира сего… Скажем, Александр Македонский, Юлий Цезарь, Бонапарт Наполеон, не любили кошек. Видимо, диктаторы не терпят чужую независимость во всем живом, включая и домашних животных. Известно, также, что люди слабые ненавидят собак. Имена их, конечно, не остались в истории. Ну, может быть, гомеровский Парис, или гоголевский Андрий? Да и они – вымышленные «герои». Истории не важны слабые люди. Лишь писатели да поэты цепляются за них. Именно на них строится любая классическая трагедия. Да. Не на силе, а на слабости стоит любое высокое искусство. Кажется, понятно, почему слабые не любят собак. Преданность, безусловная пожизненная подчиненность, так прекрасно свойственная собакам, напоминает этим людям о вечной собственной зависимости. От человека, от случая, от отношений, от своих слабостей. К тому же, они их, собак, просто боятся. Боятся и завидуют. Ибо, сами они, эти слабые люди, на преданность не способны.
Я не понимаю ни тех кто не любит кошек, ни тех, кто не любит собак. Мне нравится, когда кошка позволила себя погладить. Нравится и то, что она это позволила лишь тогда, когда ей этого зачем-то захотелось. Смешно наблюдать, когда она всем видом показывает, что ты ей безразличен, а сама, и это всегда видно, жить без тебя не может. Без твоего внимания, твоей ласки. И мне нравится, когда огрызается, до смерти преданная тебе, собака. Как она, потом, заискивает, стараясь загладить свою вину, лижет укушенное место, потому, что, тоже, жить без тебя не может.
Вообще, я полагаю, что любое ортодоксальное суждение – есть ошибка. Я не люблю, когда навешивают ярлыки. Ну, например, измена. Может и насильно, но я убедил себя в том, что я не изменил Полине. По десяти первичным признакам – это измена, по тысяче остальных – нет. Конечно. Мы видим то, что хотим видеть и верим в то, во что хотим верить. Так или иначе, я успокоил себя и моя совесть меня больше не мучила.
А напрасно.
- Как же ты можешь не любить книг?
Мы прогуливались по заснеженному Тверскому бульвару. Низкое, скупое февральское солнце пыталось пробиться через морозную пелену серого московского неба, но ничего у него не выходило. Лишь размытое мутное пятно над белыми крышами и черными трубами домов. Я взял ее за руку, когда мы переходили Большую Никитскую и на Никитском бульваре уже не выпускал ее из своей руки. Полина не сопротивлялась.
- Я этого не говорил, - возразил я, когда мы перешли улицу, - я сказал, что не люблю читать.
- Но это ведь одно и то же, - удивилась Полина.
- Вовсе нет. Я прочел достаточно много книг. И книг прекрасных. У отца великолепная библиотека. Но есть два фактора, что заставили меня возненавидеть чтение. Первый – чисто физиологический. Я читаю, как черепаха, не более двадцати страниц в час. Поэтому, на то, чтобы осилить, например, «Войну и Мир», мне потребовалось три месяца. Странно, но сколько бы я не читал, скорость не увеличивалась. «Вкусные» места я перечитываю по десять раз, а иногда, ловлю себя на том, что пропустил уже страниц десять, листаю, а сам думаю о чем-то своем. Приходится возвращаться.
- Да тебе позавидовать можно. Мне вот приходится заставлять себя читать медленно, когда хочется насладиться языком, или мыслью, или чувством..., - она мечтательно посмотрела в небо, видимо, вспоминая какую-то любимую книжку. Мне почему-то показалось, что книга эта была о любви. - А то, лечу, как степная кобылица, мну ковыль страниц, - продолжила Полина. - Нет, Сенечка, это не повод, чтоб не любить читать.
- Это спорное заявление, Полинка. Вот, скажем, перед тобой вкусная еда. Если ты не голодна – да, можно сидеть и смаковать обсасывая косточки и облизывая пальчики. Но если у тебя сводит желудок и бежит слюна, как у голодной собаки, ты начинаешь хватать чуть не руками, запихивая в себя кусок за куском. Иногда ведь хочется просто проглотить книгу. Конечно, это касается, в основном, сюжетной литературы. Детективы, д’Артаньяны, Монте-Кристы. Я, в общем-то, и не люблю таких книг.
- Я всегда ем аккуратно, - шутливо надула губки Полина.
- Да это я о себе, - улыбнулся я.
Как же прекрасны любые ее движения. Наморщит ли она, лоб, выказывая недовольство, заломит ли брови до небес от изумления, чихнет ли, скромно уткнувшись в свой маленький кулачок. Все, все в ней вызывало мой восторг и умиление.
- Ну, ладно. А вторая причина? Ты же говорил о двух, как ты смешно выразился, факторах.
- Вторая – это моя матушка.
- Как, матушка?
- Да вот так. Детства у меня не было. Точнее, не было того, мальчишеского детства. С шайбами и клюшками, с разодранными коленками и разбитыми носами, вывоженными в грязи заброшенных строек новенькими пальто. Пай-мальчик. Так она меня воспитывала. Школа, факультативы, кружки, школьные олимпиады, музыкалка, пионерские лагеря типа «Орленка» и «Артека». А если и выпадало свободное время – сиди и читай. Да и книги какие-то... Гайдар, Бианки, Паустовский. А на улице ребятня до ночи «в банки» гоняет, или «в чижа».
- А как же отец? – понимающе взглянула она мне в глаза.
- Отец? Одно слово – партработник. Собрания, совещания, симпозиумы. Он все сбросил на мать. Так только, в экстремальных случаях – назидательная беседа.
- А ты знаешь, у меня ведь было точно такое же детство. С той лишь разницей, что читать меня не надо было заставлять. Мама от меня книжки прятала. У меня был фонарик. Меня укладывали спать, а я его доставала и читала под одеялом. Однажды, так и заснула и меня утром «взяли с поличным». Фонарик отобрали. А я накопила. Сэкономила на завтраках и купила новый.
- Да. Что сказать. Моя любовь к книгам до такого фанатизма не простирается. Разве что, Гоголь.
- Правда? Ты любишь Гоголя? - вскинула, было, руки Полина, чтоб зааплодировать, но мне так не хотелось выпускать ее руку из своей, и я удержал. – И так здорово, что мы, как раз, у него.
- В каком смысле?
- Памятник. Мы почти рядом.
- Да ну его. Терпеть не могу. Это разве Гоголь. Вставь ему шашку в руку – вот тебе и генерал какой-нибудь. Урод, ей-богу. Истукан.
- Это ты про Томского, а я про Андреева.
- Какого еще Андреева?
- Эх ты, провинциал ты мой. Неужели ты не видел сидящего Гоголя?
Как же мне стало тепло от этого «ты мой».
- Нет, а где он?
- Он во дворе дома, где Гоголь сжег свой второй том. Пойдем.
Мы пересекли по диагонали Никитский бульвар и зашли в заснеженный дворик дома номер семь. Несмотря на близость Калининского проспекта во дворе было совершенно тихо. Хотя, казалось бы, центр Москвы, а дворники здесь - не очень. Дорожки расчищены всего на два движка, настолько, чтоб только разойтись двоим можно было. По бокам их были навалены серые сугробы с человеческий рост. Вот она, гоголевская Россия. Отверни шажок от центральной чисто вымытой, выскобленной магистрали и попадешь в какой-нибудь город N, так живо описываемый писателем из произведения в произведение, а то, и прямо, в плюшкинскую усадьбу. Откуда столько лицемерия в столь искреннем народе?!
Но, надо отдать должное, вокруг памятника все было расчищено до асфальта и лед был сколот. Даже чья-то заботливая рука смахнула снег с головы, плеч и колен писателя.
Мы подошли ближе. С высокого постамента с вечно глупыми барельефами, на меня смотрел настоящий Гоголь. Ну что за дурацкая мода сажать автора на своих героев. Они рождались в его гениальной голове, они окрыляли его, возносили до небес, а теперь подпирают его зад. Тьфу.
Закутавшийся в шинель, сгорбленный, будто придавленный тяжким грузом дум своих, он сидит и смотрит и на тебя, и, как бы, сквозь тебя. Чудится, он будто видит будущее и взгляд его мрачен и тосклив. Он словно говорит: «Русь, куда ж несешься ты? дай ответ. Не дает ответа». Я даже выпустил Полинкину руку.
- Господи, Полинка, да это лучший памятник, что я видел. Будто лепили с живого, - наконец произнес я.
- Его создали, точнее, создал скульптор Николай Андреевич Андреев в 1909-ом году, к столетию со дня рождения писателя. Его поставили в начале Пречистенского бульвара, ныне Гоголевского. Как раз на том месте, где теперь стоит Гоголь Томского. Там он простоял до 1951-го, когда Сталин приказал его уничтожить. Памятник чудом спасли. Спрятали в каком-то монастыре. Интересно, что простоял он ровно сорок два года, то есть, столько же, что и прожил сам Гоголь. В 1959-ом его вернули, но не на старое место, а вот в этот дворик.
- Какая прекрасная судьба. И какое прекрасное место. Как здорово, что он не для всех и как здорово, что ты мне его показала. Господи, я совсем не знаю Москвы.
- Это мы поправим, - улыбнулась Полинка, - деревня ты моя.
Она сняла варежку, нежно щелкнула меня по носу, и весело рассмеялась.
Я был счастлив.
Рита
Теперь все дни мои имели один и тот же распорядок. В пять на участок, к девяти в институт, через не могу, три пары, и, в два, я уже в сквере перед главным зданием. Жду ее. Она никогда не опаздывает. Я беру ее сумку и мы едем на очередную экскурсию. Она хороший рассказчик, великолепно знает Москву. Знает все о московских улицах, о домах, которые на них стоят, о людях, которые в них жили. Знает все старые названия и почему так называлась та или иная площадь, рынок, церковь. Она делала из меня москвича. Но, я слушал ее вполуха, потому, что был счастлив. Потому, что никак не мог нарадоваться, что я рядом с ней. Я глядел на ее одухотворенное лицо, ее живые, горящие рассказом, глаза, и моя неуемная фантазия уносила меня далеко-далеко. То я видел, как мы стоим в загсе и высокая полная женщина в светлом костюме и красной лентой наперевес, зычно произносит: «Объявляю вас мужем и женой». Вот мы в свадебном путешествии, в Ялте. Море. Ласточкино гнездо. Она стоит на берегу моря в купальнике, вся в золоте закатного солнца, которое нехотя опускается в прозрачную воду, и, как бы, с сожалением протягивает к ее ногам свою руку-дорожку на прощанье. А вот мы в номере гостиницы. Полумрак. За окном звенят цикады. Она выходит из ванной, сбрасывает белый пушистый халат на пол и... Тут, Полина щелкает пальцами перед моим лицом. «Эй! На последней парте! Хватит ворон считать, не-то, двойку поставлю и родителей вызову» - смеется Полина, понимая, что я совсем ее не слушал.
Как назло, и Царица Тамара стала меня посещать с регулярностью, достойной лучшего применения. Я, в общем-то, всегда предугадывал заранее, когда она придет. В такой день я говорил Полине, что у меня на участке много льда и надо поработать внеурочно. Московский поход отменялся. Я шел с ребятами, а, порой, и один, в пивную, выпивал там необходимую дозу водки. И, дойдя до нужной глубины пошлости и цинизма, ехал к себе. Через полчаса раздавался стук в дверь и появлялась Тамара с неизменной бутылкой водки. Пила она, как заправский дворник и, при этом, совершенно не пьянела. Затем повторялось все то же. Длилось это неизменные два часа. Часто, добитый ее водкой, я даже не помнил окончания «действа». Наутро, я просыпался один (она никогда не оставалась у меня), терзаемый совестью и похмельем, допивал остатки водки и шел на участок. И все утро передо мной стоял Полинин облачный образ и, каждый раз, он кричал мне: «Ничтожество!».
«Можно, я поеду с тобой? - как-то сказала Полина, когда я, в очередной такой день, стал «отпрашиваться» у нее, - ты поработаешь на участке, а я посижу у тебя, приберусь, посуду помою. Уверена, в холостяцкой квартире есть чем заняться девушке, которая не боится работы. «Да что ты, Полинка, ты не ведаешь, о чем просишь, - не на шутку перепугался я, - я никогда не покажу тебе своего жилья. Это же дворницкая. Дворницкая с большой буквы. С тараканами, пауками и клопами!». «А вот и врешь, - возразила она, - где живут пауки, тараканов не бывает». «Ну хорошо, пауков нет. Это я так, для яркости красок. Но, подо мной продуктовый магазин. Тебе известно, что такое земмифобия?». «Боязнь крыс? - спокойно отвечала она, – я их не боюсь». «Нет, Полина, ты не видела моих крыс. Они с взрослую кошку». «А ну-ка, Арсений, посмотри мне в глаза», - Полина взяла меня за плечи и развернула к себе. Я не знал, куда приткнуть свой взгляд. Она, во второй раз в жизни, назвала меня этим неприятным и холодным «Арсений». Ее серые огромные глаза, как два рентгеновских аппарата, вывернули меня наизнанку. «Ну ладно, - вздохнула Полина, - почему-то ты не хочешь – не надо. Может, ты стесняешься, может, у тебя секреты. У всех есть секреты. Но, давай договоримся. Однажды ты приведешь свое жилище в порядок, спрячешь свои секреты поглубже и пригласишь меня. Хорошо? Договорились, Сеня?». Она погладила меня по щеке, и мне показалось, что она все поняла и простила. Так мне показалось…
Но мне от этого прощения и предстоящей ночи стало совсем уж невмоготу.
- Юр, может мне убить ее? напихать толченого стекла в колбасу? Ты бы слышал, как она чавкает.
- Кого убить? Полину?
- Ты, Юрка, краев не видишь. Не различаешь, где чувство юмора, а где пошлость. Я серьезно.
Мы стояли «На Покровах» и допивали уже вторую бутылку водки. Сегодня я никак не мог погасить гадливого чувства перед грядущим развратом. И еще, я чувствовал, что сегодня произойдет какая-то особенная гадость.
- А если серьезно, то тебе, малыш, надо поразмыслить не шутя. Ты совсем себя изнасиловал. Не Тамара, а ты сам. Ну подумай. Почему ты держишься за это место, да еще такой ценой. Ты привык. Двадцать минут до института. Семьдесят рублей плюс к стипендии. Собственное жилье. И, главное, всегда рядом с Полиной. На другой чаше – Тамара. Раз в неделю ты вынужден надираться до поросячьего визга. Ты скоро не только сам сопьешься, ты и меня споишь к чертям собачьим. Унижение оттого, что не ты, а тебя трахает старуха, заглушенное вечером водкой, утром, и всю неделю до следующей пятницы выматывает тебе душу. Ну что? Если ты будешь ездить из области, то что? Полина тебя станет меньше любить?
- Она не говорила, что любит меня.
- Брось. Девчонка все свое свободное время тратит на тебя. Сон, институт, – остальное – ты. Надо быть слепым, или совсем уж закомплексованным тушканчиком, чтобы не понимать, что она тебя безумно любит. И потом. Что? Только это ЖЭУ нуждается в дворниках? Ну, переедешь подальше от центра, ну, денег поменьше. Но останешься в Москве.
Юрка разлил по кружкам остатки водки. Мы молча выпили.
- Когда я советовал тебе относиться к этому проще, я не предполагал, что это так далеко зайдет. Не думал я, что Тамара «подсядет» на тебя. Прав был Леха. Наверное, ты был чересчур хорош в первый раз. Ну да, что об этом сейчас. Ты имеешь то, что имеешь. Странную, грязную, противоестественную проституцию в уплату за чистую любовь прекрасной неземной девушки... Что с тобой, Арсений?..
Я ничего не мог с собой поделать. Слезы лились из моих глаз неостановимым потоком. Гадкий клубок чувств от ненависти к себе до жалости к себе глубочайшей. Все нитки были перепутаны ничего нельзя было понять, никак не распутать. Это были слезы бессилия. Юра говорил разумные и очень простые вещи, а я не мог ничего осмыслить. Перед глазами были только боль и страх. Меня просто развезло. Бутылка водки и пять кружек пива. Я уперся руками в стол и попытался выпрямиться. Меня тут же повело и, через секунду, я лежал на грязном полу пивной. Юрка бросился меня поднимать.
- Юр, - промямлил я, когда на улице он оттирал мое пальто снегом, - Юра, ты отвези меня в Оружейный. Я сам не доеду. Я запрусь и никому не открою. И пошла она к черту, ведьма старая.
- Конечно отвезу. Ты, главное, запрись и ложись спать. Договорились?
- Все, Юр, дальше я сам, - выговорил я, когда мы подошли к подъезду моего дома, - я уже ничего.
- Смотри. Точно, дойдешь?
- Все в порядке, Юра. Я в порядке.
- Не забудь закрыться. Пусть, хоть дверь вышибает – не открывай, - увещевал на прощанье Юрка.
- Да, конец. Пошла к черту. Финита ля комедия.
Я открыл подъездную дверь и начал подниматься по лестнице, отскакивая, как мячик, от перил к стене и обратно. По коридору я шел более осторожно, опасаясь ввалиться, ненароком, в какую-нибудь соседскую дверь, поминутно отдыхал, прислоняясь к простенкам между «квартирами». Наконец, я добрался до своей двери. Долго доставал ключ, наконец достал, и попытался вставить его в замочную скважину, но промахнулся, ткнув сантиметров на десять левее. Однако, дверь при этом почему-то подалась и, со скрипом, растворилась. До меня донеслись женские голоса и громкий лающий смех. Я ввалился в кухню и... остолбенел. За столом, лицом ко мне сидела раскрасневшаяся от водки Тамара. Стол был обильно уставлен какими-то закусками, консервами, пепельницами, стаканами. Посредине стояла чуть только початая бутылка «Столичной». Вторая, пустая, валялась под столом. Сигаретный дым висел в воздухе неподвижными похотливыми языками облизывая дворницкую. Спиной ко мне сидела еще какая-то женщина в накинутом на плечи сером деревенском платке.
- Наконееец-то, - протянула Тамара гнусаво, - а мы тут тебя заждались уже.
Женщина обернулась. На меня смотрело остренькое, как у хорька, все в веснушках личико типичной деревенской доярки. Огненно-рыжие волосы ее были сплетены в косу. Серые не накрашенные глаза в рыжих ресницах с любопытством уперлись мне куда-то в подбородок. Есть такой неприятный тип людей - никогда не смотрят в глаза. Затем, она оценивающе смерила меня взглядом и улыбнулась ровными белыми зубами. Все бы ничего, но четвертого правого верхнего зуба не было.
- Знакомься, милый, это Рита, моя младшая сестра. Приехала погостить, да вот мы решили тебя навестить.
- Но..., как ты..., - пытался я что-то сформулировать.
- Что? Как вошла? Ну что ты, Арсений. Я техник-смотритель участка. У меня дубликаты всех ключей, от всех и вся, - залаяла Тамара своим идиотским смехом, потом, долго закашлялась сигаретой, торчащей в углу ее, обильно выкрашенного, рта.
- Ты раздевайся, бери стул, присоединяйся к нам, - распоряжалась она, будто у себя дома.
Да так оно и было. Она, именно она, была здесь полновластной владелицей жилья, работы и людей. Она была царицей. И я, сквозь пьяный дым в моей голове, начал понимать, что сегодня она проявит свое «величие», каким-то, совершенно гнусным образом. Я еще надеялся, что она, просто, хочет покрасоваться своим всесилием перед сестрой, вот так вот, бесцеремонно вломившись в чужую квартиру. Но нет. Планы ее были куда как обширнее. Я разделся и подсел, скорее, привалился к столу. Тамара достала из серванта стакан и налила мне почти целый.
- Тома, я столько не выпью, - выговорил я, вместо того, чтобы сказать, «пошли вы обе к черту».
- Ну что ты, родимый, ты же дворник, солдат улиц, так сказать, - блеснула Тамара образным мышлением, - выпей, поболтай с Ритулей, ты ей понравился, я это вижу.
Рита внимательно рассматривала меня, наклоня свой рыжий кочан. Я взял в руку стакан, посмотрел, по очереди, на Тамару, потом на Риту, понял, точнее, предузнал все, и выпил залпом.
Когда я очнулся, было два часа ночи. Я проснулся оттого, что мне было жарко. Я лежал притиснутый двумя потными, совершенно обнаженными женскими телами. Рыжая не по-человечески храпела, и по ее, стекшей набок груди, полз соседский клоп, явно прибежавший на «свежее мясо». Во рту было гадко. Гадко было и на душе. Я надел трусы и прошел на кухню. На столе, среди груды грязных тарелок с загашенными в них сигаретами, полупустых консервных банок, надкусанных колбас, стояла недопитая бутылка водки. Я налил. Вышло полстакана. Выпил не задумываясь.
«Финита ля комедия..., дальше некуда, – почему-то спокойно рассуждал я. – Что дальше? Привезет брата? Малолетнего племянника? Заставит заниматься сексом с ними?! До какого предела разврата может дойти человек? Мне надо бежать. Бежать, чтобы не замарать чистую девочку. Есть люди, которым начертано быть сволочью. В том нет их вины. Это их судьба. Их крест – их ничтожество.
Святая девушка. Ангел. Зачем ты рядом с этой гадостью?! Зачем?! Спаси меня, Полина. Подскажи, что делать. Возьми за руку и уведи меня из этой моей мутной жизни в ту, свою, где нет водки, где нет Тамар, Рит, где нет разврата, где прекрасна жизнь, простая и, вместе с тем, удивительная, где никто ни от кого ничего не просит, не требует, где всегда праздник. Мне семнадцать, а я достиг самого дна. Илистого, черного, липкого. Сейчас заглотну всю эту желейную гадость, закашляюсь и…
Умру».
Арсений Павлович мрачно разлил, уже не спрашивая Время, по двум стаканам и, по-хамски, не предложив гостю, заглотил свой. Время молча взяло свой стакан, задумчиво повертело его в руках, затем, медленными глотками выпило.
- Ну и зря ты так переживаешь, - после долгого молчания произнесло Время. – В конце концов, попав под дождь и вымокнув до нитки, человек уже мокрее не становится. Правда, можно, в конце концов, простудиться и умереть… Но чтобы просохнуть, надо просто попасть в сухое помещение. Ну, или, чтобы солнышко вышло.
- На солнце, в моей ситуации, уже надежды не было. Полина светила мне, как могла, а я все бежал за тучей, будто меня туда засасывало, - вяло промямлил Арсений Павлович.
- Ну-ну. Выбор всегда есть, - произнесло Время менторским тоном.
- Тебе то откуда знать, - уже зло огрызнулся Арсений Павлович. – Ты же не умеешь ездить назад. Не можешь повернуть вспять. А еще нас ругаешь, что мы ходим спиной. Я, дурак, все надеялся, что можно так и жить двойной жизнью. Одна на столе, другая под столом. Дурак. Как же я ошибался!
- Ну, по поводу вспять – конечно, нет, - успокаивающим баритоном возразило Время, поглаживая свою кошку, - но вот посмотри. Есть большой круг, по которому я качусь. Но человек может случайно попасть в мое колесо. И тогда, все может вращаться в тысячу раз быстрее. Этим, кстати, объясняется и тот феномен, который вы называете дежа вю. И этим же, конечно, объясняются все твои, так называемые, предвиденья и предчувствия.
- Похоже, ты совсем уже окосело от водки, - не унимался Арсений Павлович, - забыло, что сидишь в дворницкой спившегося дворника и обсуждаешь давно прошедшие события его сгнившей жизни.
- И то верно, - усмехнулось Время, - водка у тебя и впрямь хороша. Забористая. Надо мне почаще у тебя останавливаться.
- Милости прошу. Всегда к вашим услугам. Только теперь, извольте, ко мне под забор. Забыло, что меня завтра выкинут отсюда? - проворчал Арсений Павлович. - Ты сделай мне одолжение. Прокрути еще пару минут. А то, само косеешь, а я сижу и пью впустую. Только продукт перевожу.
- Изволь. И вправду плохо, когда двое в разных стадиях. Догоняй.
Время щелкнуло крышкой своих золотых часов и кровь Арсения Павловича начала заполняться живительной влагой.
Настроение Арсения Павловича явно улучшилось и он продолжил повествование.
Перипатетики
- Мы с тобой перипатетики. Так называл Аристотель своих учеников. Их обучение проходило во время прогулок.
Мы гуляли с Полиной по вечерней Москве, взявшись за руки.
- Не знаю. Мне кажется, что Аристотель был глуп. Я прочел у него только «О душе», и мне было достаточно, чтобы понять, что он глуп, наивен, претенциозен и..., повторюсь, глуп. Раздражает именно безапелляционность. К примеру, он там заявляет, что растения ничего не чувствуют. Уже доказано, что они даже музыку слушать умеют. Кроме этого, я много читал о нем самом. Человек, который, будучи сыном врача, всерьез утверждал, что у женщин меньше зубов, чем у мужчин, или, что тело падает со скоростью, пропорциональной своей массе. Человек, который не удосужился заглянуть женщине в рот и просто подсчитать и, который не догадался взять в руки два предмета разной массы и, отпустив их, увидеть результат, прежде, чем что-либо утверждать (да еще и поучать других), достоин звания, если не дурака, то ученого поверхностного. А еще смеет произнести: «Платон мне друг – но истина дороже».
- Ты несправедлив и сам неоправданно ортодоксален. В отличие от Платона, например, который создал элитную академию, Аристотель основал гимназии для обыкновенных людей. В сущности, своей образованностью, ты обязан не Платону, а Аристотелю.
- Своей, как ты ошиблась, образованностью, я обязан тому, что я много читал. Что мой отец образован и имеет вкус. Тому...
- Тому, мой друг, что мы с тобой гуляем и гуляем. Что я говорю и говорю. Мы – перипатетики, дети Аристотеля, прогуливающиеся и познающие. Образование – через прогулку по воздуху.
- Я гулял бы с тобой, даже если был бы собакой.
- До собаки тебе еще надо дорасти, - рассмеялась Полинка.
Вот так мы и гуляли. В шутку перебранивались. Подтрунивали друг над дружкой. Это уже была любовь. Для меня. Любила ли она меня?.. Юрка считал, что да. Леха говорил, что я недостоин. Семен пожимал плечами. Федот – только фыркал.
Сегодня мы были в Третьяковке.
- Каков «Христос в пустыне»! Прямо забыть не могу, Сенечка, - ее глаза горели и страдали.
Стоял тяжелый серый март. Свинцовое небо более походило на осеннее, нежели на весеннее. Днем лишь угадывалось, через густую пелену сырого вязкого тумана, что солнце стало подниматься чуть выше, а день тянулся чуть дольше. Снег сделался черным, рыхлым и тяжким. Подтаивая днем, под утро, он превращался прямо-таки в асфальт. Убирать такой снег – одно мучение. Вообще, теперь больше приходилось работать не движком, а скребком и ломом.
За этот месяц мы с Полиной совершенно сдружились. Нашли много общего во взглядах на литературу, поэзию. Уже дважды она затащила меня в Большой. Один раз на «Царскую невесту», другой – на «Бориса Годунова». Римский-Корсаков мне, как-то, не очень, да и сидели где-то сбоку, а вот от Мусоргского я обалдел. Партия юродивого просто перевернула мне душу. Полина совершенно отказывалась, чтобы я платил за ее билеты или буфет. Так что, мне эти, так сказать, развлечения, стоили недорого.
Сейчас мы, только что, свернули с Толмачевского и шли по Большой Ордынке, взявшись за руки.
- А мне у него больше нравится «Портрет неизвестной». Этот черный силуэт, этот мглистый городской пейзаж на заднем плане, этот контражур. Этот надменный взгляд. Все это так смело и..., так гениально.
- А ты знаешь, говорят, ему позировала гулящая.
Когда Полина была не уверена, она никогда не смотрела в глаза. Она смотрела на мои губы, как бы с нетерпением ожидая, что из них вылетит опровержение или подтверждение ее слов.
- Да хоть сам черт. Пусть. Потому, что это шедевр. И, потом, я не верю, что гулящие, в душе своей, хуже добропорядочных. В известном смысле, они даже честнее. Хотя, и не по своей воле.
- Ты говоришь цинично.
- А ты мыслишь лицемерно. Ты вспомни Соню Мармеладову.
- А ты вспомни Настасью Филипповну. Она погубила, вместе с собой, еще двух, по-своему, прекрасных людей.
- А ты вспомни...
Мы часто ссорились. И мне так это нравилось. То ли она всерьез прислушивалась моего мнения, то ли играла, давая мне возможность хоть сколько-нибудь поумничать, хотя, точно знала ответ на спорный вопрос. Да только, даже если это была игра, я чувствовал себя на крыше мира. Мне все время хотелось обнять и поцеловать ее прилюдно. Именно там, где больше всего народа. В фойе театра, на эскалаторе метро, в вестибюле института во время перемены. Мне так хотелось кричать: «Люди, неужели вы не видите, как она прекрасна! Неужели вы не понимаете, как я счастлив! Неужели вы не завидуете мне!». Это неизъяснимое, неуемное желание выставить свои чувства напоказ. В чем его природа? Я думаю, что это, если и нарушение психики, то совсем невредное. Это - желание поделиться радостью, которой для тебя слишком много, которая просто бьет через край. Возможно, подобные чувства испытывает святой праведник, которому явилось откровение и который так хочет, чтоб оно стало достоянием всех. Спешит поделиться со всеми и каждым и..., никто его не понимает. Он вызывает, у кого смущение, у кого раздражение, у иных и лютую зависть, а то и ненависть. Не надо целоваться на людях. «И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою».
- Ну, малыш, - я взял ее бледные тонкие ладони в свои, - нам понравились разные работы. Но, зато, нам понравился один автор. Давай искать и находить во всем, что бы ни было, только хорошее.
Я начал целовать ее холодные пальцы, один за другим, затем крепко сжал кисти ее рук и приложил к своей груди, успев расстегнуть верхнюю пуговицу своего пальто. Она не сопротивлялась. Попав в тепло моего тела, ее руки как бы оттаяли, ожили. Она лихорадочно расстегнула одну пуговицу на моей рубашке, затем, другую и легла прохладными ладонями на мою открытую грудь. Я заглянул в ее глаза и обомлел. Они, иссиня-серые, вечно сосредоточенные, всегда готовые смеяться или плакать, стали... бездонными. Это не было желание, страсть. Это была... бездна. Бездна, заглянув в которую, я испугался. Бездна казалась реальной. Москва исчезла. Я начал падать.
- Что с тобой, Сенечка? – услышал я, - Ты любишь? Ты по-настоящему меня любишь? – голос ее дрожал.
- Я..., я..., не знаю..., это слишком простое слово. Пошлое. Гадкое. Тому, что я испытываю, испытал только что, вот, когда ты прикоснулась ко мне, нет слова. Нет. Не придумали. Полина, ты нездешняя, я это только что видел. Я видел...
Она отняла правую руку от моей груди и приложила, как всегда это делала, когда хотела сказать что-то важное, свой палец к моим губам. Потом снова положила уже горячую как уголь руку на мое сердце и, мне почудилось, раскаленное копье пронзило его.
- Сенечка. То, что ты только что увидел в моих глазах – есть любовь. Не принижай этого слова, прошу тебя. Я впервые в жизни познала любовь.
Она расстегнула свою шубу, затем, мое пальто. Прижалась ко мне всем трепетным хрупким своим телом, оплетя меня своими тонкими руками и впилась долгим поцелуем в мою обнаженную грудь. Мы стояли на Овчинниковской набережной. Ни души. Только вдали, у двухэтажного особняка начала века какой-то дворник, наверное, с жутким грохотом скалывал наросты льда с водосточной трубы. Но я только видел его, я не слышал этого звука. Как долог, как упоителен был этот поцелуй. Голова закружилась по-настоящему. Я пошатнулся.
Почувствовав это, она оторвалась от моей груди. На губах ее была кровь. Моя кровь. Но я не чувствовал боли.
- Что ты, родной, Ну что ты, Сенечка, милый, - шептала она испуганно растирая место поцелуя, - я схожу с ума. Только ты не умирай. Я без тебя тоже не буду жить. Черт (это вот «черт», я слышал от нее впервые), как мешает одежда. Как я ее ненавижу. Как бы я растворилась в тебе. Сенечка, бедный мой. И откуда ты взялся. Так мне спокойно жилось. И я все верила, в то, что мы будем друзьями. И вот, ты стоишь и плачешь перед «Паном». Я смотрю на тебя со стороны. Точнее, на вас обоих и вижу – он живой и ты живой и ваши глаза одинаковы и такая в них вселенская грусть. Вы будто разговариваете. Молча. Взглядами. И вдруг, я вижу слезы у вас обоих. А ты, смешной, испугался своих слез и стал украдкой вытирать их. Сощурил глаза, будто близорукий. А ты ведь не близорукий. И вдруг мне почудилось, что Пан посмотрел на меня и сказал: «Люби его, он в этом нуждается». Врубель – волшебник. Да не в нем дело. Я тебя полюбила, как только ты подсел тогда ко мне и сказал, что любовь должна быть трагедией. Точнее, я не понимала тогда, что полюбила тебя. Но я почувствовала, что ты - моя судьба. И дело не в Куприне. Это Куприн просто подоспел ко времени, а я ждала тебя, только тебя...
Она говорила и говорила, до боли растирая поставленный ею же синяк. Она выглядела совершенно обезумевшей. Но не мне было об этом судить. Никто не может сказать, что такое счастье. Если чувство поддается описанию, то оно никакое не счастье. И я не смогу здесь его выразить. Я могу лишь утверждать, что я был счастлив. Ручьем, потоком лившиеся слова ее, не имели ни смысла, ни логики. Казалось, она вскрыла себе вены, и слова-кровь толчками, в такт ударам ее сердца, просто выплескивались из нее, сначала фонтаном, обильно, а, затем, постепенно затухая, пока жизнь совершенно не оставила ее. Устав говорить, она упала обессилевшей головой на мою грудь и затихла.
Я боялся шелохнуться, боялся, что я сейчас проснусь. Я, впервые в жизни, слышал признание в любви. И какое признание! И от кого! От богини, за которой бегал весь институт от мала до велика. Когда я ощутил в себе ноты тщеславия, я понял, что прихожу в себя, что надо что-то говорить. Но голова была совершенно опустошена. Во рту также было сухо, будто с похмелья.
- Полина, - с трудом выговорил я, - что это было?
- Любовь, Сенечка. Милый Сенечка. Та, единственная, огромная любовь, которой мы не дали пройти мимо нас. Которая бывает только раз в жизни. И больше не будет никогда.
Я почувствовал, что вся моя грудь, в которую она уткнулась, как ребенок, совершенно мокрая от ее слез.
- Что же ты плачешь, малыш?
- Не знаю, родной, они сами льются. Будто кто-то проткнул резиновый шарик, наполненный слезами. Только я не сжимаюсь, как он. А, как будто, вместо слез меня вновь заполняют каким-то волшебным эфиром и, как только слезы закончатся, я возьму и улечу. Ты держи меня, милый. Я пропаду без тебя в пустынном небе.
Я крепко обнял ее. Я всерьез испугался, что вдруг вот она, и вправду, сейчас возьмет и исчезнет. Я обхватил ее голову ладонями за виски, развернул ее лицо к себе и поцеловал в губы долгим-долгим поцелуем. Она с силой прильнула ко мне всем телом и мне опять почудилось, что раскаленное копье пронзает мне сердце…
Арсений Павлович остановился. Медленно начал набивать трубку, глядя в одну точку и улыбаясь. Затем, так же неспешно раскурил ее, а улыбка продолжала блуждать по его, казалось, помолодевшему лицу.
Время задумчиво молчало. Кошка куда-то исчезла так же таинственно-мгновенно, как и появилась.
Часть 2
Ангел и смерть
В борьбе со всем, ничем ненасытим,
Преследуя изменчивые тени,
Последний миг, пустейшее мгновенье
Хотел он удержать, пленившись им.
Кто так сопротивлялся мне, бывало,
Простерт в песке, с ним время совладало,
Часы стоят. Стоят. Молчат, как ночь.
Упала стрелка. Делу не помочь.
И.В. Гете
Весна
- Напрасно ты думаешь, что я необратимо. Мне вообще плевать, куда двигаться. Вперед, назад, вправо, влево, вверх, вниз. Да и вопрос «куда» глуп по сути своей. Как всегда, ты все навыворот поймешь. Во фразе «куда двигаться», ключевое слово – «двигаться», а вовсе не «куда». Лишь движение, как последовательность действий может дать вам иллюзию моего существования. А вперед, назад, в прошлое, в будущее… Поменяйте все вектора ваших физических процессов на обратные. Вы же уже доказали, что химическая реакция имеет память. Будущее станет прошлым, а прошлое будущим. Но так как вы, один черт, начнете опять двигаться спиной, то и станете обозревать реально все ваше будущее, не ведая прошлого.
Время отвлеклось от своего словоизлияния и, наконец, удостоило взглядом Арсения Павловича. Тот откровенно скучал.
- Ну ладно, - сжалилось оно, - видно этого вам, людишкам, никогда не понять.
Но Арсений Павлович вдруг оживился.
- Слушай, если все так просто, давай назад, а? - старый дворник умоляюще смотрел на Время, – ведь там, в моем рассказе черт знает что впереди. Поехали, а?
У Арсения Павловича в глазах стояли слезы.
- Э, нет, брат, - безжалостно отозвалось Время, - ты что, думаешь, если я к тебе заглянуло, то ты у меня на привилегированном положении? А другие как же? Ведь всему миру придется катиться назад к черту. А ему, человечеству, это нужно? И, потом. Ты ведь тогда увидишь все свое будущее (которое на время, пока мы будем двигаться назад станет прошлым). Тебе это надо? Ведь дойдя до момента, который ты захочешь изменить, ты пожелаешь повернуть, чтобы двигаться под руку с Полиной обратно в будущее. Сегодняшнее твое гребанное будущее.
Время чертыхнулось.
- И, потом. Что ты там хочешь изменить? Ликвидируешь Тамару, Риту, Аленку? Дурак ты. Себя то ты не изменишь. Неужели не поймешь никак, что Тамара – суть твое собственное творение. Твоей души, какая она ни есть. Если я и властно, в известном смысле, над пространством и собой, то над человеческой душой, прости… не моя епархия. И, вообще, запомни одну истину – необратимость – условие порядка. Так что, давай с тобой накатим еще по стаканчику, да и рассказывай дальше.
Арсений Павлович тяжко вздохнул, найдя аргументы Времени убедительными и разлил водку по стаканам.
- Только ты дай мне пару минут, чтоб улеглась, а то опять в одну калитку будет. И так все настроение испортило.
- Над настроением, как состоянием души, я тоже не властно. А, впрочем. Если я позволю водке начать действовать, значит, кой - какая власть у меня, все ж таки, есть? Хотя, скорее, это будет власть водки. А еще обо мне говорят, будто бы я лечу.
- Это вряд ли. Лечить и исцелять - вещи разные.
Они выпили, Арсений Павлович даже позволил себе закусить шпротиной, затем, повеселев, раскурил трубку. Время опять остановилось и он продолжил рассказ.
***
Что же такого волшебного заключено в таинстве под названием весна? Что за силы неизъяснимые, неподвластные человеческому разумению, вдруг, ни с того, ни с сего, просыпаются в окоченевшем трупе земли? Не сказка ли это? Так часто говорим мы о чудесах, имея в виду левитацию, стигматы, или то, что кирпич упал с крыши на секунду раньше, чем мы ступили на то место… Мы находим это чудом.
Но, когда пробуждается, казалось, навеки заснувший мир… Когда на чуть пригретую несмелым еще солнцем облупленную стену нашего дома, невесть откуда, будто из небытия, выползает сонная мохнатая муха и, будто опрятная девица, начинает смешной свой утренний туалет, потирая то задние, то передние лапки и умывая ими лупоглазую свою мордочку. Когда черная почка на черной ветке, казавшаяся до сих пор не более чем уродливым наростом на окаменевшем теле, вдруг тихо щелкнет под натиском невидимых сил, и из пустой трещины, подобно кролику из шляпы фокусника, выпрыгнет веселый бледно-зеленый кудрявый малыш. Когда, чуть только освободившийся от снега лесной пригорок, вдруг начинает словно дышать, как грудь мифической исполинской женщины, проснувшейся от вековой спячки, рождая из себя и вскармливая собой сонмы молодых трав и цветов, мириады всевозможных насекомых. Откуда взялась эта ящерка, выползшая погреться на весеннем юном солнышке? Где был тот заяц, что выскочил на лужайку полакомиться побегами молодой травы? Эти птицы, эти звери, эти листья и травы… Что это происходит?..
Почему здесь нам на ум не приходит слово чудо?
Неизъяснима сила природы. Но более, неизъясним ее смысл. Уж больно очевидна бестолковость весеннего рождения ради осенней смерти. Очевидна! И, тем не менее…
И что же тогда нам так радостно? Почему у самого, что ни на есть толстокожего и толстобрюхого швейцара ресторана София, вдруг подступает комок к горлу при звуке грязного, но весеннего ручья, весело бегущего вдоль тротуара мимо сверкающих яркими бликами ресторанных дверей и, по-детски, со смехом ныряющего в придорожную решетку ливневки? Почему оглушительный гомон воробьев, в другое время выводивший бы из себя злую старуху, вечно торчащую в окне первого этажа первого дома по третьей Тверской-Ямской, теперь вызывает умильную мятую улыбку ее беззубого рта? Почему каждая, абсолютно каждая женщина, теперь так прекрасна, так привлекательна, так зовуща…
Апрель.
Смотреть за участком стало совсем просто. В области, сугробы были еще по колено. Но Москва, старательно вывозившая снег всю зиму, теперь пожинала плоды своих морозных трудов. Ни грязи, ни дождей. Движки, скребки и ломы были убраны дворниками в дальние углы до следующего ноября. Руководство ЖЭУ организовало завоз свежих березовых метел. Теперь все наши сараи были забиты ими доверху. Впереди уже маячило лето – дворницкий рай.
Проблема с Тамарой (возможно, благодаря весне, а, может, и вопреки ей) отступила сама собой. Скорее, смотрительница нашла для себя бычка поживее. Или бычков… Полагаю, я, в свое время, просто стал для нее «свежим мясом», нецелованным девственником, вдовьим развлечением для тусклой ее зимы. Навсегда, как она, видимо, полагала, поселив во мне разврат - она успокоилась. Просто, порок не любит (или боится) быть одиноким. Разделив его со мной, смотрительница успокоилась. Так или иначе, со времени «свальной ночи» она больше не досаждала мне. Однако, я так и не решался пригласить Полину к себе. Да и она более ни разу не упоминала о своем желании. Хотя, я точно знал - она его помнила, и отказываться не собиралась.
- А Лехе скоро проставляться, заметил Семен, отпивая большой глоток пива.
Кружку он держал левой рукой. Зачем? Он считал, что так он касается губами кружки там, где не касаются все (подавляющее большинство, все ж таки, правши), что когда-либо брали ее в руки - с обратной стороны кружки. Кой черт вообще ходить по народным забегаловкам, если ты такой брезгливый? Или уж носи с собой индивидуальную кружку.
Никогда до конца не мог понять чистоплотных людей. Если взглянуть, сколько касаний поручней и перил, бумажных и железных денег, «передайте билетик» и прочих «заразных контактов» они осуществляют за день своими «чистыми» руками. Сколько рукопожатий, библиотечных книг, ручек подъездных дверей… Зато, дома у них (то есть там, где, как раз и так все стерильно) все чуть не в чехлах. Вымыть руки после туалета или придя с улицы – хороший тон. Но обтереть руку влажной салфеткой после того, как поздоровался… - тон дурной. Да. Неизъяснима человеческая психика…, как и весна.
Мы стояли «на Покровах» на улице. Еще одним признаком нового времени года, кроме красивых женщин по всей Москве и черных лебедей на Чистых прудах, было то, что во внутреннем дворике пивной, под открытым небом по всему периметру его были организованы длинные дощатые столы ширины такой, чтоб только пара кружек могла встать. Они были приколочены прямо к забору на высоте метр с небольшим от земли. Теперь не было нужды ютиться в затхлом прокуренном помещении, где смешение запахов пива, пота и мочи создавали такой букет!..
- Дааа. Двадцатник – не шутка, - подхватил Федот, - только тебе-то чего Семен? Ты, один черт, не пьянеешь. Только водку на тебя переводить.
- Не, ребята, - оборвал Леха начавшуюся, было, нежелательную для него дискуссию, - в этот раз - никакой водки.
Недовольный ропот всколыхнул всю нашу общину.
- Ты не дури, брат. Как это без водки? – вступил в разговор Юрка. – Двадцать лет раз в жизни бывает, а ты насухую хочешь? Уж если и попадают люди в ад, так не за убиенную старушку-процентщицу, а вот за такие вот гнусности.
- Ты вообще думаешь, чего лепишь-то, родной! – затряс Федя своими барашками. – Перезанимался?
- Да, Леш, - решил поддержать компанию и я, - согласись, это как-то не по-людски будет выглядеть. И что мы станем делать? Будем пялиться друг на друга? Умные беседы? «Будьте любезны, если вас не затруднит, передайте мне вот тот салат?».
- Во, раскудахтались, - скрестил Леха руки на груди, - у детишек конфетку отняли. Я же еще ничего не сказал. Я же не сказал – без спиртного. Я приглашаю всех, всех, включая их дам, в пивной ресторан «Саяны». Могу я хоть раз увидеть эти гнусные рожи подвязанными снизу галстуками? Ты вот, Федя, когда в последний раз одевал костюм? На выпускной?
- Не. Когда историю КПСС сдавал. Один черт, трояк вкатил, гад. Какая разница, из-за чего поссорились Зиновьев с Лениным? Главное, что поссорились. А…
- То-то, - оборвал законное возмущение друга Алексей. – Мы уже не шпана новогиреевская. Мы взрослые люди. Так давайте начинать и вести себя, как взрослые люди.
Вся компания как-то сразу подтянулась и, почудилось, каждый стал даже немного выше ростом.
Так уж устроен человек. Назови его тем, что он действительно есть – и ты кровный его враг на всю жизнь. Но соври про него что-нибудь лестное, но неправду и… о, чудо, оказывается, в нем, действительно, это есть. Просто, он не догадывался, не ведал, что и мужествен он, и талантлив, и отзывчив, и принципиален и черт еще что там в нем хорошего не понапихано. Может, в этом и есть секрет Иисуса? Говори каждому, что он добрый человек, и он будет добрым человеком? Вряд ли. Думаю, все несколько не так. Говоря что-либо лестное, надо точно попасть в сокровенное желание того, к кому обращены твои слова. Добрыми все хотят быть (или уж казаться таковыми, как минимум). Здесь беспроигрышно. А назови, желая польстить, честным хитрого, или сдержанным отчаянного. Они же гордятся своей ипостасью и ничего другого не хотят.
Впрочем, все мы хотели быть взрослыми. Точнее, считали себя взрослыми, но, судя по общей реакции, довольно сильно, в душе, сомневались в этом.
- Я закажу стол заранее, - победоносно продолжал Леха, с удовольствием наблюдая эффект, произведенный своими словами, - очередь стоять не придется. Закажу во втором зале.
Пивной ресторан «Саяны», что на Щелковской, состоял из двух залов. Первый – настоящий срач. Чистенький и приличный в шесть вечера - в девять, он уже являл собою совершеннейший улей. В погоне за прибылью от разбавленного пива, чаевыми и просто обсчетами клиентов, официанты, в сговоре со швейцаром, набивали в зал вдвое, а то и втрое больше народу, чем тот мог вместить. Где-то они держали дополнительные стулья, появлявшиеся по мере поступления страждущих, и вокруг столиков на четверых, к вечеру, образовывались колонии по восемь-десять мужиков. В основном в одежде, потому, что гардероб, в отличие от зала, не мог справиться с аппетитами официантов. На употребление принесенной водки те почти не обращали внимания потому, что, в основном, сюда приходили попить пива и поесть креветок. Напиться можно и в пивной за углом. В силу того, что пивной кайф, в отличие от водочного, неагрессивен, драк почти не было. Милицейский наряд заглядывал сюда раз в час, брал свою долю у швейцара (за несоответствие количества задов количеству посадочных мест) и спокойно удалялся.
Второй же зал был полной противоположностью первого. Здесь было все чинно, как в пристойном ресторане. Закуски и спиртное были такими же, как в любом другом приличном заведении элитного общепита. Отличие было лишь в том, что здесь разносили еще и пиво, не разбавленное и в ассортименте, и креветки здесь подавали уже очищенными (что не есть хорошо) и под майонезом. Днем здесь звучала тихая музыка из динамиков, а к вечеру на сцене появлялся средней руки ансамбль, певший все тогдашние хиты, на всех языках. В те поры Москву посетили почти одновременно ABBA и Boney M, а, на следующий день, все их песни уже были в репертуаре этих лабухов.
Мы не любили ходить во второй зал. Во-первых, дорого, во-вторых… кому нужны очищенные креветки. Вся прелесть поедания креветок – в процессе их потрошения, в высасывании сока из их голов, в сморщенных от отвара пальцах, в горах шелухи… Но здесь все сразу согласились. Мы же взрослые люди! Да и за Лехин счет...
Эх, дороги...
Правда, сегодня, как это еще бывает, пожалуй, перед свадьбой, когда жених устраивает мальчишник, прощаясь с холостой своей жизнью, будущие взрослые люди, не сговариваясь, начали рыскать по своим карманам в поисках бумажных денежных знаков, дабы с почестями отправить в прошлое свое отрочество. Насобирали на четыре бутылки водки, и не слушая увещеваний Семена, впрочем, не очень настойчивых, послали Федю в магазин через дорогу. Семен с Лехой пошли «освежить» кружки. Мы с Юркой остались одни. Теплый апрельский день. Светит яркое весеннее солнце. Воздух прозрачен и чист. Ни облачка. Вечные воробьи, усеявшие пока еще голый, вековой тополь за оградой пивной, заглушают своим звоном шум, пролегавшей совсем рядом улицы Чернышевского. Впрочем, машин в те времена было, не то, что теперь. Прожужжал сорок первый, вечно переполненный троллейбус, пару раз взвизгнула своим поросячьим клаксоном «копейка», сетуя на неповоротливый, глухо рычащий рефрижератор. Шарканье ног вечно суетящихся москвичей и их гостей, дальний, где-то на Чистых прудах, лай справляющих весеннюю свадьбу собак. Во дворике пивной человек пять-семь - еще день, рано для наплыва посетителей. Под ногами деловито, как хозяева, прогуливаются разжиревшие, как на пивных дрожжах, прокопченные московской копотью сизари. И, хотя, я их и называл всегда городскими тараканами, сегодня они мне казались весьма обаятельными созданиями.
- Ну, как у тебя с Аленкой? – спросил я, когда ребята ушли за пивом.
Я достал себе сигарету и подал пачку Юрке. Закурили.
- Может, в моих устах это прозвучит и по-детски, но я счастлив, - выпустил Юрка в голубое небо струю дыма. – Ты знаешь, Арсений, мне так жалко времени, что я потратил до нее на остальных своих баб. Мне даже жалко тех двух месяцев и двадцати восьми дней, что она провела с тобой. Никак не могу насытиться тем, что имею. Не могу нарадоваться, что мы, наконец, вместе. Так и хочется прихватить из прошлого, а не получается. Нельзя отмотать назад.
- Поражаюсь я тебе. Как ты мог так спокойно отдать ее мне. Ведь для меня это был всего лишь первый опыт. Мне не обязательно надо было именно с ней потерять свою девственность. Но ты же ведь сам практически и подтолкнул. Поверь. Если бы я только знал, Юра, что ты ее любишь, я ни за что на свете не лег бы с ней. Прости, Юр.
- Ой, перестань, Арсений. Я совсем не ревную. Дело все во мне. Я сам себя не вполне понимаю. Я думаю, что это была трусость. Думаю, я чувствовал, что это у меня серьезно. А я не верил в серьезные отношения. Правильнее сказать, боялся их. Думал, будет она у друга. Все не в чужих руках. А у меня уж как-нибудь пройдет потихоньку. Не прошло. А когда она стала твоей… Вот тут-то… Хуже самой страшной зубной боли. Всякий раз, когда я знал, что она у тебя… да и когда не знал… Я на стену лез. Слава Богу, что все позади. Не приведи тебе Господь, Арсений, испытать когда-нибудь чувство ревности. Ты знаешь… Любое человеческое чувство, даже такое, как ненависть или страх… оно, ну хоть сколько-нибудь, но продуктивно. Ревность же выжигает все внутри человека, не оставляя ничего человеческого. Пепелище. Нет на свете хуже чувства, чем ревность. Да… Человек не только умирает в одиночку. Он и с ума сходит в одиночку. А Аленка, она…
- Да, кстати, Юрец, надеюсь, ты придешь с Аленой?
Леха с грохотом поставил на стол шесть полных кружек, которые принес по три в каждой руке (Семен смог донести только четыре), слизал с пальцев пену, выплеснувшуюся на руки, и продолжал:
- И ты, Арсений? Пойдет Полинка в ресторан, как думаешь? Она ведь у тебя строгих правил.
- Я думаю, Алексей, что тебе она уж точно не откажет. Она говорит, что ты среди нас самый серьезный. Только, я думаю, ты должен будешь лично ее пригласить.
- Во-о-от, - Леха многозначительно поднял указательный палец вверх и потряс им - я всегда вам говорил, что я из вас самый умный. Не верите мне - спросите у Полины.
- Она сказала не умный, а серьезный. К тому же, ты не говорил, что ты самый умный, ты постоянно говоришь, когда напьешься, что все мы дураки, а это не одно и то же. Возвеличивание себя за счет уничижения других, на мой взгляд, само по себе унизительно… Для автора уничижения, - завернул Семен расставляя кружки так, чтобы разместить между ними газету с сушками.
- Глядите, Спиноза выискался. Если бы ты был действительно умным, то знал бы, что печатные формы для ротационных машин делают из свинца, - огрызнулся Леха, доставая из «дипломата» серый лист писчей бумаги, - и свинец этот, неизбежно, попадает с краской, тоже, кстати, вредной, на газеты. И выкладывая закуску на вчерашние «Известия», ты травишь своих друзей.
С этими словами он протиснул листок между сушками и газетой.
- А если бы ты был умным, то знал бы, что водка нейтрализует тяжелые металлы и мы…
- В следующий раз ты пойдешь, раз такой умный, - подошел с кислой миной Федя.
Вечно недовольный Федот был очень недоволен. Он зло плюхнул свой «дипломат» на землю так, что бутылки в нем опасно зазвенели.
- Что случилось, Феденька? Водку несвежую дали? – подначил Юрка.
- Ага. Ноги все отдавили. Стою спокойно. Человек семь впереди. Ну и сзади еще человек десять подошло. Тут она и кричит – последний ящик. Все, как ломанулись. Никакой уже очереди вдруг не стало. Кто успел сунуть деньги, тот и получил. Черт. Есть еще в мире страна, где за водку бьются насмерть?
- Но тебе ведь водка досталась, правда, - улыбнулся Юрка.
- А то, - самодовольно усмехнулся Федот.
- Ну вот. А если бы пошел Семен, то будь хоть три последних ящика, ничего бы не принес. Так что пусть уж он лучше стоит и умничает, зато мы выпьем. Давай доставай. А то как-то зябко на улице стало.
4
Пьяный студент довольно-таки сильно отличается от пьяного вообще.
Во-первых, он всегда сознает, что говорит и что делает. Амнезия неведома молодому пока еще организму. Так же ему неведома и усталость. Часами он может говорить, прерываясь лишь на очередной стакан. Часами, если не сутками, он может играть в преферанс, выкуривая при этом немереное число дешевых сигарет. Часами он может заниматься любовью, лишь делая «зарубки» по количеству эякуляций, дабы, затем, приплюсовав еще парочку, хвастать в курилке института. Студент не может «отрубиться». Если количество принятого спиртного превышает возможности не натренированного еще здоровья, его просто «выворачивает», после чего он опять готов к возлияниям.
И мысли, и поступки пьяного студента неподвластны разъяснению никакой логики. Конечно, любому пьяному море по колено, и каждый пьяный думает, что говорит умно. Но то что говорит и делает пьяный студент!.. Перелезть с пятнадцатого на четырнадцатый этаж по внешней стене здания студенческого общежития или в Московском зоопарке запрыгнуть на спор в вольер к крокодилам – не самые глупые безумства, что мы проделывали тогда. Что касается «умных» речей, то однажды, у себя в дворницкой, полагая, что говорю запредельно умно, я, тайком, включил магнитофон на запись. Вещал целый час, а утром решил прослушать. Боже! Бестолковее ахинеи мне не приходилось слышать ни до, ни после. И, самое обидное – «затер» великолепный альбом Леннона «Imagine».
Четыре бутылки уже были приговорены, Федот был послан за портвейном (мы, почему-то, всегда заканчивали дешевым портвейном «Агдам» или «777»), остальные развлекались тем, что на спор выпивали пиво из кружки без помощи рук. Не сложно ухватить кружку зубами и выпить ее. Но весь фокус в том, что пиво нужно ни капли не пролить. Сегодня никому это не удавалось и нас мало заботил тот факт, что вся наша верхняя одежда была обильно полита пивом. Нам просто было весело. Правда, однажды, такое веселье мне обошлось семью швами на губе. Но тогда я пил шампанское из тонкого фужера и… откусил кусок хрусталя.
Настал вечер. Пивная заполнилась многочисленными своими завсегдатаями и гудела своим привычным гудом. Ровный неопределимый гомон из которого, будто выстрел, то там то тут вылетало крепкое русское словцо. Московский работный люд отдыхал, как умел. Кто, на троих намешав «ерша», потягивал это довольно гадкое пойло, как можно медленнее, чтобы забрало покрепче. Кто, поскорее раздавив на двоих портвейну, неспешно потягивал жидкое, во все времена разбавленное Жигулевское. Кто, не найдя взаймы до зарплаты, растягивал единственную на сегодня кружку пива, при этом внимательно озираясь – не нальет ли кто от доброты широкой русской души. В девяти из десяти случаев такие надежды оправдывались. В дальнем углу кто-то тихи и фальшиво затянул: «Эх, доро-оги-и, пыль да-а ту-уман, холода, трево-оги, да степной бу-урья-а-ан…»
- Вот любопытные стихи, - заметил я, - ни одного глагола, а красиво. Сразу образ встает.
- Это Лев Ошанин. Хороший мужик, - авторитетно заявил Леха и вдруг подхватил октавой выше. – «Зна-ать не мо-ожешь, до-оли сво-ое-е-ей: может крылья сло-ожишь посреди сте-епе-е-ей».
И тут, нарастая, то из одного, то из другого угла пивного дворика, кто басом, кто баритоном и даже кто-то контртенором, переходящим в фальцет: «Вьется пыль под сапогами - степями, полями, - а кругом бушует пламя да пули сви-истя-а-ат… Э-эх, доро-оги…».
- У вас тут, что, Кот Бегемот побывал? – удивился вернувшийся из магазина Федя.
- Да нет. Это Алексея Аркадьевича пробило на творчество. Гляди – не уймется. Прям Штоколов.
На Леху, действительно, любопытно было взглянуть. Вдохновенно-пьяную физиономию его было не узнать. Растягивая рот в пол-лица, страдальчески жмуря сочащиеся слезой глаза и отмеряя себе такт в две четверти руками он вдохновенно выводил: «…Кра-ай со-осно-овый, солнце вста-ае-от. У крыльца родно-ого-о мать сыно-очка-а жде-о-от…».
И вся пивная, уже не островками, а вся, как грянет: «И бескрайними путя-ами, степя-ами, поля-ами – все глядят вослед за на-ами родные-е гла-аза-а-а. Э-эх, до-оро-оги-и…».
Что угодно скажи, любую гадость о пьяном русском мужике, и будешь прав. И пропивает он последнее, что ни есть в доме. Подушку вытащит из-под головы спящего своего ребенка, чтобы снести на блошиный рынок. Бросит бесчувственно-пьяного приятеля на растерзание милицейского наряда. Разденет в подворотне тощего интеллигентишку за похмельный стакан… Но, порой, проймет его душу вот такая вот песня. Покатятся из него покаянные слезы в три ручья. И проснется в нем спящая доселе мертвым сном совесть его. И сольются все пьяные души в одну, да уже и не пьяную. И на что тогда ни способна она, огромная русская душа… «…нам доро-оги э-эти-и позабыть не-елзя-а-а…».
- А ну молчать всем! Быдла пьяные!
В творческом порыве, я бы даже сказал, угаре, никто и не заметил как, посредине этого странного акапелльного хора, вдруг, как из-под земли вырос патрульный наряд. Огромный жирный, с заплывшими от халявного пьянства поросячьими глазками, старший сержант, а с ним два плюгавеньких, с наглыми хоречьими мордочками, рядовых постовой службы. Сержант, широко расставив ноги и уперев свои кулачищи в рыхлые свои бока, сверлил Леху бегающими зрачками. Почему именно Леху?.. Я почувствовал, что сейчас будет что-то нехорошее. В Лехе была уже почти пол-литра водки и кружек семь пива. К тому же, душа Лехина сейчас была явно под воздействием поэтических тонких сфер.
- А в чем дело, сержант? – невозмутимо, а, скорее, нагло отвечал Леха на буравящий его взор сержанта.
- Молчать! Быдло пьяное! – проорал сержант так, что, показалось, зазвенели кружки на столах.
- Я вам не быдло, - опасно-спокойно ответствовал Леха, - а вы сами быдло, раз прерываете такую хорошую русскую песню. Песня написана в сорок пятом на победу русского оружия и в память о погибших. Затыкать рот такой песне - значит не уважать павших в Великой Отечественной войне.
Что тогда нашло на Леху, что за муха его укусила, не знаю? Но это было совсем зря. Лицо сержанта вдруг сделалось землисто-пурпурным, как засохшая блевотина после красного портвейна.
- Ах ты…, - он задыхался, смешно хлопая немым ртом, как рыба на песке, не находя слов. Затем, видимо, вспомнив единственное, что знал, уже не заорал, а завизжал натурально свиньей, - быдло пьяное! – и кинулся на Леху с кулаками.
Но тут произошло то, что принято называть «волшебной силой искусства». Вся пивная, как один, взревела праведным рыком и кинулась на малочисленный отряд милиционеров.
В «обезьяннике» нас оставалось уже только человек двадцать. Вызывали по одному, и сняв показания и данные, отпускали. У меня болели оба плеча. Подоспевший, непонятно кем вызванный, усиленный наряд милиции «упаковал» всю пивную в два «воронка» и отвез в сорок шестое отделение милиции. Не помню, чтобы я сильно сопротивлялся, но руки мне заломили так, что хруст их по сей час стоял у меня в ушах.
- Черт. Кого это все ж таки дернуло затянуть эту песню, - сетовал болезненного вида, лет пятидесяти, работяга, - теперь на работу «телегу» отпишут, премии лишат.
- Радуйся, - усмехнулся Юрка, - ты же не парадное облевал, не на лавке в Александровском саду заснул. Ты пострадал во имя искусства.
- Да срать мне на твое искусство, - озлился работяга, уж лучше парадное облевать. Мало – денег лишат, да на профсобрании мордой об стол! Ребята ведь засмеют.
- Ничего не засмеют, - не унимался Юрка. – Ты, уж если не нравится тебе за искусство, арестован потому, что вступился за безвинно униженного и оскорбленного брата твоего во Христе. Такого же москвича, как ты сам. Твои ребята зауважают тебя после этого. Деньги? Один черт, жена бы отняла. Ну выпьешь на раз-другой меньше. Зато честь.
- Следующий, - прервал дебаты плоский, как лист фанеры, ефрейтор, открывая с лязгом решетку «обезьянника».
Господи. Ну почему не введут ограничения по росту и весу при наборе рекрутов в «органы». Ну что это такое! Понаберут дистрофиков с-под Горловки, и еще хотят, чтобы народ милицию уважал. Защитники, ядрен-корень! Когда на него глядишь, самому впору его защищать. Если, не приведи Создатель, придется ему вытащить табельное оружие, да, спаси-сохрани, он начнет стрелять из него, то отдачей его так размажет по стене - не отскребешь. Все, на что они способны – погрузить в «воронок» втроем одного несчастного работягу, недошедшего с аванса до дому и отвезти его в вытрезвитель, обобрав все остатки того аванса по дороге.
Работяга со вздохом поднялся и вышел.
- Знаешь, что меня беспокоит, - сказал я Юрке, когда решетка захлопнулась, - где это наш певец.
- Я, когда нас сажали в «воронок», видел, как его повели к милицейскому «козлу», - вспомнил Семен.
И тут, будто отвечая на мой вопрос, мимо нашей клетки провели пошатывающегося Леху. Руки его были в наручниках за спиной. Под левым глазом – бланш в пол-лица.
- Да-а, - пропел Федя, - вечно он лезет. Что я теперь его матери…
Федину фразу прервал какой-то шум, произошедший оттуда, куда провели Леху. Мы прильнули к решетке.
- А-а-а-а! Отец родной? – услышали мы Лехин голос.
Леха стоял перед портретом Брежнева, висевшим в коридоре отделения милиции. Тут он смачно втянул содержимое своего носа в рот, затем, с хрипом собрал всю мокроту из горла и…, о Боже, звучно харкнул в святой лик. Розовый от крови, густой плевок, угодивший ровно в левый глаз, «отца родного», как назвал его Леха, медленно начал стекать к святому подбородку, угрожая вот-вот сползти на наградной иконостас.
- Это конец, - выдохнул Федя финальную фразу Спасителя.
На остальных, включая милиционеров, напал столбняк.
О пользе книг
- Не мое это дело, конечно, - пожало плечами Время, - но как-то странно, даже для вашей страны, сажать людей за пение. Да и песня, вроде, ничего. Не похабщина какая.
- Ну, пение – это, скорее, стечение обстоятельств, - набивал трубку Арсений Павлович. - Попался вот такой тупой боров. Хотя… У нас было время, когда сажали просто за внешний вид, за национальность, даже если ты не то, что не пел - вообще ни слова не сказал. Но вот плевать в изображение руководителя страны… Я думаю, за такое и в Америке бы посадили.
- Да? - искренне удивилось Время. – А мне, так кажется, что здесь-то и вообще нет состава преступления. Я понимаю, если бы он плюнул в лицо, ну, скажем, того же борова. Тут оскорбление личности, унижение человеческого достоинства, да и угроза заражения чем-нибудь. А портрет… Раскрашенная бумажка. И, вообще, если ты решился на то, чтобы твое изображение развешивали по стенам, мне кажется, ты должен быть готов к тому, что обязательно найдется кто-то, кто пририсует тебе усы. А если портрет в полный рост, то и того хуже. Даже если разрешил написать свое имя на стене, то не удивляйся, если наутро, к этому имени пришпилят нехорошее слово.
- Я-то с тобой полностью согласен, но как-то уж так повелось на Руси, что понятие родины всегда подменяли какой-нибудь рожей. Будь это Петр Первый, Александр Второй или, как тогда, Брежнев. Может, человеку трудно преклоняться перед такой неуловимой для мысли субстанцией, как родина. Ведь и Иисуса стали малевать неспроста. Трудно верить в абстрактного Бога. А тут – на тебе. Смотри, любуйся. Но не плюй.
- Дураки вы люди. Ей-богу, дураки. Вам дают чистое, реальное, живое. А вы… Рисуете на это карикатуры. Да еще потом и поклоняетесь этому суррогату. Тьфу!
Время, уже во второй раз за сегодня, грязно выругалось.
- Ты еще больше удивишься, когда узнаешь, чем дело кончилось, - устроился поудобнее Арсений Павлович. – Странно, за что у нас арестовывают, но куда как изумительнее, почему отпускают.
- Ну-ну, любопытно.
- Всех нас переписали, запротоколировали наши показания. И, хотя, сами протоколы выглядели вполне безвинно: «Пели песню, началась драка, кто начал – не видел, сам никого не трогал», для нас это не имело никакого значения. В деканате будут рассматривать только факт привода в милицию, что забрали из пивной и, что участвовал в пьяной драке с представителями правоохранительных органов. То есть, можно было не раздумывая собирать манатки. В институте нам больше не учиться. Попели, мать вашу.
Но скопом помирать как-то проще. Мы стояли на крыльце института в ожидании Лехи. Федот, который жил в одном подъезде с ним, сообщил, что тот так и не ночевал дома. Федя рассказал о случившемся Лехиной матери, и та полетела в отделение. Больше информации не было. На лекции мы, конечно, не пошли. Никто не сомневался, что теперь в этом не было никакого смысла.
- Как думаешь, что они с ним сделают? - спросил я Юрку, прикуривая сигарету от сигареты.
- Ну, у нас же не тридцать седьмой год. Я думаю, за Брежнева, прямо, ему ничего не сделают. Для этого ведь нужно открывать совершенно отдельное дело. Статистику раскрываемости отделению оно не повысит. Одна головная боль. Политика. Они ее сами боятся, как огня. Это ж им не пьяниц по подворотням обирать. Начнут у них шмонать кегебисты и прочая партийная нечисть. Увидят всю ихнюю грязь. Им это надо? Нет. С портретом, думаю, все будет чисто. Но, что понавешает на него эта жирная свинья? – вопрос. Хорошо бы матушка его догадалась врача своего привезти. Видел, как они его разукрасили?
- Не думаю, чтобы это помогло. Скажут – сопротивление при аресте. Или, вообще, что такого уже и взяли. Тут на них где сел – там и слез. Тут они собаку съели.
- А мы на что? Мы же можем дать показания, что не было на нем побоев до задержания. Что…
- Брось, Юра, - вступил в разговор Семен, - мы для следствия кто? Мы так же, как Леха, задержаные за драку с ментами. Кто нас будет слушать?
- Эх, черт. И то верно.
Тут, распахнулась стеклянная дверь вестибюля института, из нее вылетела совершенно растрепанная Полина и бросилась мне на шею.
- Боже. Ты цел? Любимый!
Полинка казалась совсем растерянной и совершенно не стеснялась перед ребятами своих бурных проявлений.
- Да что ты, родная? – начал я ее успокаивать, - кто тебе там чего наплел?
- Мне Хук сказал, что тебя избили и забрали в милицию.
- Хук? Он-то откуда знает?
- Не знаю. Ему еще кто-то сказал.
- Москва. Здесь чихнул – на другом конце – «Будь здоров», - усмехнулся Юрка.
- А еще он сказал, что тебя, скорее всего выгонят из института. Что же ты натворил, Сенечка?!
Пришлось по порядку рассказывать всю историю. Заодно и передать приглашение от Лехи на день рождения. Полина сначала успокоилась, но потом вдруг осознала, какая беда нависла над Лехой и опять разволновалась.
- И что же теперь будет, ребята, - обратилась Полина уже ко всем.
- Мы можем надеяться только на его мать,- ответил за всех Федот. – Она у него – тигрица, когда дело касается единственного сына. В школе учителя боялись ей что плохое сказать про Леху. Глаза бы выцарапала.
- Это хорошо, - задумчиво произнесла Полина, - но как же вы?
- А что - мы? Удастся проскочить весенний призыв – хорошо. Будет лето для поступления. Не поступим – «сиреневый туман над нами проплывает…» - запел Семен.
- Не напелся еще, кенар, - оборвал песню Юрка.
- Ой не надо, - прижала руки к груди Полина. – Сенечка, я тебя ждать буду.
- Ну вот. Ты уж меня не хорони пока.
- Да. Рано хоронить, - раздалось за нашими спинами.
Все резко повернулись. Внизу лестницы стоял Леха. Когда Полина прибежала, то отвлекала на себя все внимание. Никто и не заметил, как он подошел. Мы кинулись вниз с крыльца и обступили вчерашнего узника совести.
- Ну давай, рассказывай, рассказывай давай, - загомонили мы все разом.
Собственно, по сияющему Лехину лицу и так все было ясно. Гроза миновала. Однако, было любопытно, как.
- Прежде всего, - начал Леха, - Полина, позволь пригласить тебя на мой юбилей, который состоится двадцать второго апреля в ресторане «Саяны» в шесть часов вечера.
- Конечно приду, Лешечка, - радостно вскричала Полина, - мне Сенечка уже сказал, но…, - тут она лукаво взглянула на Леху, - обещай мне не петь песен и не драться с милиционерами.
- Клянусь, - картинно поднял правую руку Леха.
- Ну хватит уже с официальной частью. Давай, рассказывай, - выразил общее мнение Юрка.
- Ну, во-первых, спасибо, Федь, что рассказал матушке, - начал Леха свой рассказ.
- Должен будешь, - отшутился Федот.
- Э нет, брат, это вы теперь должны все моей матушке. «Телег» на вас не будет.
- Ой, Лешка, - вскрикнула Полинка, кинулась к Лехе и обняла его так крепко, что мне стало как-то не по себе. Ему, было заметно, такой порыв очень понравился. Но Полина не видела ничьих реакций. Она поцеловала Леху в щеку, прямо в его здоровенный сизый синяк, отчего Леха сморщился от боли, но стерпел. Потом, она подошла ко мне, обняла за талию и совершенно успокоившись затихла, положила свою голову мне на грудь и стала спокойно слушать.
- Ну вот, - наконец оправился от Полинкиных объятий Леха, - сижу в камере. Лавка. Ни подушки, ни одеяла. Железная дверь с квадратным окошком в железной решетке. В углу параша. Ну все, как в фильмах про тюрьму. Самая страшная ночь в моей жизни. Господи! Чего я себе в эту ночь ни напредставлял только! Хмель к полуночи совсем вышел. Это сейчас, когда все позади, я могу сказать, что ничего плохого не совершал. Но тогда, я винил себя во всем. Зачем пел? Зачем хамил? И, о Боже, кой черт меня под локоть толкнул плевать в генсека?
- Да уж. Это было смачно. Никогда не видел ничего сексуальнее, - рассмеялся Юрка, - ты был так убедителен. Станиславский, на том свете, воскликнул: «Верю!».
- Ну да… Теперь-то смешно… Ну ладно. Короче, под утро, хотя окон в камере нет, но я чувствовал, что пора наступить утру, слышу какие-то крики за дверью. Почти сразу я узнал голос матери. Она там бушевала и я еще подумал: «Ну вот. Теперь будет еще хуже».
- Наконец. Она, видимо, добилась своего, потому что меня вывели в дежурку. Там была куча ментов, мой жирный боров, и какой-то майор. Видимо, начальник отделения. Матушка меня, как увидела, как заверещит… Это надо было слышать. И вы знаете, она, как знала, приехала со своим знакомым врачом.
- Вот, молодец, - обрадовался Юрка своему предвидению.
- Молодец-то, молодец, - продолжал Леха, - да только и эти, прости Господи, не лыком шиты. Начали говорить, что так и было. А врач этот не дурак. Говорит им, что с точностью до минут может определить время сворачивания крови в гематоме и если синяк поставили уже здесь, в милиции, то он легко это докажет.
До этого говорили только майор и доктор, но тут вступил этот боров и заявил, что я на него напал первый, и что у него есть два свидетеля. Те тщедушные постовые. И еще пяток ментов покажут, что я плевал в портрет Брежнева.
Ну, в общем, переговоры явно заходили в тупик. И вдруг, майор предложил матери пройти в его кабинет. Уж не знаю, о чем они говорили, да только матушка вышла минут через десять из его кабинета и куда-то позвонила. А через полчаса в дежурку влетел материн знакомый с двумя тяжелыми чемоданами и удалился в кабинет майора. Вышел он оттуда с теми же чемоданами, но они явно ничего не весили. После, матушка тоже зашла к нему и почти сразу вышла. В руках у нее были все наши вчерашние протоколы.
- Что же было в этих чемоданах? - будто очнулась ото сна Полина.
- Книги, Полинка. Два чемодана редких книг. Книги, друзья, не только основа свободы ума, но, в нашей с вами ситуации - и источник свободы физической, и возможность продолжения образования.
- Надо же, какая Анна Ивановна молодец. Как это она про нас-то не забыла? – восхитился Семен.
- Вот я и говорю. Все вы ей должны. Ну, благодарность вашу я ей передам, но меня вы сможете отблагодарить тем, что придете на мой день рождения и, главное, тем, что будете вести себя там достойно. Как взрослые люди.
Все облегченно и, даже, несколько истерично рассмеялись.
Гроза прошла.
Взрослые люди
- М-да, - промычало Время, – это черт знает что такое. Надеюсь, мне не долго придется колесить, чтобы от вашего государства и пыли не осталось. Но мне, все ж таки, непонятно. Милиционеры, сколько я успело заметить само, да и из твоего рассказа видно – народ вряд ли читающий. Что это за валюта такая? Книги.
- Видишь ли, - улыбнулся Арсений Павлович, - в те времена с книгами было очень туго. То есть, их не было вовсе. Масса партийной литературы, производственные романы, романы о селе, о революции, такая же мура из угнетенных мировым капитализмом государств третьего мира и прочая дребедень. Странно и то, что в стране с чуть не самым большим процентом мирового запаса древесины, бумаги не хватало. Вот и придумали продавать дельные книги из русской и зарубежной классики только при условии сдачи определенного количества килограмм макулатуры за определенное количество талонов на книги. Получил талон – и иди, покупай, что хочешь. Книги тогда стали не столько предметом чтения, сколько предметом престижа, даже роскоши, ну и, конечно, предметом коррупции. Должность приемщика макулатуры ценилась теперь не меньше, если не больше, чем должность метрдотеля в «Интуристе». Читал ли майор книги? Я думаю, что он не читал даже уголовно-процессуального кодекса. Но в том, что шкафы его дома смотрелись, по корешкам книг, не хуже чем библиотека какого-нибудь академика филологии, не сомневаюсь. Так уж повезло нам, что приятель Анны Ивановны (или сама она, уж не помню) был таким приемщиком.
- Все равно, хоть дело и кончилось к всеобщей радости…, - пожало плечами Время, - все равно, как-то некрасиво.
- У нас на Руси говорят – клин клином вышибают. Свинство нельзя победить праведностью. И не мечут бисер перед свиньями. По-свински разогнав мирную пивную спевку они, по свински, получив взятку, по-свински же и прекратили дело. Хорошо, что хороший человек остался на свободе. Плохо, что плохой человек остался на своей должности. Но так уж устроен наш мир. И ты и я – мы можем только наблюдать его. Не так ли.
- Ну, знаешь, ты меня с собой не ровняй. Я повидало таких свинств на своем вечном веку, что тебе и в кошмаре не приснится. Я видело, как величайшая из мировых культур, греческая, строилась на костях миллионов рабов, считавшихся у этой высокой культуры ниже животных. Я видело, с каким параноидальным вдохновением Калигула сотнями, тысячами истреблял своих соотечественников. Я видело, как Нерон сжег Вечный город. Я видело, как в отместку за жестокие крестовые походы, бубонная чума уничтожила две третьи населения Европы. Я видело… Да что уж там… И меня это никогда не касалось, да и не волновало вовсе. А вот почему ты считал тогда и, как я вижу, считаешь до сих пор, что это ваше свинство не касается тебя, мне не понятно.
- А мне не понятно, - возразил Арсений Павлович, - как это ты можешь осуждать нас за свои собственные законы.
- За какие такие законы, - подняло брови Время.
- Да обычные законы. Причинно-следственные законы. Одно событие цепляется за другое с необходимой неизбежностью. Предыдущее звено цепи намертво скреплено с последующим. И нет у этого звена вариантов уцепиться за какое-нибудь другое звено. А клеем, припоем в создании этой цепи служишь ты, Время.
- А вот и заблуждаешься, - оживилось Время, - Я не повелеваю причинностью. Мое владение – это миг, момент. Но что такое момент? Не секунда, не полсекунды, не наносекунда, а неделимый момент? Момент – это то, чего уже нет и то, что еще не наступило. Если я теку и изменяюсь, то я - сумма моментов вместе взятых (что вы кстати и отразили в своем циферблате, где я присутствую все сразу). Но, тогда, я должно сочетать в себе невозможное. Сочетать бытие и небытие. Ваш мир – это последовательность во времени, но он, так же, и одновременность в пространстве. Опять взаимоисключающие понятия. Сочетать подобное человек может только посредством своего разума. То есть, если мир не мыслить, то его и нет вовсе, как нет и меня. Это ведь ваш Декарт сказал - «cogito ergo sum» - мыслю, значит, существую. Так что, друг мой, Арсений Павлович, никакой причинности нет, а есть иллюзия жизни, которую вы сами и создаете. Создаете хаотично, беспорядочно, бездумно, глупо. А чтобы оправдать свою глупость, выдумываете всякие законы причинности, тяготения, сохранения и прочую муру. Всего лишь один закон лежит перед вами – закон разума. Мысли правильно – и проживешь правильно. Но, Господи, разве вы умеете пользоваться этим законом!
Время махнуло рукой и отвернулось.
- Может ты и право, - вздохнул Арсений Павлович, - может, мысли я иначе, все и вышло бы иначе. Да только, оглядываясь назад, я вижу лишь одно – неизбежность. Может есть смысл в твоих словах - все из-за того, что мы живем спиной к будущему. Может, идя спиной вперед, и думая, что мы глядим вперед, мы, в действительности смотрим только в прошлое.
- Дошло, наконец, - проворчало Время.
- Ну, так или иначе, события продолжали развиваться своим чередом.
7
Что подарить человеку на двадцать лет? Что это, вообще, за существо – двадцатилетний мужчина? Если учесть, что Моцарт в шесть выступал с концертами, Александр Великий в шестнадцать командовал армией, а Лермонтов уже в пятнадцать пишет:
«Средь бурь пустых томится юность наша,
И быстро злобы яд её мрачит,
И нам горька остылой жизни чаша;
И уж ничто души не веселит»,
то двадцатилетний мужчина – уже старик. А если принять во внимание, что Менделеев открыл свою таблицу в тридцать пять, Чайковский пишет гениального своего «Щелкунчика» в пятьдесят два, а система Шопенгауэра получает признание лишь когда автору за шестьдесят, то, пожалуй, у такого человека впереди вся жизнь.
В том, видимо, и беда двадцатилетнего юноши, что повисает он в воздухе, не имея уже опоры в прошлом и не ведая, за что зацепиться в будущем. Говорят, обезьяна никогда не отпускает одну ветку, не ухватившись за другую. У людей не так. Человек (русский человек, во всяком случае) склонен бросаться очертя голову в будущее не подвергнув перспективы даже приблизительному анализу. Русский человек долго запрягает, но быстро едет? Пословица, которой мы пытаемся себе польстить. Мы быстро едем – да. Но долго ли мы запрягаем – нет. Конечно, нет. Мы несемся без доли сомнения навстречу призрачному будущему, полагаясь лишь на чувства, на предположение, что, кажется, там будет лучше. И при этом надеемся, что наш Бог нас не оставит. Иностранец, глядя на это, только в затылке чешет: «Куда это мы?». Русская нация перманентно инфантильна. Она умудряется находиться в течение веков в одном и том же возрасте взбалмошной экспериментальной юности. Таким образом, двадцатилетие, для русского человека – это первый и последний юбилей его жизни. Дальше, он, конечно, будет накапливать жизненный опыт, собирать синяки и шишки, ходить по вчерашним граблям, но, в душе, так и останется двадцатилетним юношей.
Так что, подарок на двадцать лет имеет принципиальнейшее значение, ибо, двадцатилетие – Альфа и Омега нашей жизни.
- Нет у меня фантазии, Сенечка.
Мы бродили с Полиной по ГУМу в поисках подарка для Лехи.
- Ничего, кроме книги на ум не приходит, но ты говоришь, что книгой его не удивить?
- Не только не удивить - даже расстроить можно. Подарить Лехе книгу - все равно, что дворнику метлу.
- Да? - лукаво улыбнулась Полина, - а если бы тебе подарили метлу, которая никогда не стирается? Вечную метлу.
- Таких метел не бывает – раз. И, во-вторых, я не вижу, как это переложимо на книги и Леху. Разве что, подарить тридцать два тома «Британики»? Даже будь у нас такие деньги, на русском ее нет, а по-английски Леха ни бельмеса. Да, к тому же, тридцать томов БСЭ у него есть.
- А есть у него увлечения кроме книг?
- Нет у него никаких увлечений. У него даже девчонки нет.
- Это очень странно. Он такой видный и такой образованный парень.
- Он очень закомплексован, Полинка. Он прячет за своей начитанностью, умничаньем, за своим апломбом свою запредельную стеснительность. Как-то, под большой стакан, он рассказал мне, как ненавидит свою внешность, свою фигуру, постоянно боится, что в разговоре с девушкой говорит не то и не так.
- Это ничего. Пройдет, - произнесла Полина тоном пожившей светской львицы, повидавшей на своем веку. – Как только появится настоящая любовь, а она появляется хоть раз у каждого, то все комплексы его, как рукой снимет.
Я рассмеялся.
- Ты говоришь, как леди Гамильтон. У тебя длинный опыт? И насыщенная любовными похождениями жизнь?
- Не смейся, дурачок, смутилась Полинка, - мне тебя хватило. Знаешь, как я тебя боялась! Но, в какой-то момент мне стало страшно не сказать тебе, что люблю. Я тогда подумала почему-то – вот не скажу сейчас и потеряю навсегда. И мне стало гораздо страшнее не сказать, нежели сказать.
Мы, как раз, проходили по мостику, соединяющему первую и вторую линии второго этажа. Полинка резко остановилась, прильнула ко мне и поцеловала долгим-долгим сладким поцелуем. У меня закружилась голова, как было почти всегда, когда мы целовались.
- Так-так. Развратничаем, значит, - донеслось откуда-то снизу.
Юрка, под руку с Аленкой, стоял посредине вестибюля первого этажа ГУМа и широко улыбался.
- Привет, ребята. Давайте, поднимайтесь, - крикнул я.
- Чего там наверху делать? Там одни тряпки. Вы что, решили ему трусы купить в подарок? Давайте вниз. Идите вконец зала. Там лестница, там и встретимся.
Когда мы спустились, Юрка, на правах старшего, представил:
- Знакомься, Алена, это Полина, студентка ФОПа и, по совместительству, муза нашего дворника. Полина, это Алена, которая оказывает мне, недостойному, честь быть моей музой.
Девушки поздоровались. Полина дружелюбно пожала протянутую руку. Но я заметил, как во взгляде, казалось бы, мило улыбающейся Аленки, сверкнула молния.
Ах, женщины! Разве не прерогатива самца - метить территорию? Разве не мы делаем «зарубки» при очередной победе над вами? Что же за бес вселяется в вас, когда вы видите, что ваша прошлая и теперь ненужная добыча уже принадлежит не вам. Может быть ваше лоно, как книга, хранит память о каждом посещении и вам, время от времени, хочется перечитывать эту книгу? Или, раз обладая, вы считаете это уже своей собственностью пожизненно? Ты же сама сделала свой выбор, Алена. Ты от меня отказалась – не я. Зачем же теперь твой взгляд, дай ему силу, испепелил бы Полину на месте? Ах, женщины!
- Ну, что? – прервал я, грозящую стать неудобной, паузу, - есть мысли?
- Так как мы, следуя стадным инстинктам, встретились в одном магазине, - заметил Юрка, - то, полагаю, мы и о подарке думаем стадно. Ничего, кроме книг на ум не приходит, и, вместе с тем, мы понимаем, что книг дарить не надо.
- Да, похоже, увеличение количества голов с двух до четырех, не приводит к качественным изменениям. Гегель отдыхает, - вздохнул я.
- Вы знаете, - оживилась Полинка, - если у человека, кроме книг, нет никакого увлечения, то его, это увлечение, нужно спровоцировать. Подарить, к примеру, фотоаппарат. Каждый человек в душе художник. Фотографирование очень увлекает.
- А я слышал, - скептически отозвался Юрка, - что если хочешь разорить приятеля, подари ему фотоаппарат. Все эти увеличители, проявочные бочонки, ванночки, проявители, закрепители. К тому же, нужна специальная темная комната. Нет, я думаю, фотоаппарату Леха не обрадуется.
Однако, мы зашли в отдел, где торговали фотооборудованием.
- Давайте подсчитаем, во сколько обойдется вся эта красота, - не унималась Полинка, - согласна, нехорошо провоцировать юбиляра на дальнейшие траты. Но если подарить полный комплект, то совсем другое дело. А темная комната. Завесил кухонное окно одеялом – вот тебе и фотолаборатория. Или в ванной можно. Положил какую-нибудь широкую доску на ванну – вот тебе и стол. И вода рядышком.
- У него есть кладовка в квартире, - услышали мы за спиной.
Все разом оглянулись. Федя и Семен.
- Если верить пословице, то все мы дураки, раз мыслим так банально-одинаково, - развел я руками. – Ну ладно, пусть наша глупость и неизобретательность из всей Москвы свела нас в одно место в одно время, но считать-то мы умеем. Нас шестеро, а, значит, у нас шестьдесят рублей. И навскидку видно, что даже если купить самую дешевую «Смену 8М», что, само по себе, уже нехорошо, то, один черт, с увеличителем и прочим скарбом, нам недостает еще рублей сто.
- А если матушку его подключить? – нерешительно предложил Семен, - уж на сына то она сто рублей потратит?
- А кто к ней пойдет с таким предложением? Ты? - возразил Федот. – Ты забыл сколько ей пришлось выложить за два чемодана книг? И, заметь. Она, как любая мать, винит кого угодно в том, что тогда произошло, но только не своего Алешеньку. И эти, «кто угодно» – мы с вами. Я лично к ней не пойду.
- Это верно. Анна Ивановна отпадает. К тому же, она ведь - не Леха за ресторан платит. И мы еще тут со своей сотней. Давай, Федя, думай. Ты его с пеленок знаешь.
- А ты, Семен, знаешь его с детского сада, а ты, Юрка с первого класса, так что, нечего на меня все валить, огрызнулся Федя.
- Ребята, мы не здесь, - вдруг осенило меня.
- Интересно, а где мы, - не понял Федя.
- Не в том магазине, - пояснил я.
- А в каком мы должны быть магазине.
Все с интересом и надеждой ждали моих пояснений.
- Помните, что сказал Леха, приглашая нас в ресторан? Он сказал – мы уже не шпана новогиреевская, мы взрослые люди, так давайте вести себя, как взрослые люди.
- Ага. При этом он организовал тотальную спевку, облаял мента и плюнул в морду «отцу родному», - иронично возразил Юрка.
- Вспомни, Юр. Это были проводы детства. Последняя, так сказать, шалость. Очищение.
- Ну ладно, не тяни, что ты придумал?
- Так вот. Что такое взрослый человек? Это серьезность и ответственность. Ответственность перед близкими, перед друзьями, перед собственным будущим. Короче говоря, ответственность.
- Да скажешь ты, наконец, варвар, куда мы едем.
- На «Птичку».
- Что?
- Да, на «Птичку». Мы купим ему собаку. Щенка.
- Ой, как здорово, - разом захлопали в ладоши девчонки.
- Ты с ума съехал, Арсений, - так же хором возопили ребята. – Это еще похлеще фотоаппарата. С ним же гулять надо. Шерсть, опять-таки. Да и мать что скажет?
- Вот именно, - не унимался я, - и гулять, и шерсть – все это ответственность. Это признаки взрослой жизни, к которой он так стремится. Это его главное желание на юбилей. Ему обязательно понравится. Собака, в отличие от человека – настоящий друг. А по поводу матери… Она – женщина. Мы купим такого милого щенка, что она не устоит. Забота о живом малыше в женской природе.
- Арсений прав, - вдруг, вступил Федя. - Леха в детстве очень просил собаку, но отец не разрешал ему. А во дворе он с уличными собаками делился своими завтраками. Отца теперь нет. Может Леха уже и забыл о своем детском желании, так мы ему напомним. Душа - не тело, с возрастом не меняется.
- Да, Федя, ты уж точно повзрослел, - удивился Юрка, - гляди какой философ вырос.
- Арсений прав, - вставил Семен, - лучше и придумать нельзя. Только как его дарить-то в ресторане?
- Там же, на «Птичке», продают корзинки специальные. Если покупать не клубную собаку, то и на корзинку хватит. До торжества еще два дня. Поживет у меня в дворницкой. А в ресторан накроем корзинку марлей. Начнет там хулиганить… - ну, на руках его подержим. Они, пока маленькие, им лишь бы тепло было.
- Ой, да я с ним весь вечер буду сидеть, - загорелась Полинка, - поедемте скорее.
«Птичка»
«Птичий рынок» - одно из любимейших мест москвичей. Не думаю, что «Детский мир» на Дзержинке принимает в день больше народу, чем «Птичий рынок» на Таганке. Полагаю, рынок - больше, потому что, кроме того, что на него со слезами и скандалом тянут своих родителей за рукав все детишки Москвы и сбегают с уроков все подростки, сюда едет и огромное количество мужиков. Охотники, рыбаки, голубятники. Охотникам и рыбакам здесь предоставлен такой ассортимент всевозможных причиндалов и аксессуаров для их любимого занятия, какого не сыщешь ни в одном специализированном магазине. Все здесь исполняется кустарно, вручную, настоящими знатоками своего дела. Поплавки, пузатые - из твердого пенопласта, тонкие и длинные - из гусиного пера, экзотически раскрашенные - из марокканской пробки. Грузила, всех размеров и форм, блёсна, колокольцы для донок, крючки, лески. Если ты знаком с продавцом, то в ящике, на котором он сидит, есть у него и сети любой ячейки и длины. Договоришься заранее – будет тебе и динамит, и запал.
Это не похоже на магазин. Это больше напоминает клуб. Купив всего лишь пару мормышек, да коробок бордового жирного мотыля, такого аппетитного, что сам бы съел, покупатель может часами болтать с продавцом, рассказывая свои извечные байки о несуществующих в честной природе пятнадцатикилограммовых карпах и трехметровых сомах. Продавец, уважая и ценя постоянного клиента, внимательно, с пониманием кивая головой, выслушает весь этот бред, да и сам соврет дежурный анекдотец про то, как поймал раз щуку, а у нее в желудке человеческий палец с обручальным кольцом. «Да. Вполне возможно. А вот у меня раз…», - продолжит тему покупатель… и еще на полчаса вранья. Конечно, рыбак рыбаку никогда не верит. Но и никогда не скажет: «Врешь», - ибо, такое нечестное попустительство дает ему моральное право врать самому.
Меньший, по количеству членов, но очень похож на рыбацкий - клуб охотничий. Всевозможные манки, резиновые утки-муляжи, сапоги-бахилы, для охоты на болотах, накомарники, патронташи, ружейные чехлы. Под прилавком ножи такие, что «десятку» только за хранение получишь. Здесь развлечение подороже, однако, рассказы и жесты мало чем отличаются от рыбацких по своей сути. Те же, невиданной величины, звери и птицы. Может быть, приправляют больше «перцу», преувеличивая охотничьи опасности. Но непреложный закон, «ври и дай соврать другому», - действует и здесь.
Конечно, совершенно особый сорт людей – голубятники. На Москве было модно держать голубятни в до- и послевоенные годы. Тогда голубятню можно было встретить чуть не в каждом дворе. Но, каково же было мое удивление, когда я увидел, что треть площадей «птичьего рынка» занимают голубиные ряды. И торговля, и мен здесь идут самым оживленнейшим образом. Я и знал-то всего, сизарей, да почтовых. А там!.. Якобины и павлины, курообразные и кудрявые, трубачи и турманы, и черт еще его знает, какие названья и стати… Московский зоопарк обзавидовался бы, на это изобилие глядючи. И вот, что любопытно – голубятен теперь нет, а голуби есть. Странно. Правда, очень много так называемых «мясных». Наверное, их разводят на чердаках да балконах, как курей, и потом едят.
Что же касается всей остальной фауны – то с «Птички» можно не уходить часами. Признаюсь, с целью покупки-то, я здесь был впервые. А до того, еще школьником, часто ездил просто поглазеть. Никогда, ни в каком зоомагазине ты не встретишь такого изобилия и разнообразия птиц, рыб, грызунов и рептилий. Одних попугаев! Тут тебе и самые популярные (из-за низкой цены) всех расцветок, волнистые попугайчики, и желтомордые кореллы, и серые краснохвостые жако, и яркие, что глазам больно, ары, и дорогущие, что и отцовской зарплаты не хватит, какаду, и такие смешные неразлучники. Рыб столько, что не перечислить и, главное, названия – язык сломаешь. Анциструс, Коридорас пунктатус, Торакатум, Меланотения трифасциата… И выглядят они подстать именам.
Дальше – ряд рептилий. Вот краснощекая черепаха; вот застывший, будто заживо засушенный хамелеон; вот песчаный удав; вот гондурасская молочная змея; а вот и их корм - мыши, крысы, морские свинки, хомячки, кролики… Здесь же для всей этой живности аквариумы и террариумы, клетки с автопоилками, с колесами для физических упражнений. Камни, коряги, песок, корма всех сортов.
Чуть уступают голубиным по количеству посетителей - кошачьи ряды. А по крикам «мама, купи», ряды эти, конечно, на первом месте. Привередливые абиссинки, вислоухие шотландки, голобокие сфинксы, мордатые британцы, куцехвостые японские бобтейлы… И все с котятами, жалобно пищащими на весь рынок. Хороший бизнес. Если ребенок пришел с папой, то тот, может, еще и устоит. Но на мам эти комочки беззащитности и обаяния действуют иной раз посильнее, чем на детей.
Собачьи ряды примыкали непосредственно к охотничьему.
- Ну, что ж, дерзай, Арсений, раз привел, - подтолкнул меня в бок Юрка. – Инициатива наказуема.
Я совершенно растерялся. Я вдруг понял, что в собаках-то я ни черта не смыслю. Только и помнилось, как в придорожном трактире Ноздрев расхваливал Чичикову своего мордаша. Ощупывал уши и нос, да рассматривал брюхо на предмет блох. Из пород я знал только овчарку, бульдога да спаниеля. Еще, пожалуй, лайку. Здесь же, в клетушках-вольерах метр на метр, сиротливо ютилось пород тридцать- сорок. На клетках висели от руки писанные таблички: «Норвежский элкхаунд», «Русский той-терьер», «Пиренейский мастифф», «Йоркширский терьер»…
- Слушайте, ребята, - растерялся я, - я ведь в собаках ни уха, ни рыла.
- Ну ты не волнуйся, у собак рыла нет. А уши…, - издевался Юрка. - Что о них нужно знать? У овчарки они должны торчать, у ротвейлера – висеть, у ризеншнауцера они должны быть купированы. Вот и вся наука.
- Во, Юр. Ты столько всего знаешь о собаках. Может сам? Леха, между прочим, и твой друг.
- Не. Леха мне приятель, а ты, как раз – друг, - подмигнул он с улыбкой. - Ты выбираешь, я тебе помогаю. Идет?
- Ребята, идите сюда скорее.
Это кричала Полина. Она стояла у самого дальнего вольера и махала нам рукой. Мы подошли. Полина стояла перед клеткой, на которой было написано «Шарпей. Мальчик – окрас олений. Отец – Амодей Сисленд Адмирал. Мать - Николь Рено Паллада. Клуб - Шанхай. 8 недель. Привит». То, что мы увидели за решеткой трудно поддается описанию. Это не был милый комочек шерсти с глазами ушами и хвостом, какие мы наблюдали проходя мимо предыдущих вольер. Это скорее походило на то, будто кто-то скомкал кусок розовой плюшевой ткани и бросил в угол клетки. Так бы я и подумал, если бы, присмотревшись повнимательнее, не заметил огромную черную кляксу плоского щенячьего носа и над ней маленькие, черненькие и грустные-грустные глазки, еле видные из-за обильных складок плюша вокруг них..
- Господи! Что это, Полина, - искренне недоумевал я.
- Это шарпейчик. Китайская порода. Древняя. При Мао Дзе Дуне почти вымерла. Он тогда объявил всех домашних животных символом бесполезности привилегированных классов. Тогда перебили почти всех. Собственно, шарпеи уцелели благодаря обособленности Гонконга и Тайваня.
Я оглянулся на ребят. Компания выглядела не менее растерянной, чем я. Тут к вольеру, заметив наш интерес, подошла хозяйка, женщина лет пятидесяти в овчинной безрукавке, зачем-то в резиновых сапогах и огромным, в пол-лица, оспенным пятном. Она перегнулась через переднюю решетку вольера и, ухватив щенка за шкирку, начала его поднимать. Именно, не подняла, а начала поднимать, потому, что сначала вверх поползли все складки этого странного создания природы, и лишь затем, из-под них показались маленькие толстые лапки, хвост и, наконец, обозначилась огромная, в полтуловища, голова. Хозяйка выпрямилась и опустила эту «авоську» в протянутые Полинкины руки. Произошел обратный процесс. Плюш начал складываться, скрывая, сначала, лапы, затем, хвост и, наконец, мягко окутал голову, нос и глаза. Создание опять обрело ту же форму, что и минуту назад в вольере. По тому, как хозяйка обращалась со щенком, я понял, что никакая она не хозяйка.
- Ой, какая прелесть! – первой вышла из оцепенения Аленка и подбежала к Полине. Она погладила щенка и вдруг резко отдернула руку. – Ой, какой он жесткий.
- Не жесткий, а песочный, - возразила Полина. – Правда? На ощупь, как песок? Шар-пей так и переводится с китайского – «песочная собака». Представляешь, в Китае, в древние времена их даже в пищу употребляли.
- Ах ты бедненький, - погладила Аленка пса. Потихоньку подошли и мы. Каждому захотелось убедиться, что это все-таки живая собака.
- Вижу, вы все знаете о породе, - обратилась псевдохозяйка к Полине, – рассказывать нет нужды. Хороший пес от хороших родителей. А дедушка его, вообще, из Кеннел-клуба, из Англии. Документы, родословная - все в полном порядке. Так и быть, уступлю за сто двадцать рублей.
- Стоп-стоп-стоп, - включился в разговор Юрка. Он быстро понял, что имеет дело с обычной рыночной торговкой. Откуда это у вас родословная? Ее же выдает клуб. Кто это на рынке выдает родословные? И, потом, что это за клуб такой «Шанхай» что-то не слышал я о таком клубе. В Москве вообще нет клуба шарпеев – не давал Юрка опомниться опешившей хозяйке, – тридцатка – красная цена этому уродцу. А не нравится, так я попрошу проверить ваши липовые бумажки кого следует.
- Шестьдесят, - как-то уж очень быстро сдалась торговка.
- Так. Вы стойте тихо и дышите носом, я быстро, - грозно произнес Юрка и сделал нетерпеливое движение, будто и вправду собрался идти за милицией.
- Ладно, бери за сорок. Голова у меня от тебя заболела. Во, попер, - совсем сдалась хозяйка, - побойся Бога. Черт с ними, с документами, порода-то ведь настоящая. Девушка, - умоляюще обратилась она к Полине, – скажите хоть вы своему приятелю. Это ведь настоящий шарпей?
Полина, которая и так испытывала крайнее неудобство, даже стыд, оттого, что стала свидетелем такого циничного торга из-за живого существа, тихо сказала: «Заплати, Юра, пойдем отсюда».
- Так, ребята, быстро сюда свои червонцы.
Юрка собрал с нас деньги, сунул их совсем ошалевшей хозяйке и мы пошли к выходу. Полина шла впереди крепко прижимая щенка к груди. Аленка шла рядом. Сейчас они казались подругами, хотя, я это понял еще в ГУМе, подругами стать им не было суждено.
Мы шли молча, ошалевшие не меньше, чем та продавщица. Что это было? Не искали, не выбирали, не приценивались. Сразу подошли к вольеру у самой рыночной помойки, устроили скандал, заплатили сорок рублей за не-пойми-чего…
- Юр. Ты можешь мне объяснить, что произошло, - наконец, прервал я молчание.
- Да, правда, Юр. Может, расскажешь, что это было, - подхватил Федот.
Семен, хоть и молчал, но было видно, ждет ответов с не меньшим нетерпением. Юрка, как будто ничего странного и не видел в произошедшем, закурил, выплюнул дым и спокойно произнес:
- Арсений сказал, что мы должны подарить Лехе на юбилей ответственность. Он нашел, что собака – самый удачный эквивалент этой ответственности. Мы, немного подумав, с ним согласились. Сели в метро, доехали до Таганки. В один автобус не влезли, следующего ждать не стали и пошли пешком. Пришли на рынок. Немного пошатались и пошли в собачий ряд. Там Полина выбрала пса. Не мы - хрупкая женщина, заметьте, взяла на себя всю ответственность, за будущую ответственность Лехину. Полуграмотная шарлатанка хотела содрать с нас за нее сто двадцать рублей. Я нашел это свинством и сбил цену втрое. Кажется, ничего не упустил? Ах, да. Теперь мы идем к выходу и разъезжаемся по домам. Арсений забирает пса к себе, предварительно купив мыло от блох. Везет его к себе. Греет воду, моет собаку, оборачивает в полотенце и устраивает спать на своей кровати. Потом он идет, покупает ей еду. Они мирно ужинают и засыпают вместе. Щенок под утро делает Арсению лужу на постель, и тот выкидывает наши сорок рублей в окно. Теперь, кажется все.
Юрка начал беззвучно смеяться. Через минуту не выдержал, и рассмеялся во весь голос. Мы не долго сопротивлялись и из ворот рынка выходила уже в покат гогочущая компания. А входа стояла одна Аленка с щенком на руках. Полинки не было.
- А где Полина, Ален? – забеспокоился я, хотя, остатки смеха еще продолжали сотрясать мое тело.
- Она сейчас придет. Мы же с ней еще не истратили своих подарочных.
Тут, как раз, и появилась Полина. В руках она с трудом удерживала кучу каких-то коробок и свертков. На локте висела корзинка.
- Ты что это накупила, Полина?
- Много чего, Сенечка. Но все нужное. Шлейка, поводок, миска для еды, миска для воды, шампунь от блох, ошейник от блох, корзинка и, самое главное, книжка про шарпеев. Ксерокс, правда. Но прочесть можно.
- Господи, Полина, да ты еще на целую собаку денег потратила.
- Ну и что? Это я сама. Я его выбрала. Теперь это моя ответственность.
- Слушайте, ребята, - встрял Юрка. – Со словом «ответственность» сегодня явный перебор. Ты, Полина, конечно, сама выбрала пса. Но не забывай – это наш общий подарок, и это наш общий друг. Так что, давай без геройства, которое, при всех твоих положительных намерениях, может нас оскорбить.
Юра явно был сегодня в ударе.
- Ну хорошо. С вас еще по четыре рубля. Корзинка дорогая. Зато с подушкой и одеяльцем. Простите, ребята.
- А так хотелось вспрыснуть покупку пивком, - вздохнул Федя, и полез в задний карман джинсов.
- Ты знаешь, как говорила Фаина Раневская, - заметил Семен, доставая пятерку. – Деньги проешь, а стыд останется. Ничего. Чайку попьешь с конфетками сегодня.
- Дайте хоть подержать малыша. За что хоть там я бодался с этой прокаженной?
Юрка принял щенка у Аленки, но как-то так неудачно, что тот опять провис в своем плюшевом мешке.
- Вы знаете, - заметил Юрка, заворачивая щенка в его складки, - у него кожи еще на двоих таких же как он.
- Это пока щенок. У взрослых складки остаются только на морде и груди. Успела прочитать, - успокоила Полина.
- Он небольшой хоть вырастет? А то вымахает с теленка. Леха нам не простит.
- Нет. Сорок, сорок пять сантиметров в холке. Средней величины пес.
- Ну, ладно. Давайте все это мне. У меня еще с ним куча дел.
Я стал забирать все кульки у Полины.
- Я с тобой. И даже не спорь, - Полина была настроена почти воинственно. Мне даже показалось, что сейчас я увидел в ней настоящую мать. – Я еду не к тебе, если тебе этого так не хочется, Арсений. Я еду позаботиться о нем.
Тон ее голоса был таким, что возражать я не решился. Да и когда она называла меня Арсений, на меня моментально почему-то нападал страх. Страх потерять ее. В конце концов, Тамара не являлась уже месяца полтора. Срач, конечно. Но я отправлю Полинку греть воду, а сам быстро приберусь.
- Хороший ход, Арсений Палыч, - прервало повествование Время. На коленях у него, как ранее кошка, из ниоткуда, оказался белый пудель. Он с любопытством разглядывал Арсения Павловича и мелко вибрировал хвостом-обрубком.
- Это, я так полагаю, Янь?
- Правильно. Это второй мой спутник. Символ светлого начала и, вместе с тем, начала мужского, - отозвалось Время. Это южный склон горы. Это свет, жизнь, небо, солнце, это нечетные числа, нефрит. К тому же, в отличие от кошки – пространства, собака – прямой символ времени, то есть, твоего покорного слуги. Конечно, интуитивно, вне знаний, но ты здорово выбрал подарок. Я даже готов согласиться, что, где-то, это было предвидением. Есть, правда, небольшой сбой. Телец – все ж таки, принадлежит Инь. Но, с другой стороны, это на вашей дурацкой земле…, правильнее, в вашем дурацком сознании кошка с собакой дерутся. А суть бытия в том, что Инь и Янь действуют сообща, вместе. Суть в единении и слиянии, а, отнюдь, не в борьбе и противостоянии.
Любопытно, кстати, что впервые понятие взаимодействия Инь и Янь, как законченная философская концепция, была сформулирована во втором веке до новой эры. И, приблизительно, к тому же периоду относятся первые упоминания о породе шарпей. Конечно, понятия Инь и Янь появились гораздо раньше, но ведь и собака не сразу взялась. Мне досуг следить за подобным и рассуждать, есть ли здесь какая либо связь. Я просто констатирую.
Ну-ну, прости, что перебил. И что там дальше?
Мадонна
- Я только тебя умоляю, Полина…
- Не волнуйся, я не буду смотреть на твое жилище. Я еду не для этого.
Мы подъезжали к станции метро «Маяковская». Корзинка стояла у Полины на коленях, но она обхватила малыша обеими руками. Ей все казалось, что ему холодно, хотя, тот спал, как сурок и даже похрапывал. В такой шубе ему вряд ли могло быть холодно.
Слава Богу, в комнатах моих было не то, чтобы прибрано, но сносно. Как Полинка не клялась, что не будет смотреть, любопытство, вечный спутник и враг всех женщин, начиная с Пандоры, побороло. Она поставила корзинку на стол в кухне и, не спрашивая, прошла в комнату.
- Это что? От клопов? – кивнула она на ножки кровати, обутые в консервные банки.
«Насколько же она сообразительнее Аленки», - с гордостью подумал я.
- Это-то меня и беспокоит. Они любят свежую кровь и ночью налетят на малыша.
- А как же банки? Не помогают?
- Не очень. Они с потолка прыгают.
- Ну, ничего. Клоп – не клещ.
- Так-то оно так. Да только вряд ли он привит. Эта шарлатанка могла написать все, что угодно. Ну да ничего. Я пройдусь по карнизу потолка дихлофосом и они на потолок не полезут.
- Ну и чего ты боялся? – закончила осмотр Полина. – Ты так себя вел, что я ждала увидеть пещеру с черепами, костями и кровавой пентаграммой на потолке.
- Как не стыдно, Полинка? – ты обещала, что не станешь смотреть.
- А ты и поверил, дурачок?
Полина подошла ко мне, обняла и посмотрела в мои глаза. Она светилась любовью. Вся комната будто озарилась золотым сиянием. Я потянулся к ее полураскрытым коралловым губам, как вдруг, на кухне раздался глухой шлепок и, затем, пронзительный визг. Мы влетели в кухню. Наш песочный комок распластался всеми четырьмя лапами по полу и самозабвенно скулил, подняв свою черную мордочку кверху.
- Вот дураки-то, - всплеснула руками Полина, подбежала к щенку, схватила его на руки и, раскачивая, начала отчаянно целовать. – Вот дураки-то, вот дураки, - причитала она.
Я заворожено смотрел на эту сцену. Передо мной была настоящая мать.
- Мы дураки. Нельзя еще нам иметь детей, - произнесла она так естественно, будто мы сто раз уже обсуждали с ней эту тему.
Щенок успокоился и через минуту уже спал уткнувшись своим черным носом в Полинкину грудь. Передо мной была уже не мать. Передо мной была мадонна.
Что делает с мужскими мозгами любовь? Общее мнение о том, что влюбленный мужчина просто глупеет, сколь вульгарно, столь и не верно. Это, скорее, напоминает заболевание зрения. Говорят, что если дать человеку походить недельку в очках, переворачивающих изображение, то потом, сняв их, он видит весь мир перевернутым. Так и здесь. Любой недостаток, который, потом, когда вспышка пройдет, будет нас раздражать, вплоть до развода, сейчас нам кажется достоинством, чуть не божественным. Как смеется, как злится, как грустит… все божественно. Она лишь отвлеченно взглянула на тебя, но, нет… - «она вскинула свои летучие ресницы и бриллианты ее бездонных глаз засияли тысячью солнц счастья и любви…». Какого бреда не напридумывает больной влюбленный мужской мозг.
Вот, как теперь. Передо мной на коленях на грязном полу дворницкой кухни, раскачиваясь вперед-назад, как полоумная, сидела растрепанная и совершенно растерянная девчонка с полными слез глазами и с непонятным существом на руках, но я видел рафаэлевскую мадонну с младенцем.
Я подошел, опустился на колени и обнял ее.
- Все будет хорошо, Полина. Не переживай. Все дети шлепаются однажды. Да и не раз, - гладил я ее по голове. Идите, сядьте на кровать, я пойду, поставлю воду на плиту.
Я осторожно поднял ее и повел к кровати.
- Садись. Я быстро.
Я взял эмалированное ведро и пошел в общую кухню. Там я его наполнил, зажег плиту, поставил на огонь, но решил не идти в комнату, а дождаться, пока вода согреется. Пусть Полина успокоится. «Надо же, - вспомнил я, - как это она сказала? - «Нельзя нам еще иметь детей». Смешная. Почему меня это не испугало? Мне семнадцать. Первый курс. Но почему меня не пугает перспектива женитьбы? Боже! Да я просто хочу этого. Матушка с ума сойдет. Отец пожмет плечами и скажет: «Дурак ты, братец». Да и черт с ними».
Я попробовал воду пальцем – чуть теплая.
«Отец у меня умный. Плохого не скажет, - продолжал рассуждать я. – Я же еще не жил. А тут раз – и семья. Прощай, пьянки-гулянки. Обзовут женатиком. Не будут больше звать с собой в пивную. Ни драк, ни милиции, ни глупых девок с ногами от ушей».
Я закурил и взглянул на потолок. Вечерело и тараканы уже начали понемногу выдвигаться на свои ночные позиции.
«Черт. А жить где? – катились под откос мои мысли. - Ко мне она не поедет. Я хоть и номенклатурный сынок, да провинциал. А она-то, коренная москвичка, дочь декана. Потащит меня жить к папе на квартиру. Теща еще неизвестно какая. Мегера какая-нибудь. Такого ли она мужа мечтала для своей дочери. Не так говоришь, не так ешь, не так одеваешься. А папа скажет: «А как ты собираешься кормить свою семью?». А я что скажу? «Я дворник, Михаил Маркович. Семьдесят рублей получаю». Тьфу! К фамилии еще докопается. Скажет: «Что это еще за имя такое, Полина Михайловна Штоц?». Еще заставит меня взять фамилию жены. Обязательно заставит. Для него, если верить слухам, изменить фамилию – не криминал. Сыновей-то Бог ему не дал. Загнется его династия Блоков. Точно, заставит. А ребята еще подкаблучником за это прозовут. Начну психовать. На Полине буду зло срывать. Начнутся ссоры, скандалы. После института ехать домой - что на каторгу. Начну пропадать с ребятами по пивным. Запью с такой мутной жизни. Родители ее в конце концов скажут: «А не катился бы ты туда, откуда явился». А Полина не вступится, потому как, и самой ей все это порядком надоело… Сколько браков вот таким вот образом… не взрывом, не в одночасье, а так вот, изо дня в день…».
Настроение совсем упало. Я сунул руку в ведро. Согрелась. Выключил газ. Но в комнату почему-то идти было страшно. Закурил. Картины супружеской жизни, одна мрачнее другой стали рисоваться мне с фантастической реальностью. То сидим мы за семейным столом. Передо мной кусок курицы с рисом. По бокам от тарелки два ножа и три вилки, а я рук с колен оторвать не могу. Черт его знает, как эту чертову курицу есть. А Михал Маркович, аккуратно разделывая куриное бедрышко ножом и вилкой, издевается: «Что, Арсений, аппетиту нет?». А вот я звоню в дверь, едва попадая пальцем в кнопку, после жуткой пьянки. Открывает Теща: «Ах ты алкоголик чертов! А ну катись в свою дворницкую. Чтобы ноги твоей больше не было в нашем доме, плебей!». Или… «Тьфу, черт», - совсем расстроился я. Загасил сигарету, взял ведро и поплелся к себе.
В комнате было тихо. Таинственный мягкий свет моей зеленой лампы нежно висел в воздухе. Я подошел к кровати. Полина, сбросив туфли свернулась калачиком на моей постели и тихо спала. В кольце, образованным ее хрупким телом, будто подражая своей новоиспеченной хозяйке, в точности повторяя ее позу, спал щенок.
У разных людей разная реакция на нервный стресс. Одни, сильно понервничав, сутками не могут заснуть. А есть такие, что срабатывает в них какой-то защитный механизм, и они моментально засыпают. Похоже, Полина была из таких. Я не мог оторвать от нее глаз. Так нежна, так беззащитна. Мадонна вновь спустилась с небес вмиг прогнав все мои кухонные мысли и образы. «Боже, Полина, как я люблю тебя!»
- Сеня? - раздался сонный Полинкин голос, - ой! – она испуганно приподнялась на локтях, - что это со мной случилось?
Наморщила лоб, пытаясь припомнить где она, скосила взгляд налево, увидела пса и… залилась серебристым смехом. Поспешно спустила ноги с кровати и начала неуклюже болтать ими ища туфли. Кровать для нее была высоковата. Проснулся и щенок. Уперся передними лапами в спину Полине и зевнул такой пастью, что сомнений не оставалось – мы купили собаку.
- Как же это я? – улыбалась Полина, найдя, наконец, свои туфли, - вот дуреха. Впервые в доме любимого человека, а уж и развалилась, как у себя. – Ты согрел воду?
Она умела сразу переходить к делу.
Полина вытирала и заворачивала мокрого щенка в полотенце (достал из шкафа резервное, чистое), а я пошел вылить ведро. Вернувшись, я застал ее за чтением книжки, что она купила на рынке.
- Здесь пишут, что им можно практически все. И рыбу и мясо и птицу. Нельзя только трубчатых костей и молока. Творог обязательно. Я посмотрела, у тебя тут одни консервы. Ты иди, сходи в магазин, купи курицу и творог. Заодно и сам, хоть раз, поешь по-человечески. А то питаешься, хуже собаки. Иди. Я поставлю воду на плитку.
Она распоряжалась так, будто мы давно уже женаты. И мне вдруг стало так тепло от этого. Тепло… и очень стыдно за мое малодушие перед ведром.
Вся дворницкая благоухала незнакомым ей доселе запахом вареной курицы. Щенок, съев чуть не половину (видать, его плохо кормила бывшая хозяйка) соизмеримого с ним самим цыпленка, и почти целую пачку творога, похрапывая мирно спал на кровати. Оказалось, что я голоден не меньше собаки и, забыв про этикет, с удовольствием обгладывал нежные куриные косточки (и свою долю и за щенка, потому что костей мы ему не давали). Полина сидела напротив, подперев голову двумя своими кулачками, смотрела на меня и улыбалась. Когда я закончил, она подала мне полотенце.
- Чай будешь? Я заварила свежий. У тебя со слоном. В магазинах не очень-то найдешь.
Когда успела?..
- Папа у меня партработник. Это они ведь только в кино голодали вместе с народом. А так – у них там в обкоме свой магазинчик. Да он сам и не ходит. Ему его водитель все привозит. Отец честный человек, но есть у них, так сказать, «законы жанра».
- Не переживай. У меня та же ситуация дома.
- А кто у тебя теща?.. Ой, - осекся я.
- У тебя теща, а у меня мама, – весело рассмеялась Полинка. Она разливала чай в стаканы. - Она тебе понравится. Она добрая. Она детский врач.
- Это хорошо, что детский. Просто врач у меня, почему-то, никак не ассоциируется с эпитетом «добрый». И не потому, что помучили они меня в детстве, но именно из детства мне запомнилось, как ласково со мной разговаривала хирург, когда вырезала мои гланды. А позже, в больничном отделении, проходя как-то мимо неприкрытой двери ее кабинета, я услышал, как точно те же слова и в той же интонации она обращает к совершенно другому пациенту. И тогда я догадался, что никакого сострадания они не испытывают, а, просто, есть у них набор заезженных пластинок доброты. Я не в претензии. Надо их понять. С утра до вечера они, пусть вынужденно, но причиняют людям боль. Если каждую такую боль переживать, как свою, то, думаю, можно сойти с ума. Полагаю, у них должен стоять блок на людские страдания. И, хороший врач – как раз тот, что не испытывает чужой боли.
Полина как-то загрустила. Вдруг, она порывисто подалась вперед и, схватив мою руку в свои, горячо прошептала: «Я всегда буду испытывать твою боль, как свою. Знай это».
Угости, сынок, папироской
Раннее утро. Шестой час. Весна. Еще далеко не все птицы слетелись в Москву, поэтому, приличествующего такому чистому рассвету щебета, почти не слышно. Где-то вдалеке переругивались вороны, редко вскрикивали галки, да с чердака двухэтажного дома напротив моего участка, доносилось мурлыканье голубей. Тихо. Безлюдно.
Полина не разрешила мне вчера ее проводить. Велела не спускать глаз с щенка. Утром, перед работой, я вынес его на улицу, дабы он больше не делал луж у меня на кровати. Малыш с любопытством обнюхал близлежащие кусты, мусорный бак, потыкал носом разорванный резиновый мяч, но того, зачем его вывели, делать не стал. Зато, только я принес его домой, навалил огромную кучу, подошел к кухонному столу и мордой показал вверх. «Быстро ты учишься. Уже знаешь, где еда. Лучше бы ты так же быстро учился гадить, где надо», - посетовал я, но убрал за ним, а потом дал остатки творога. Он поел, затем, прошлепал в комнату, остановился у кровати и снова поднял мордочку, намекая на следующее свое желание. «Э нет, брат. Мне надо заметать улицы, а ты пойдешь в гости». Я взял его на руки и отнес к Рашиду. Тот, мало чего поняв спросонья, взял щенка подмышку и снова завалился спать.
- Смотри не раздави, - забеспокоился я.
- Угу, - буркнул Рашид в ответ.
- А заметать, что? не пойдешь?
- Не моя очередь, - отвечал он, и, когда я прикрывал дверь – уже храпел.
Я смел песок и мусор в пять небольших кучек вдоль своего участка и, прежде чем собрать их в ящик на колесиках от послевоенной детской, скрипящей тем, послевоенным скрипом, коляски, решил передохнуть. Присел на карниз цоколя на углу дома номер семь по третьей Тверской-Ямской. Закурил.
Шесть утра. Стали появляться редкие прохожие. «Вот не спится дуракам. Ну ладно, я. Я обязан. Мне и деньги за это платят и крышу над головой… А ты-то куда прешься, беспокойный москвич!». Дворник к прохожему относится плохо. Прохожий для него – источник мусора – и все. Падает листва, сыплет снег – все это - природа, божья неизбежность. Убираешь безропотно. Но прохожий… Вон у меня с обоих концов участка по урне стоит. Так если и найдется реликтовый интеллигент, что захочет кинуть обертку от мороженого в одну из них – и то, непременно, промахнется. Но такие люди – рудименты, нерепрезентативная, так сказать, прослойка. Все ж остальные… Ничтоже сумняшеся… Будто и не видят этих урн… И, что любопытно… В области – тот же хам, но он стеснительный. Идет, обернется воровато – не видит ли кто – да и бросит под кусты на газон бутылку, хоть до урны всего двадцать шагов. В Москве – не то. Он даже если видит, что ты заметаешь – бросит огрызок свой, прям в глаза тебе глядя, да и пойдет дальше. Хам, конечно, москвич. Он говорит, что все это - лимита. Они, мол, свиньи деревенские. Привыкли, навоз по улицам месить у себя. Теперь вот, первопрестольную засирают. Нет, брат мой, москвич. Русская деревня чистоплотна, по определению, спокон веку. Христианка она. А вот ты, златоглавая, сверкаешь миру с макушки до пояса, а чуть ниже – так, не приведи Господь. Грязь да смрад. И не теперь это сделалось. Всегда ты такой была. От князя Долгорукова до наших кремлевских пердунов. Но любят тебя, всё-одно. Сильно любят. Потому - зеркало ты всей России. Портрет. А кто ж не любит свой портрет.
Сигарета закончилась. Я щелчком отправил ее в ближайшую свою кучку. Попал. Достал пачку, решив покурить еще. Хорошее утро. Щенок под присмотром.
- Угости, сынок папироской, - вдруг услышал я за спиной.
Вздрогнув от неожиданности я обернулся налево. За углом дома, почти касаясь меня плечом рваного тулупа, так же, как и я, на карнизе цоколя сидел старик. Длиннющая белая, будто ни в жизнь нестриженная борода. На голове плешивый треух. Ноги в валенках без калош, но подклеенные изрядно стоптанной резиной. Желтые морщинистые руки замком на самодельной клюке. Откуда он взялся? Готов поклясться, когда я садился покурить, его здесь не было. Со мной бывает. Улечу мыслями, как сейчас, и не вижу ничего вокруг. Странно было другое. Не оставляло чувство, что я его уже где-то видел.
- Отчего ж не угостить, отец, - протянул я ему пачку, - только не взыщи, папирос нет – сигареты. Слабовато, небось, для тебя.
- И на том спаси Бог, сынок. Кто ж даровому коню-то в зубы-то?..
С этими словами он достал откуда-то из складок своего зипуна видавшую виды самодельную трубку, и стал, разминая сигарету, высыпать в нее табак.
- Советую. Благоприятная штука. Когда и ты обнищаешь, никогда без курева не останешься. «Бычков», вон их сколько кругом. А в трубке – они уже не мусор – табак. А тут, гляжу, сидит работный человек. Не барин. Трудом кормится. Не откажет, думаю, страннику. Я, мил-человек, не то, о чем ты сейчас думал. Я в жизни соринки не бросил к подножью Божию. Я, даже, коли и в лесу, один – я, крошки - птицам небесным, кости – зверям лесным, все остальное сожгу в пепел, а уж опосля, в путь.
- А откуда ты…, - удивился я, - ты, никак, ясновидящий.
- Да какой я ясновидящий. Просто видел, как ты на того прохожего смотрел. У человека, на лике его, все, как по написанному, как в зеркале. Прочесть – другой труд, не всякому способно. Да я пожил. Вот, иду помирать теперь.
- Из далека идешь, дедушка?
- С-под Баянгола. На Байкале это, сынок. Уж третий год иду.
- И далеко путь? И… Что это значит, «иду помирать»? Разве сам человек решает?
- Бог вершит, а человек решает, что Бог велит. Пора мне, - вздохнул старик, - все испил, что отпустил мне на грехи мои Всевышний.
Он достал спичечный коробок, раскурил трубку, а горелую спичку засунул с обратной стороны коробка. Помолчал.
- А иду я в Свято-Введенский монастырь Оптина пустынь. Явился мне два с лишкою года тому, святый старец, преподобный Макарий и велел идти в обитель сею. «Там, - молвил, - успокоится душа твоя многогрешная, многострадальная». Велел налегке идти. Жить подаянием да молитвою усердною в пути. И такого ли я люду хорошего повидал за ту дорогу. В жисть столько добра не встречал в человецах, сколь, пока иду. Сердоболен, жалостлив, русский народ. Веришь ли? За два года с половиною, ни копеечки не отнес, не потратил. И кров тебе, и еда тебе, и тело бренное прикрыть от холода лютого. Глядишь на иную семью, где случилось стоять - сам бы последнее снял – так бедны. А они тебе в дорогу хлебец последний да яйцо сваренное, да еще и Богом стращают, если не возьмешь. Да-а-а.
Москва - не то. Веришь – нет? Да только пол-Россеи прошагал – хоть бы кто обидел старика. А только вошел в престольную – тут меня и в кутузку. Ну, взял грех на душу, слукавил. Паспорт-то у меня исправный. «Брата, - говорю, - иду в Козельске повидать перед смертию». Отпустили, заблудшие. Получаса не минуло – другие отроки определяют меня в бродяги. Только отбрехался, прости Господи, - с живостью перекрестился старик за бранное слово, – тут и третьи. Да что ж такое сделалось с православным стольным городом нашим? Ужели, как добрый доктор, вобрал он в себя все болезни-пороки земли русской, дабы все остальное чистым было?
- Интересно с тобой, дедушка. Окажи честь, передохни у меня. Я вчера щенка купил другу в подарок. Мы втроем и покушаем. Только дай, приберусь тут.
- Спасибо, мил-человек. Я знал, что пригласишь. Да и, признать совестью, хотел того. Слово у меня к тебе будет отеческое.
- Вот и ладно, - обрадовался я. – Только, посиди здесь пять минут, я соберу мусор и пойдем.
- Зачем сидеть, - возразил старик, - я спину гнуть не боюсь. Да и отпустил мне еще Господь силенок. Я помогу.
- Силы есть, а помирать собрался? – подмигнул я старику, - бери тележку, здесь не много мусора.
- Ну что, студент? Зажрался? Эксплуатируешь уже труд бомжей? – услышал я до мерзости знакомый голос.
За спиной стояла Тамара.
- Да что вы, Тамара Степановна, - моментально отреагировал старик, что я и опомниться не успел, - внучку помогаю. Заехал тут по случаю. Гляжу, работает-убивается. Дай, думаю, пособлю.
Тамара опешила.
- Откуда ты знаешь, как меня зовут, старик, - насторожилась смотрительница.
- Так внучек и рассказывал. Благодетельницей называл. Уж спасибо вам, Тамара Степановна, за отрока. Он у меня, работы не боится. Справный мальчик.
- Справный, справный, - заулыбалась своей похотливой улыбочкой Тамара. – Однако, - вновь сдвинула она брови, обращаясь ко мне, - я слышала, ты пса завел? Я не потерплю тут всякой нечисти.
- Да что вы, Тамара Степановна, я его в подарок купил, другу. День рождения завтра. Завтра щенка уже не будет. Поверьте.
- Смотри. Завтра же приду, проверю.
Холод пробежал у меня по спине от этих слов. «Боже, неужели опять?».
***
Я вытащил из-под Рашида щенка. В руладах дагестанского дворника слышался рокот Каспийского моря. Так храпят только люди с чистой совестью. Пока мы шли до моей двери, я спросил:
- Ну хорошо. Допустим, мысли о прохожих ты прочел на моем лице. Хотя, будем честными, лица ты моего тогда не видел. Но как ты узнал ее имя?
Старик хитро усмехнулся.
- Видишь ли, Арсений, - подождал очередного эффекта оттого, что он и мое имя знает, и продолжал, – когда я говорил «лик», я говорил, именно, лик, а не лицо. Лик – это не портрет. Это образ души человеческой, а, может, и божественной. А там все. Не знаю, слышал ты, когда-нибудь о торсионных полях?
- Нет, - раскрыл я рот.
Дед, который, минуту назад, говорил чуть не на церковно-славянском… и такие термины…
- Не удивляйся, Арсений. Я - доктор физико-математических наук, профессор Новосибирского педагогического. В прошлом, конечно. Я учился у Давида Ландау. Торсионными полями стал заниматься еще при Хрущеве. Все это назвали, в конце концов, псевдо-наукой и не финансировали. Штука в том, что эти поля не имеют физической природы, не отвечают ни волновым, ни квантовым трактовкам. Это нельзя пощупать, измерить, а, следовательно, ну, с их точки зрения, этого нет. Нет для официальной науки. Но они есть. Я пять минут назад это доказал практически, и, только что, это подтвердил.
Видишь ли… Если раскрутить одно массивное тело в одну сторону, а другое - в другую, то между ними возникает сила, которую правильнее всего назвать информационным полем. Оно безмерно, как безмерно время и пространство. А одинаковоскоростное вращение в противоположные стороны обеспечивает необнаружимость этого великого явления. Твой кассетный магнитофон, который стоит в правом ближнем углу от входа, прокручивает пленку от первого метра до последнего и…, замолкает. Торсионное поле не имеет начала и конца. Оно искривляет, складывает пространство пополам. Время теряет всякий смысл, а информация заполняет весь мир.
Мне заткнули рот. Я перестал проповедовать эту гипотезу. Но я не отказался исповедовать ее. Лишился работы, кафедры, партбилета, семьи, детей, уважения коллег. Теперь меня зовут замолчать силы, куда как более могущественные, чем официальная глупая наука. Что, впрочем, лишь подтверждает мою правоту.
Я, так и не закрывая рта, открыл дверь дворницкой. Щенок забрыкался у меня в руке, вывернулся, шлепнулся на пол и вбежал в кухню. Справа, на полу стоял магнитофон.
- Проходите…, - замялся я, - теперь мне трудно называть вас дедушкой.
- Арсений Павлович, с вашего позволения, улыбнулся старик, внимательно разглядывая дверную раму.
- Арсений Павлович? Но…
- Да-да, Арсений. Такое вот странное совпадение. Да и супругу мою звали Полина Михайловна. Если пойти дальше, то скоро ты выяснишь, что ее мать зовут Мария Аароновна.
Я уже не сопротивлялся. Пожирал глазами и слушал. Арсений Павлович встал своими, видавшими виды валенками на истертую деревяшку порога, и взялся обеими руками за косяки.
- Здесь побывали и низкий разврат, и высокая любовь, - произнес он закрыв глаза. – И скоро, ой, как скоро, сойтись им вместе.
- Боже, - испугался я, – я не герой, не трус, Но хватит уже пугать меня.
- Не злись, Арсений. Испуг – продукт вовсе не страха – неведения. Я почти три года иду к своей смерти безо всякого страха потому, что знаю - я – набор чисел, моя судьба – набор чисел, наша боль – набор чисел, этот мир – набор чисел. Причем, не десятеричной системы, а, всего лишь, двоичной. Бесконечное число сочетаний групп «единица» и «ноль», «да» и «нет». Такое вот черно-белое кино.
- Ох. Голова у меня разболелась, Арсений Павлович. Давайте я разогрею голубцов? Поедим.
- Изволь.
Арсений Павлович снял свой изодранный тулуп, треух и остался в холщовой толстовке и валенках. Я усадил его за стол и включил электроплитку.
- А что нужно, чтобы уметь читать эти торсионные поля?
Мы съели по полбанки голубцов. Еще немного лосося в собственном соку. Основное количество рыбы слопал малыш. Теперь он мирно спал на коленях старика и мы потягивали крепкий чай.
- В научном открытии…, мне гораздо больше импонирует термин – обнаружение, что мы, ученые, делаем? Тыкаемся, как слепые котята, туда-сюда. Наткнется один из нас – «Эврика!» - кричит. Ну так, с греческого, это и переводится - «нашел». Нашел, заметь, а не открыл, не изобрел. Все законы мира писаны до нас. Какого черта называть закон всемирного тяготения законом Ньютона, если и без него он действовал, действует и будет действовать, хоть тресни мир. А, позже, выясняется, что действует-то он только при малых скоростях, спасибо Эйнштейну.
Кто они? Врач Майер, пивовар Джоуль и врач Гельмгольц, что наткнулись на закон сохранения? Будто, сдохни они, и мир бы так и повис, не сохраняя и не передавая тепло в движение и обратно?
Почему я и не расстраивался особо об утрате своей карьеры. Строить жизнь на том, что и без тебя уже есть – подло. Хуже, чем воровать. Мы приобщаемся к великому разуму с его разрешения, а, вовсе, не потому, что взломали вход в его таинственную пещеру. Наука занимается воровством у Всевышнего. Но это не самое гнусное из ее прегрешений. Наука ставит свою подпись… Да что там подпись!.. Безграмотный крестик под законами, в коих, по большому счету, ни черта не смыслит.
Знаю, о чем ты думаешь, Арсений.
Похоже, он перехватил мое нетерпеливое движение. А, может, прочел все.
- Гордыня?! Ну, так я тридцать лет за нее платил, работая дворником в Баянголе. А, теперь вот, ползу помирать. Ты счастливее меня. Ты начал с того, чем я закончил… Что с тобой, Арсений?..
- Вы, Арсений Павлович, люди науки, извинительно говоря - странные люди. Вы, ради «истины», которая, рано или поздно, уж, непременно, окажется очередной глупостью, как, к примеру, геоцентрическая система Птолемея, готовы жертвовать народами – не то чтобы маленьким человеком. При этом, когда вас спрашиваешь – «чего ради?» - вы тычете нам в нос нас самих, приговаривая при этом – «все это ради вас».
- Дай - ка мне еще сигаретку, - загрустил старик.
Я дал. Он набил здорово прогоревшую уже «чашку» раздавленной сигаретой и продолжал:
- Ты не очень-то прозорлив, - раскурил он трубку. – Твоя жизнь висит на волоске… Твоя счастливая жизнь с прекрасной девушкой практически мертва… Твой лучший друг в опасности… Единственный друг… Ты на пороге ужасного скандала, а ты рассуждаешь о будущем народов. Оставь уж это мертвеющим старикам. Чаша давно тебе отмерена. Думаешь, пронесут мимо?.. Нет, Арсений. Есть ли торсионные поля – нет ли их – это вопрос эмпирики, если не простой семантики. А чаша реальна. И тебе ее пить. Изменить судьбу можно только изменившись самому.
Это то слово, что я пришел сказать тебе.
Торсионные поля
- Хороший рассказ. Чего это ты не предупредил, что будет в нем один из адептов? – произнесло Время, глядя в одну точку с очевидным раздражением.
- А что?
- Забыл? – я – Время. Слава Богу, он уже преставился.
- Да в чем дело-то?
- Каков хам. Торсионные поля! Черт возьми! – возмущалось Время, будто и не слышало, что я спрашиваю. - Ну, конечно, я о них слышало. Я поговорю с кем надо. Эти «прорывы» сознания человечества необходимо прекратить.
- А, может, я сам решу, что в моей жизни надо было прекращать, а что - нет?..
- Ах, прости, что вмешиваюсь. Кстати. Ты забыл? Твой тезка давно в земле.
- Ты уже говорило это. Похоже, ты радо?
- Да. Я радо. Потому, что есть области, в которые не следует совать свой нос. Торсионные поля – знание не для людей. Ну вот, скажи. Интересно кому-либо смотреть, как ты испражняешься? Интимная ситуация, да и с запахом. Ну-ка, взгляни на Полину. Видишь… как она прекрасна?.. А теперь представь, уж прости меня…, каждый день, раз в день, она заходит в туалет и, о Боже…. Не нравится картинка? Так вот, и зачем знать?! Прекрасное и безобразное – вовсе не антиподы. Это вы, людишки, ставите их друг против друга, обтягиваете квадрат канатами и визжите, «вышиби ему мозги!»... Да, я радо. Радо, что совсем уж никчемный, закомплексованный мозг, перестал голосить: «Я знаю! Я прозрел!». Вы никак не можете понять разницу между «увидеть» и «прозреть», и, куда уж там, «сделать вывод». Эти торсионные поля… Предвиденья… Только вред… Счастье в том, что многого не знаешь…
- Я вспомнил, черт возьми, вспомнил! Почему я тогда не вспомнил?! - забыл слушать Время Арсений Павлович.
- Что. Что вспомнил!?
- Это он!
- Кто он?
- Тот. В облаках!
- И?..
- Торсионные поля!
- Что, торсионные поля?
- Я один из тех, кто это видел.
- Что «это»?
- Ну, скажем, то, что ты – иллюзия.
- А то, что ты, Палыч, полуспившийся дворник, которого завтра отсюда попросят… Тоже? Иллюзия?
- Ты не поняло. Я видел этого старика в облаках. А знаешь, что это значит?
- Что?
- Все остальное. Истинность и неотвратимость всего остального.
- Господи. Да что же там всего остального?
- Эх…
Арсений Павлович достал очередную бутылку водки, откупорил ее и разлил по стаканам. Встал из-за стола и поднес один из них Времени.
- Давай выпьем. Выпьем за то, что тебя нет. Боже! Тридцать лет понадобилось, чтобы понять, что это был он. И что я имел дар чтения этих полей. Имел, но не пользовался. Только следовал за неизбежным, как телок на веревочке.
Арсений Павлович Вернулся на свое место и молча влил в себя водку.
- Господи. Что за щенячья радость? – загрустил Арсений Павлович. – Облака мне показали не только старика. Они кричали – «ничтожество». Все можно было предотвратить.
Время поставило пустой стакан на стол и, отерев тыльной стороной ладони усы, сказало:
- Брось, Палыч. Ничего предотвратить нельзя. Прав тот твой Арсений Павлович. Увидеть, прочесть – можно, предотвратить – нет. Подтверждение тому – ты сам.
Эх…, - вздохнул Арсений Павлович.
- Да не грусти ты так. Давай дальше.
В дверь постучали.
- Арсений, тебя к телефону, - крикнула из-за двери Порфирьевна.
- Иду, спасибо, - и, уже к Арсению Павловичу, - я через минуту.
Это была Полина. Волновалась, не оставлял ли я щенка одного, когда убирал участок. Я сказал, что пристраивал его у Рашида и она успокоилась. Сказала, что заедет ко мне завтра в пять и мы вместе поедем в ресторан. Я возразил, сказав, что могу и сам за ней заехать. Она же ответила, что и в этот раз едет не ко мне, а за щенком. Меня это несколько задело, но перечить я не стал. Положа руку на сердце, мне хотелось ей подчиняться. Когда я вернулся, то с изумлением обнаружил, что старик исчез. А телефон был в конце коридора, где был выход в подъезд, и Арсений Павлович не мог пройти незамеченным мимо меня. На стуле, где он сидел минуту назад, мирно посапывал пес. Ни тулупа, ни треуха, ни Арсения Павловича. Я взял малыша на руки. Тот недовольно начал пихаться всеми своими смешными толстыми лапами, но, наконец, устроился поудобнее и затих.
«Чудеса, - подумал я, - жалко. Так много можно было узнать. Его жену звали Полина – это здорово. Но о чем же он меня предупреждает? «Друг в опасности…, скандал…, моя счастливая жизнь с прекрасной девушкой практически мертва…». Что же будет?».
Мне вдруг стало ужасно тревожно. Щенок у меня на руках опять начал брыкаться и потявкивать, явно за кем-то гоняясь во сне. «Что ему снится? - удивился я. – За кем он бегает? Он же еще ни одной кошки не видел в жизни. А она ему снится. И он точно знает, что должен ее гонять. Память предков, видимо». Я почесал за его маленьким ухом, с трудом отыскав его в многочисленных складках горячего тельца. Малыш затих. «Эти тупые ученые утверждают, что у собак нет души – одни условные и безусловные рефлексы, - зафилософствовал я. – Разве тому, у кого нет души, могут сниться сны? Этот Павлов!.. Он, похоже, видел собак только в своей лаборатории. Если б достопочтенный Иван Петрович хоть денек побыл с собакой у себя дома. Покормил бы, подержал на руках, понаблюдал бы, как человек, а не как ученый… М-да. Ученый и человек – вещи противоположные. Полагаю, именно у ученых нет души – одни рефлексы. Они видят какое-либо естественное явление природы и, именно, рефлектируя, тут же обзывают феноменом и начинают исследовать простое и естественное божье проявление при помощи сложнейшего оборудования и витиеватых формул. Затем, пишут сотни заумных, понятных только им самим, диссертаций… А там, гляди – новый нобелевский лауреат, да миллион баксов в придачу. Как здесь не вспомнить Вольтеровского Кандида, где академик Французской академии наук не только показал возможность существования овец с красной шерстью, но и убедительно доказал, что иного цвета шерсти и овцы и быть не может. Нет, конечно, ученые – не люди. Правильно поступил доктор физико-математических наук и профессор Новосибирского педагогического института Арсений Павлович (интересно, а фамилия у него тоже, как у меня?), что ушел в дворники. Заметал улицы, но остался человеком».
«Когда и ты обнищаешь…», - опять вспомнились мне слова старика. - Черт. Появляется ниоткуда, исчезает в никуда. Черт. Настроение рухнуло совсем. – Да шел бы он! Каркает тут! Наплел ерунды и смылся, сукин сын!». От внезапно нахлынувшей злости, я так сильно стиснул щенка, что тот проснулся и жалобно заскулил. «Прости, прости, малыш, прости, мой хороший, я не хотел», - начал я целовать щенка. Я прижал его к лицу и вдруг почувствовал, что оно у меня мокрое от слез. «Вот, черт. Что со мной происходит? Надо взять себя в руки. В институт ни сегодня, ни завтра ехать я не могу. Надо как-то отвлечься».
Я вытер слезы, схватил поводок, с горем пополам надел на щенка шлейку, оделся и почти бегом кинулся на улицу.
Назло правописанью
Я, признаться, не люблю официальные торжества. То есть, я, конечно, люблю дни рождения. Точнее, ту их часть, когда, изрядно «приняв на грудь», компания забывает зачем собралась и кто именинник. Торжество, правда, при этом перестает отличаться от обычной студенческой попойки, хотя…, чем плохи эти обычные студенческие попойки?
Но вот начало торжества, так сказать, официальная часть, когда каждый должен нести всякую околесицу, всякую банальщину надуманных, неискренних пожеланий какого-то там здоровья, какого-то там счастья в личной жизни!.. Но такие тосты – полбеды. Хуже, когда тостующий вообразит в себе литературный талант и философский склад ума. Под такие прения заснуть впору. Так бы и сделал, если б не резали слух лингвистические перлы и экзистенциальные выверты этих тургеневых и спиноз.
Последнее же, что меня окончательно добивает – застольные поэты. Да. Россия – удивительная страна. Есть ли еще такая, где в каждом доме, в каждой семье всегда есть, как минимум, один поэт? В классе пятом, кажется, во всех советских школах дают один или пару уроков, где объясняют, что есть ямб, хорей, дактиль, анапест, амфибрахий… Этого, к сожалению, достаточно, чтобы, через одного, ученики почувствовали себя Пушкиными, Боратынскими, Цветаевыми… У большинства это заболевание проходит по завершении цикла полового созревания. Однако, поэт, раз проявившись, не исчезает бесследно. Он спит в пыльных чуланах человеческого мозга, лишь до поры. И вот, в ночь перед любым торжеством, будь-то день рождения, свадьба, крестины, всякого сорта юбилеи, даже… похороны, он просыпается, отрясает с себя прах времен и…
Любопытен творческий процесс. Действительно. Когда проказница муза (от дурного своего характера, или автор сам, насильно тащит к себе в келью, случайно ухватив за нежную ножку пролетавшую мимо шалунью), вдруг посещает такого рифмоплета, то все, что выходит этой ночью из-под пера его, кажется ему, мудрым, тонким, лиричным, гениальным. И в предрассветной тишине, какую бы ахинею не терпел на себе измаранный за ночь листок, вдруг раздается легендарное «Ай да Пушкин!..». Любой здравомыслящий, прочтя поутру – без жалости скомкал бы, изорвал бы свою глупость, поклявшись никогда не браться за перо. Но не наш поэт. Он возьмет в руки ночное свое творенье и, с комком у горла и, заливаясь слезами умиленья прочтет:
…Пусть в семье будет ладно,
А в душе будет отрадно.
Пусть сопутствует всегда
Любовь, улыбка, доброта.
Желаем мы вам от души
В сердцах взаимной доброты!
Не приносить друг другу бед
И жить совместно до ста лет!
И, не обращая внимания на некоторые шероховатости в размере, метре, ритме, может, чуть-где и рифме…, утрет влажные от восторга очи свои, да и перепишет набело.
Наверное, именно о таких писал Пушкин:
Сюда, назло правописанью,
Стихи без меры, по преданью
В знак дружбы верной внесены,
Уменьшены, продолжены.
На первом листике встречаешь
Qu'ecrirez-vous sur ces tablettes,
И подпись: t. a v. Annеttе;
А на последнем прочитаешь:
"Кто любит более тебя,
Пусть пишет далее меня".
Но что им Пушкин? – Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой… А тут свежо, современно, искрометно, да и в тему.
- Не любишь ты людей, любезный Арсений Павлович, - перебило Арсения Павловича Время, – желчный ты какой-то. Если бы ваш Господь любил только гениев, то человечеству хватило бы какого-нибудь занюханного астероида. Не зря же он дал вам огромную землю и наплодил именно таких, о которых ты только что так нелестно отозвался. Сколько я знаю, он, как раз, гениев-то и недолюбливает. Кого в тюрьме сгноит, кого под дуэль подведет, а кого и самого заставит пулю себе в лоб пустить. А вот тех, кого ты в плебеи отписал, он, как раз, привечает. Интеллект способствует лишь разрушению, тогда как серая масса ему любезна. Ничего не портит, а почву унаваживает. Земля бы процветала, а не задыхалась бы, как теперь, от продуктов так называемой цивилизации вашей, ваших ядерных отходов, всяких химикатов и прочего дерьма, которым вы отравляете то, чем дышите.
- Ты же говорило, что знать не знаешь нашего Бога, - урезонил Арсений Павлович.
- Лукавило. Тем более, если помнишь, я говорило – «знать не хочу», а это не то же самое, что «не знаю». Он, вообще – мое порождение.
- Ну это ты уж загнуло.
- Ничего я не загнуло, - придав своему лицу скучающее выражение, пожало плечами Время, - ну подумай сам. Бог может только мыслиться, его нельзя потрогать, его нельзя доказать. Значит, он пребывает только в человеческом мозгу. Мозг способен мыслить, следовательно, существовать только в протяженном времени, то есть, во мне (что мы, кажется уже обсуждали). Вывод, думаю, сделаешь сам, если ты еще окончательно не пропил эти самые мозги?
- Ну ладно, - не согласился, но не стал спорить, задетый упоминанием о своем пьянстве, дворник, - но зачем же он, по-твоему, тогда, вообще, создавал мыслящее человечество, способное думать, развиваться, самосовершенствоваться? Оставил бы флору с фауной в первозданном виде – и хватит. Сиди и любуйся своим безмозглым творением. Почему не грохнет разом все эти НИИ, КБ, академии, университеты? И чем ему так досадили поэты, музыканты, художники, наконец? Они-то ведь не отравляют ни черта.
- Ну, он не так умен, как вам всем хотелось бы, - усмехнулось Время. - Он вас создал по образу и подобию своему. Помнишь? Следовательно, обладает абсолютно всеми теми же недостатками, что и вы, главный из которых – любопытство. Именно любопытство заставляет вас все изучать, везде совать свой глупый нос. Оно же, в итоге, вас и погубит. Ну и его, конечно, вместе с вами. Мыслить то его будет некому. Что же касается творческой интеллигенции?.. Так ведь она не для плебеев существует. Ходят твои дворники на Бориса Годунова? Восторгаются твои грузчики Рембрандтом? Читают твои прачки Кафку? То-то. Если уж он оставил ученых, то для их развлечения пусть живут и клоуны. А что живут они мало… Так они, в подавляющем большинстве своем, до тридцати все и успевают сделать. Потом у них там всякие кризисы творчества наступают, начинаются депрессии, пьют горькую, скандалят, развратничают. Так что, он им милость оказывает, сбрасывая с жизненной дороги в канаву, как ненужный сор. Да и другим дышится легче. А произведения искусства остаются. Хотя, и их я, потихонечку, уничтожаю, чтобы другим было, что творить. Всегда же на подходе «свежее мясо»?
- По-твоему,мир обречен? – совсем загрустил, Арсений Павлович.
- Это лишь вопрос времени, как вы сами говорите. Заметь – не Бога, а мой.
Время победоносно глядело на раздавленного Арсения Павловича.
- Ну, ладно. Скучно мне объяснять прописные истины. Давай дальше.
Арсений Павлович тяжко вздохнул.
- Может, по стаканчику?
- Давай попозже, Палыч, а то тебя развезет совсем, и я конца так и не услышу.
- Ты же все видело. Значит и финал тебе известен, - сделал последнюю попытку Арсений Павлович.
- Ну и что, что видело? – не умолялось Время. – Я видело факты. А мне твоя трактовка интересна. Эмоциональный окрас событий, так сказать.
Ну, что ж, - вздохнул опять старый дворник и продолжил рассказ.
Французский поцелуй
Я говорил, как не люблю официальную часть торжеств. С таким вот настроеньем, я и собирался в ту субботу, 22 апреля 1978 года, к Лехе на день рожденья, понимая, между прочим, что мне и самому придется речь держать. Ребята обязательно отбрешутся, ссылаясь на мое интеллигентское происхождение, на папину библиотеку, на то, что «подарок» живет у меня уже два дня, да любые отговорки, лишь бы не самому. Я, грешный, тоже, в какой-то момент трусливо подумал: «А не переложить ли мне этот груз на хрупкие Полинкины плечи…». Но отогнал эту мысль поскорее, как недостойную. Щенок мирно спал в своей корзинке. Сейчас три. До приезда Полины еще дав часа. С подарком было проще. Там – коллегиально обсудив, сложив деньги, да поторговавшись, проблему мы решили (и то, неизвестно, какой эффект на юбиляра произведет эта корзинка с сюрпризом). Здесь же – не сложишься по десятке, чтобы выдать хоть десять достойных строк.
Я взял стопку бумаги, что мы всегда таскаем у Аленки с кафедры. Не потому, что жалко рупь двадцать за пачку, а просто потому, что, как я уже говорил, так был устроен всякий советский человек. Все, что лежит и не охраняется – его, по праву. Эдакая вот вывернутая презумпция.
Я сел за стол, взял ручку, задумался: «Что, вообще, принято говорить в таких случаях». В голову полезла вся это чушь, типа: «Друзья, мы собрались сегодня здесь с тем, чтобы…». Тьфу! «Дорогой, Алексей, мы, твои друзья, в этот знаменательный день…». Тьфу! Тьфу!
Тут в дверь постучали.
- Открыто, - раздраженно крикнул я и, уже себе под нос, - несет же кого-то черт. Музу пугает.
Но я ошибался. Это, как раз, муза и была.
- От такого сердитого окрика, хочется не войти, а бежать куда глаза глядят, - услышал я веселый Полинкин голос.
Я вскочил так резко, что стул грохнулся на пол, а щенок испуганно подпрыгнул в своей корзинке, стоявшей под столом в кухне, и смешно затявкал спросонья.
- Ого, - лукаво улыбалась Полинка, - тут и стульями бросаются в гостей? Я пойду, пожалуй, пока цела.
Она была прекрасна. Глаза светились, щеки горели, букет красных роз пылал и, казалось, освещал волшебным светом ее нежное лицо. Мне причудился тут же и нимб над ее головой, и ангельские крылья за ее спиной. Я бросился к ней и мы слились (как пишут в бульварных романах) в долгом упоительном поцелуе. Я совсем забыл и дышать, лишь бы не отрываться от нее, но Полинка вдруг начала мягко отстраняться от меня.
- Что, что такое, Полина? – забеспокоился я. – Мы же не виделись целую вечность!
- Ну, положим, не вечность, а сорок три часа пятнадцать минут. Я, в отличие от очковтирателей с метлой, считать не разучилась, - рассмеялась она, - однако, мне есть еще кого целовать.
Я остолбенел, не поняв шутки, и, видимо, имел такой бледный вид, что Полинка не выдержала и просто разлилась по комнате своим серебристым смехом. Она отстранила меня ладонью и глазами показала вниз. У ее ног, тыкаясь плюшевым носом в ее сапоги и мелко подрагивая хвостиком, стоял щенок, явно требуя своей доли ласки.
- Он, хотя бы по тому больше заслуживает поцелуя, что не врет про вечность и не мнет цветы.
С этими словами она отдала мне, действительно, несколько приплюснутый моим порывом букет, взяла с пола малыша и подняла его над собой. Тот, смешно растопырив лапы и, продолжая вилять хвостом, тянул мордочку к Полине, безуспешно пытаясь достать ее лица своим лиловым языком. Полина, наконец, прижала его к себе и поцеловала в нос, а тот начал неистово облизывать ее, непременно норовя залезть языком ей в рот.
- Вот подлец, - шутливо возмутился я, - еще молоко на губах не обсохло, а уж по-французски знает.
- Не завидуй. Собаки, в отличие от дворников, развиваются быстрее, - опять рассмеялась Полина, хотя моя шутка и выглядела пошловато.
Я быстро прошел в комнату, бросил цветы на кровать, и так же быстро вернулся.
- Ну хватит уже целоваться, наглец. Отправлю сегодня тебя к Лехе, там тебя Анна Ивановна уж так поцелует шваброй, если будешь так же гадить, как у меня.
- Что, доставил хлопот? – Полинка опустила, наконец, щенка на пол и развернулась ко мне спиной, чтобы я принял ее пальто.
- Да было, что греха таить. На улице не хочет, а как домой придет, так такую ку…
Дальше я говорить не мог. Пальто выпало у меня из рук.
- Ты будешь теперь моим пальто за ним подтирать? – зарделась от произведенного ею эффекта, Полина. – Закройте рот, молодой человек, поднимите пальто, повесьте его и не смотрите на меня. На это нужно смотреть, когда я буду в туфлях а не в сапогах.
Я спешно поднял, но оторваться взглядом от нее не мог, безрезультатно пытаясь попасть петлей пальто на крючок вешалки. С пятого раза мне это удалось.
- Если я скажу, что ты – богиня – я буду выглядеть косноязычным недоучкой, но ведь других-то слов не приходит, - промямлил я, наконец.
- А ты поцелуй меня, - шагнула Полина ко мне, - может, чего и придет на ум.
Она явно упивалась тем, что сотворила со мной. Потом взяла мою голову своими горячими ладонями и поцеловала меня таким поцелуем, в котором я только что обвинил бедного щенка. Я почувствовал, что сейчас потеряю сознание. Я, и вправду, начал падать, но вовремя схватился за косяк.
Полинка совершенно покатилась со смеху. Она взяла меня за локоть, подвела к кровати и усадила на нее.
- Понравилось? – продолжала она смеяться. – Девчонка одна, старшекурсница, научила. Я сама попросила. Представляешь? Я целовалась с женщиной!
Она присела на корточки и заглянула мне в глаза.
- Не будешь винить меня за это? – голос звучал серьезно, хотя, глаза продолжали смеяться. – Я это сделала ради тебя, любимый. Мне так хотелось сделать тебе что-нибудь приятное и… мне самой понравилось. Ой… нет-нет, - испугалась она, - не с ней, с тобой, Сенечка.
Я по-прежнему не мог прийти в себя. Передо мной, на коленях, во всяком случае, так это выглядело с моего ракурса, стояла волшебной красоты женщина. Того вечернего платья, что повергло меня в такой трепет, теперь было совсем почти не видно. Я видел только сияющее лицо, влажные серые глаза, с бесконечной любовью смотрящие на меня, тонкую нежную шею, обнаженные, теплого медового воска, плечи и лишь тонкую полоску искристо-серой, полупрозрачной ткани ее платья, прикрывающую маленькую, почти детскую грудь. Все остальное растворялось в какой-то серебристой дымке.
Женщина.
Мы встречаем на своем пути много женщин. В жизни они очень разные. Даже слишком очень. Но мало кому выпадает быть по-настоящему любимым ими. Сыграть они умеют любое чувство, от тихой покорности и благоговения, до безумной, всепоглощающей страсти. На то они и женщины. Есть актрисы похуже, есть получше, есть талантливые и совершенно гениальные. Иной раз, даже самой актрисе, в момент истины, может показаться, что то, что она играет – любовь и есть. Правда, если это, все ж таки, не любовь, то долго держать роль она не может. Иных хватает на месяц-другой, иные держатся до свадьбы, кто покрепче – годочек протянет дольше загса... Но вот нам, в силу, скорее, исторически-полигамной физиологии нашей, нежели, чувства, разума или эстетики, а, чаще всего, просто из ущербного нашего себялюбия, почти всегда кажется, что это любовь. Однако, если мужчине в жизни не встретилось того, что видел тогда я, то ему не с чем и сравнивать и он так и умрет не узнав, что такое истинная женская любовь. Не верю я и ученым, пытающимся объяснить любовь простым воздействием феромонов. То, что я видел тогда – была любовь. Нет – это был сам Господь Бог. Даже Овчинниковская набережная, где Полина впервые сказала, что любит меня, не шла ни в какое сравнение с этой обшарпанной дворницкой, где она спрашивала, всего лишь, не сержусь ли я за то, что она училась искусству поцелуя у женщины.
Женщина.
Не знаю, сколько длилось мое созерцание, но прервал его щенок. Нет, вовсе не тявканьем… А…, запахом. Это сразу вывело меня из оцепенения.
- Черт. Я сейчас уберу, - вскочил, было, я, но тут же плюхнулся обратно.
Я был в спортивных штанах и, о Боже, я ведь видел, только что, только любовь, а тут… Краска хлынула мне в лицо целым обжигающим ушатом. Надеюсь, Полина подумала, что я покраснел от недавнего шока, а может, не подала вида, что заметила, но только она сказала просто: «Я сама уберу. В конце концов, ведь я же выбрала этого засранца».
Я сидел и наблюдал, как тоненькая серебристая красавица в вечернем платье для ресторана, надев на свои тонкие нежные руки дворницкие рукавицы, вооружившись, сначала совком и веником, а, затем, ведром и тряпкой, убирала за этим чертовым щенком и, как странно, ко мне опять вернулись те же ощущения, что и пять минут назад, когда я смотрел на икону.
Да. Это был сам Господь Бог.
Клятва
- Ну так ты не будешь меня винить за то, что я целовалась с женщиной?
Полина стояла передо мной, держа на руках малыша, и улыбалась. Сейчас она уж точно походила на рафаэлевскую Сикстинскую Мадонну. Щенок же выглядел (а, скорее, и был) столь же безвинным, как и предвечный младенец.
- Ну уж если я простил тебя за целование с собакой, - попытался отшутиться я. - Но… Поклянись, Полина, что на сегодня сюрпризов больше не будет, в противном случае, ты вынуждена будешь носить мне передачки в «склиф» (так назывался, да и теперь называется в народе институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского), простому смертному такого не вынести.
Полинка рассмеялась.
- Ну какой же ты простой смертный? Ты лучший на земле смертный. Ты сияющий бог, спустившийся с небес… Ну ладно, ладно, обещаю. А чем ты таким серьезным был занят, что встретил меня столь гневным окриком: «Открыто!»? – сменила она тему. - Наверняка, чем-то интимным? Аж стул уронил.
- Да…, - замялся я. – Видишь ли… Надо же еще Лехе что-то сказать. В пивной, перед подвыпившей студенческой аудиторией, я ему семь верст киселя нагорожу, да и нагораживал не раз. А тут. Все молчат, смотрят на тебя… Вот ты встаешь, а в голову лезет какая-то казенщина.
- И из-за этого ты чуть меня не прогнал? - рассмеялась Полинка.
- Тебе смешно. Не тебе нести эту чушь. А я со стыда сгорю за минуту. На твоих, кстати, глазах.
- Милый, - присела Полина рядом и обняла меня. – Я помогу тебе. Знаешь, в чем проблема всех, что пытаются что-то сказать юбиляру?
- И в чем же? – затеплилась во мне надежда.
- Им очень хочется выглядеть. Самим выглядеть. Понимаешь? Будто это их праздник. Будто они – центр вселенной. Они забывают, зачем они здесь и что нужно на самом деле говорить.
- А что нужно на самом деле говорить?
- Люди на торжестве, как правило, стараются польстить. И изощряются именно в этом недостойном упражнении. А лесть – это всегда ложь. И это понимают все присутствующие. И юбиляр понимает, что все понимают, что то, что говорится в его адрес - неправда. Внешне он выглядит довольным. Может, слегка и испытывает удовольствие. Но завтра все рассеется, как дым и он поймет, что настоящих, искренних друзей у него и нету. Если хочешь – это тяжелое интеллектуальное похмелье. Желать восьмидесятилетнему старику долгих лет жизни – значит давить на самое больное его место. Но пожелай счастья и процветания его детям и внукам и ты попадешь в десятку. Потому, что он знает, что не долго ему осталось. И единственный способ для него оставить на земле свой след – его потомство.
Говорить нужно только правду. Только то, в чем нуждается, к чему стремится тот, к кому ты обращаешься. А может, ты подскажешь даже то о чем он сам не догадывался. Слово - тот же подарок. Иногда и лучший, чем самая дорогая безделушка, которой суждено, потом, до скончания века, пылится на чердаке, в лучшем случае. А то и на помойке. А слово. Оно может упасть прямо в сердце и остаться там навеки.
Вот, когда ты придумал щенка, ты же не о себе думал, не о том, чтобы быть оригинальным. Ты думал не о том, как ты будешь выглядеть с тем или иным подарком. Ты думал об Алексее, о том, как он стремится быть взрослым и ответственным, и идея со щенком пришла сама. Ведь растя этого щенка, он и вправду станет взрослым. Великолепная идея. Я гордилась тобой. Вот и теперь. Не думай о том, как ты будешь выглядеть перед гостями. Думай только об имениннике – слова сами придут. И, что, уж точно, не представит для тебя труда, коль скоро ты автор идеи этого подарка, свяжи это со щенком и подари его своему другу. Уверена, его бы обескуражил такой подарок, всунь ты ему его с банальными дежурными фразами. Будь искренним. Это единственный путь к человеческому сердцу. Других нет, напиши для тебя речь, хоть Гоголь, хоть Толстой, хоть Бунин. И не готовь слова. Сами польются. Поверь мне. Все у тебя получится. Ты же умница.
Глаза ее горели. С сердца у меня, словно, камень упал…
И…, неожиданно, откуда-то сверху, навалился другой, в сто, в тысячу раз больший. Меня словно раздавило. Казалось, я услышал хруст собственных костей. Господи! Почему мне стало так невыносимо больно. Почему мне так страшно? Почему? Что не дает поверить, что эта богиня, сколь прекрасная, столь и умная, полюбила именно меня?
Мне страшно! страшно! страшно! Господи! Мне семнадцать, а я нагрешил уже на полвека вперед. «Недостоин» - вот что начертано на этом камне. Грязными похотливыми лапами я пытаюсь завладеть телом и сердцем ангела. Ангела, который так любит меня, верит мне, оберегает меня.
Я оглянулся на свою кровать и мне вдруг почудилось, что покрывало вздыбилось и из-под него выползли два жирных слизняка с раздвоенными языками. Слизь поблескивала на их зеленых мерзких тушах и могильный смрад окутал всю комнату. Я зажмурился, а когда открыл глаза снова, то уже на месте слизняков увидел два, лоснящихся похотливым потом, голых тела Тамары и рыжей Риты, и они зовут меня, машут мне своими бескостными, жидкими руками-щупальцами, касаясь моего лица, почему-то тоже голого моего тела, тянутся к гениталиям, визжа отвратительными голосами: «Иди к нам, Арсений, иди, милый. Что тебе может дать эта сушеная вобла? Фифа дворянская. Она тебе не пара. Да и что она умеет в постели. А мы тебя уж так приласкаем. Сразу ее забудешь…». Потом вдруг появился Юрка в тюремной робе: «Говорил я тебе, Арсений, не стоит это того. Брось эту работу. Посмотри теперь, что ты сделал с Полиной». Я обернулся. О, ужас! Полина, обнаженная, бледная. Из ее влагалища толчками хлещет черная кровь. Глаза ее страшно закатываются и из последних сил она выкрикивает: «Ничтожество!!!».
- Господи! Господи! Да что с тобой, милый! Очнись! Прошу тебя, очнись же! – услышал я, как в тумане душераздирающие крики Полины.
Я лежал на полу. Полина, совершенно растрепанная и бледная, с глазами, полными слез и отчаянья, вся перепачканная тушью и помадой, с силой растирала мне щеки и грудь. Я очнулся. Видение исчезло. Щенок, будто стараясь помочь Полине, усердно слизывал с моего лба холодный пот.
- О, Господи, спасибо тебе, - воздела Полина глаза к закопченному потолку, увидев, что я открыл глаза. – Как ты! Милый! Сенечка! Родной! Любимый!
- Полина, - слабым голосом простонал я и приподнялся на локтях - что это было?
Полина прижалась ко мне всем своим хрупким трепетным телом и, не выдержав, видимо, такого нечеловеческого напряжения, зарыдала, уже неудержимо. Окончательно очнувшись, я поспешно сел на полу, крепко обхватил ее, пытаясь сдержать поток слез. Но тело ее, будто обрело нечеловеческую силу. Его сотрясало так, что мы оба бились, будто в конвульсиях. Не выпуская ее из своих объятий, я поднялся на ноги и положил на кровать. Лег рядом и снова крепко обнял. Теперь Полина уже не рыдала, а только дрожала. Ее бил озноб.
Вскоре Полина затихла. Она спала. «Господи, - думал я, прижимая ее к себе, - что же я натворил, если убиваю святое, невинное создание, только своим воспоминанием о содеянном? Она ведь ничего такого обо мне и помыслить не смогла бы». Я боялся пошевелиться. Видимо, испуг ее был так велик, что силы ее совершенно иссякли и она просто заснула. Забылась, правильнее было бы сказать.
Прошло, может быть, около часа. Руки мои совершенно затекли. Я уже переставал их чувствовать. Попробовал лишь немного поменять положение своего тела, как Полина тут же проснулась и сонно произнесла: «Я видела сон. Мы с тобой поженились… Ты был такой красивый… А потом мы летали в облаках… А крыльев у нас не было… А мы все равно…». Тут она вздрогнула, вспомнив, наверное, о моем обмороке, мгновенно обхватила меня руками и с силой прижавшись, горячо зашептала: «Поклянись мне, Сенечка. Поклянись страданиями Христа. Поклянись отцом своим и матерью своей. Душой своей бессмертной поклянись. Поклянись моею грешной душой, что никогда в жизни больше не будешь так меня пугать. Это я, дура! дура! дура! Хотела произвести на тебя впечатление. Я ведь должна была знать. Я ведь сама видела, как ты плакал перед «Паном». Я ведь должна была предвидеть. Ты такой ранимый. Ты любимый мой. Ты – моя жизнь. Ты все, что у меня есть. Без тебя мне не нужна моя жизнь…
Она все говорила и говорила. Казалось – это был бред. Или сам Бог разговаривал со мной через ее уста. Да. Это был Бог.
- Я не знаю, Полинка, милая, что это со мной произошло. Но клянусь тебе страданиями Христа. Клянусь отцом своим и матерью своей. Клянусь душой своей бессмертной, что никогда никому не дам тебя в обиду, не испугаю тебя сам и никому на свете не позволю этого сделать.
- Ага-а, хитрец, - вдруг с облегчением услышал я знакомые лукавые нотки, - ты забыл поклясться мой грешной душой.
- И вовсе не забыл, - обрадовался я, что слышу прежнюю Полину, - просто, никакая она у тебя не грешная.
- Да? Я с женщиной целовалась. Забыл? А в школьном буфете я, однажды, расплатилась за две булочки, как за одну. Правда, я потом вернула. А еще я с папой ругаюсь из-за одежды. Знаешь, чего мне стоило вот так вот одеться…
Тут Полинка резко высвободилась из моих рук и села на кровати.
- О боже! Мое платье! - всполошилась она. - А лицо! Где у тебя зеркало? А утюг? У тебя есть утюг? А времени сколько?
Она вскочила с кровати и забегала по комнате, будто был пожар.
Полина выгнала нас с малышом на улицу и велела гулять полчаса. Когда мы вернулись, передо мной стояла прежняя богиня. Правда, от недавних слез глаза ее блестели несколько сильнее, чем обычно и чуть заметная морщинка страдания пролегла по гладкому ее лбу. Но от этого она еще больше стала походить на святую.
- Ничего не заметно, Сенечка? - озабоченно, безо всякого кокетства спросила она.
- Заметно.
- Что заметно? – испугалась Полинка.
- Заметно, что ты самая красивая женщина на земле, и мне, к сожалению, не удастся скрыть это от людей.
Она подошла и обняла меня. Но поцеловать, видимо, побоялась.
- Не волнуйся, дурачок. У меня в пакете есть шелковый платок на плечи. Прости, чадру не взяла, - рассмеялась она, но вдруг забеспокоилась. – А твой костюм? Уже пять. Нам ведь давно пора.
- Да что ему сделается? Он у меня с последнего экзамена глаженный висит. Я мигом. А ты отвернись.
- Не беспокойся. У меня есть чем заняться. Малыш, - позвала она, - пора собираться.
Я буду стирать твои носки
Мы вышли на Щелковской без десяти шесть. Успеваем.
- Один вопрос мы не продумали. Что будет делать щенок в ресторане целых четыре часа. Он же там изведется, да и делов наделает. Гардеробщику, разве что, денег дать? Так он деньги возьмет, а следить не станет, - громко рассуждал я, пытаясь перекричать шум Щелковского шоссе и гомон Щелковского же автовокзала. Многолюдье, и так-то всегда присущее этому месту, было немало преумножено всеобщими празднествами, посвященными сто восьмой годовщине со дна рождения великого вождя.
- Не мы, а Вы, юноша, - улыбнулась Полина. – Пока Вы прогуливали лекции, мы с ребятами все обсудили. У Феди есть младший брат. Он подъедет к «Саянам» к семи и заберет пса к себе домой. Они же в одном подъезде с Лешей живут. А когда Алексей будет возвращаться, то заберет малыша.
- Во-первых, я прогуливал, ради общего же блага. Я же с щенком сидел, - возмутился я. И не потому, что был несправедливо обвинен. Мне было досадно, что я сам не догадался позаботиться об этом.
- Ну, не сердись, я же шучу, - Полина остановилась, развернула меня к себе, поцеловала в щеку. Потом нежно вытерла большим пальцем левой руки помаду с моей щеки. - Ты ведь злишься не на меня, а на то, что сам об этом не подумал. Правда, родной?
- Ты так умна и проницательна, - вмиг растаял я, - что я иногда тебя боюсь.
- А вот и врешь. Страх и любовь – понятия несовместимые, улыбнулась она, - а ты меня любишь, значит не боишься. А если боишься… Значит врешь, что любишь. Выходит, как не поверни – ты со всех сторон лгунишка.
Полина рассмеялась и взяла меня за руку, в которой я держал корзинку со щенком. От Маяковки мы ехали с открытой корзинкой, к всеобщему умилению пассажиров. А перед Первомайской, накрыли ее марлей, что привезла с собой предусмотрительная Полинка (об этом я тоже не подумал заранее) и обвязали синей атласной лентой, которую родители используют при пеленании детей.
- Малыш, - грустно взглянула Полина на корзинку. – Заперли беднягу. А ты знаешь, Сенечка, я успела к нему привязаться. Я буду скучать.
- Во всем есть что-то хорошее, мой друг, - попытался я ее успокоить. – У него теперь шесть крестных отцов и матерей. Будет повод чаще встречаться. Новогиреево – не Саратов. Будем ездить по воскресеньям к нему в гости. Выгуливать. Играть с ним в лесу. Представляешь, в этой части Москвы есть почти настоящий лес.
- Ты по воскресеньям домой ездишь, - вздохнула Полина.
- Основная цель поездок – помыться, поменять белье. Буду чаще умываться, а ездить раз в две недели. В конце концов, в Москве около пятидесяти бань. А стирать можно и в тазике, грея воду на плите у себя в Оружейном. Живут же там все остальные так. Без родителей. Стирают сами.
Полина резко остановилась и, серьезно посмотрев мне в глаза, твердо сказала.
- Я буду стирать твое белье.
- Да ты что, Полина, я что, без рук что ли?
- Я буду стирать твое белье, - безапелляционно повторила она. Потом повернулась и мы пошли дальше, будто вопрос был уже решен. – Ты знаешь, Маяковский, как-то сказал «Настоящей женой может называть себя та, что способна без отвращения постирать мужу носки». Так вот. Я могу без отвращения постирать твои носки.
Особой воли во мне, конечно, не было, однако, и подкаблучником я себя назвать не стал бы. Но, когда Полина говорила таким тоном, я совершенно не находил, что ответить. Ни один, хоть сколько-нибудь весомый аргумент не приходил мне на мой влюбленный ум, когда она была убеждена в своей правоте. Нет. Они, аргументы для возражений, конечно, были. Но, в нужный момент, разбегались от меня, как тараканы от света. Я же мог предложить ей сейчас, к примеру, представить, как она приезжает к себе домой с сумкой грязного чужого белья, стирает его, а, затем, вывешивает мои носки и рубашки на своем балконе, рядом с папиными кальсонами и мамиными ночными рубашками. Но не сказал же…
И, вообще, я давно поймал себя на том, что уже не помню, с какого момента мысль, что мы, однозначно, поженимся, стала для нас совершенно естественной. Точно знаю, что, специально, мы ее ни разу не обсуждали. Одно не вызывало у меня никаких сомнений. Это была ее идея… Или просто мысль… Или, просто, она даже сама с собой ее не обсуждала, а знала наверняка. Это была данность. Непреложная истина. По-моему, все ребята уже давно воспринимали нас супружеской парой. Это было видно хотя бы из того, что никто, ни разу не подошел и не спросил, спал ли я с ней. Тогда, как в любом другом случае, с любой другой девчонкой, такой вопрос воспоследовал бы уже на следующий день после первого свидания. Думаю, они, как и я, цепенели перед ее красотой и умом. Возможно, это понимание пришло к нам обоим там же на Овчинниковской набережной, при первом поцелуе.
Удивляло меня в себе и то, что мне только что исполнилось семнадцать, а я совершенно не был напуган. Что столь естественные для мужчины любого возраста, вопросы типа: «А не дурак ли я?», «А нагулялся ли я?», «А вдруг встречу кого-нибудь получше?», «А вдруг выяснится, что она стерва. Запрет в четырех стенах. Ни пивных, ни футбола. Затаскает по театрам?», «А вдруг меня теща со свету сживет?» и прочее, и прочее и прочее, почему-то не посещали меня. Такой страх мужчины перед браком не должен бы быть присущ ему от природы. Он появился, исключительно, вместе с утверждением на земле христианства с его моногамным принципом института семьи. Это притом, что автор идеи христианства был иудеем, а те исповедовали полигамию, где мужчина вряд ли страдал от несвободы. Всегда меня занимало - если в семье, к примеру, четыре жены, то как они могли избежать свального греха или, к примеру, лесбийского? А дрязги межженской ревности? Как они с ними справлялись? М-да. Это были люди с совсем иным менталитетом. Как же христианство за двадцать веков вывернуло человечеству мозги. Лучше бы оставили все, как было.
- О чем ты задумался, - вывела меня из моих размышлений Полина.
- О носках, - соврал я.
- И что, мысль о носках вызывает на лице такую шаловливую улыбку, - заглянула она мне в глаза, - а ну, признавайся, о чем сейчас думал?
Меня спасли Федя с Семеном.
- Как подарок? – окликнул нас Федот. Они догнали нас уже на подходе к «Саянам».
- Не поцарапал, надеюсь, - сострил Семен.
- Я посмотрю, как вы будете ерничать, когда завтра, вместо законного опохмеления, будете драить мою дворницкую за этим «подарком».
Мы пожали друг другу руки.
- Привет, ребята. Вы его не слушайте. Я уже все вымыла, - вступилась за остряков Полина, - но если вы рассчитываете завалиться завтра на Покровку, то вынуждена вас разочаровать. С завтрашнего дня все вы станете взрослыми и серьезными. Вы и не догадывались, когда покупали щенка, что, с того момента, он станет и вашей ответственностью. Знаете, зачем в христианстве придуманы крестные родители? Ребенку очень трудно выжить в этом жестоком мире. И одним родителям не справиться. Вот Господь и дает им в помощь крестных. Так что, завтра все идут проведать своего крестника.
(Эх. Знала бы Полина, как она была в тот момент права. Назавтра все мы собрались, но… по совершенно иному поводу).
Мы пришли. Шесть часов. Хвост очереди еще не вырос до стандартной для субботы длины, но распластался уже в полкорпуса ресторана. «На час – не меньше», - машинально подумал я. Хотя, сегодня нас это не должно было занимать. У нас заказ. У нижних ступеней лестницы стояли Юрка с Аленкой и Хук с какой-то девицей. Мужчины перездоровались рукопожатиями.
- Друзья, позвольте представить вам мою подругу, - Хук взял под руку свою девушку и чуть подтолкнул ее вперед. – Это Ольга.
Фотомодель. На каблуках, даже чуть выше Хука, с великолепными стройными ногами, прямыми платиновыми волосами, ниспадавшими на смелое декольте под расстегнутым кожаным плащом, огромные, накрашенные несколько больше, чем нужно, карие глаза, чуть вздернутый аккуратный носик, пухлые губки. В общем, сексапил номер пять. Хук, вообще, когда понял, что не видать ему Полинки, как своих ушей, начал менять подруг, как перчатки, пытаясь найти самую красивую. Бедняга. В гардеробе, когда Полина скинет свое пальто, ты поймешь, как бессмысленны все твои потуги.
Девушки пожали друг другу руки, а ребята представились по очереди, держа свои за спиной, сопровождая свое имя лишь кивком головы. Только Семен, было вытащил свою руку из-за спины, но тут же вернул ее на место, то ли видя, что Ольга никак не реагирует, то ли, просто, не решив, что он должен был бы сделать с ее рукой, подай та ее, пожать или поцеловать. Неудобная пауза, всегда сопутствующая появлению в старой компании нового человека, была прервана недовольным окриком с верхних ступенек ресторана.
- И долго вас ждать? Пиво стынет.
Леха, в серой с отливом, явно купленной специально к торжеству, тройке, бордовом галстуке с золотой заколкой и в модельной короткой набриолиненной прическе (чем нас совершенно поразил, ибо все мы привыкли видеть его с космами до плеч) стоял на площадке перед входом в ресторан засунув руки в карманы.
- Да мы стоим, думаем, туда ли попали, - выразил всеобщее удивление Федя. – Мы шли на именины, а тут, я погляжу, свадьба, жених.
Все рассмеялись и стали подниматься наверх.
Немая сцена
В гардеробе ресторана произошло волшебство. Теперь пришло время и Лехиным глазам полезть на лоб. Конечно. Мы и раньше видели друг друга одетыми в костюмы да галстуки. Но то было на экзаменах, где над чистыми воротничками белых сорочек торчали унылые, расстроенные, испуганные, серо-зеленые предэкзаменационные физиономии. Но сейчас перед Лехой стояли, хоть и молодые, но совершенно зрелые люди в строгих костюмах и совершенно счастливых улыбках. Несколько выбивался из общей картины Федот, чья огромная барашковая шевелюра, несколько диссонировала с его фрачным облачением. Да Хук был в кожаном пиджаке, в брюках, правда, но галстука на нем не было. Впрочем, со своей подружкой, оказавшейся одетой в кожаную же, короткую, дальше некуда, юбку и в кожаный жакет, поверх белой блузки, обтягивающей тугой бюст без бюстгальтера, они составляли вполне законченный и уместный ансамбль. Тем более, пятикурсник Хук, был редким гостем в нашей компании, так что, общей картины не портил
Больше всех, надо признать, костюм шел Юрке.
Мне вообще не понятны некоторые слова. Что они означают? Точнее, как, из чего складывается понятие, ну, к примеру, «обаяние». Нельзя сказать наверняка, что обаяние однозначно присуще красивому человеку, или умному, или искреннему. Не обязательно у такого человека должен быть приятный грудной голос или приветливая улыбка. А только взглянешь на иного, да и скажешь: «Какой обаятельный человек».
То же самое относится к слову «сексуальный». Черт его знает, из каких черточек и нюансов, из каких наклонов головы, движения руки, походки… Да только взглянешь на иную, невзрачную, в общем-то, женщину, да и воскликнешь: «Как она сексуальна!».
Слово «умный» - далеко не всегда приложимо к начитанному и образованному, Слово «сильный» - не обязательно означает физическую силу. Так же и со словом «идет». Бог его знает, что здесь. Дорого, модно, стильно, со вкусом… Да только, «идет», и все тут.
- Господи, - театрально прижал руки к груди, Леха. – Скажите. А это, случайно, не те, что недавно разнесли пивную на Покровах?
- А это, случайно, не тот, - парировал Юрка, - что сначала начистил морду одному жирному представителю правоохранительных органов, а, затем, подправил огрехи неизвестного художника на одном известном портрете?
Все дружно рассмеялись.
- Ну хватит возвышенных светских разговоров, у нас, все-таки, именинник здесь.
С этими словами Полинка подошла к Лехе и, присев в легком реверансе сказала какие-то слова поздравления, и вручила ему букет роз. Она захлопала в ладоши и развернулась к остальной компании, приглашая остальных присоединиться к аплодисментам.
Ответа не воспоследовало. Все, включая Леху, просто пораскрывали онемевшие свои рты. В этот момент Хук, как раз, пересказывал на ухо неосведомленной о происшествии Ольге пивной инцидент. Оборвав свое повествование на полуслове, он, как и все, оставил свой рот в отверстом состоянии.
Полина была права - ЭТО надо смотреть, когда она будет в туфлях. И уж, конечно, не в дворницкой. Стены «Саян» еще не видели такой красоты. Посреди вестибюля стояла фея. Ее серебристое платье, начинавшееся лишь от груди и спускавшееся чуть ниже колен обнимало ее стройную тонкую фигуру не тканью, а каким-то фантастическим светом. Казалось даже, что Полина вовсе не стоит на полу, а парит в воздухе, настолько легкой, невесомой чудилась она.
Я оглянулся.
Застыл швейцар у дверей, застыл проходивший мимо официант, два подвыпивших посетителя, вывалившиеся в тот момент из первого зала, тоже застыли. Полина совершенно растерялась. Она не знала куда деть глаза. Краска залила ее лицо, а маленькие ушки ее сделались совершенно пунцовыми. Полину надо было спасать. Я начал лихорадочно рыться в пакете, ища ее платок…
- Корзину свою будете забирать? – раздался за нашими спинами скрипучий голос старика – гардеробщика (ему из-за колонны не было видно Полинку – не то, тоже бы проглотил язык) и тем спас положение.
Столь нелепо прозвучавшая в этой немой сцене фраза, всё, как-то привела в движение. Швейцар наконец, обернулся к двери – своей прямой обязанности и кормушке. Вернув в равновесие чуть было не выпавший из руки поднос, проследовал по своим делам официант. Удалились по назначению шедшие в туалет посетители первого зала. Ольга с усмешкой, пальчиком, захлопнула отвисшую нижнюю челюсть Хука. Я кинулся за корзинкой, зашевелились и ребята. Только Аленка продолжала стоять и смотреть на Полину в упор. Если бы кто дал себе труд взглянуть на нее в тот момент, то увидел бы такую зависть и… ненависть, что понял бы – Полина в опасности.
- Полина, выходи за меня замуж, - широко улыбаясь произнес Леха лукаво глядя на меня в ожидании должного эффекта с моей стороны. Что тебе дался этот юнец? Ты только посмотри на него - ни кожи, ни рожи. А я всю жизнь тебя на руках носить буду.
- Ничего, он справится. Я легкая, - благодарно глядя на Леху ответила Полинка.
Раздался дружный смех и все направились в зал. Столь неожиданно-нелегкая для Полинки ситуация была разрешена.
- Поняла теперь, что со мной случилось дома, - шепнул я Полине на ухо, когда мы проходили в двери зала. - Еще минута и половине ресторана нужно было бы вызывать реанимацию.
- В жизни больше так не оденусь, - озабоченно ответила Полина, кутаясь в газовую прозрачную шаль, которая, надо сказать, делала ее плечи еще сексуальнее. – Папа был прав, когда запрещал. Я чуть со стыда не сгорела. Я чувствовала себя голой.
- Зато, меня чуть на небо не унесло от гордости.
- Нет уж. Сиди-ка ты на земле. И я с тобой рядышком посижу. В свитере и джинсах. Хорошо, родной? – взяла она меня под руку и мы вошли в зал.
Гордость. Странное это чувство. Понятно, если ты гордишься, ну, скажем, собственными достижениями. Бог ли тебе дал таланты, тяжким ли трудом своим достиг ты тех или иных успехов, случай ли вознес тебя на пьедестал, судьба ли сжалилась над тобой и закинула в последний вагон поезда, под названием «успех»… В любом случае – все это твое. Только вот, почему-то, христианство квалифицирует это чувство обладания собственным – не чужим достоянием, не иначе, как гордынею, смертным грехом.
И, совсем другое – гордость, к примеру, за отчизну. Убежден, что греха здесь куда как больше, чем в личной гордости. Ты еще ничего не сделал, не создал, не придумал, не произвел на благо своей страны. Ты пока только и делал, что пользовался ее богатствами, ее возможностями. Бесплатно учился, бесплатно лечился, бесплатно отдыхал. Бесплатно-условно, конечно. Люди и только люди своим трудом создают и внутреннее богатство и внешний престиж страны (ну и недра земли родной, конечно). Дипломаты пылят в глаза иноземцам, спортсмены завоевывают медали, космонавты летают в космос, шахтеры копают вглубь. Это сегодня. А раньше – отцы-деды побеждали, первопроходцы первооткрывали, правители заключали выгодные союзы. Все это твоя страна. Согласен. Но ты-то здесь причем? Однако, тебе предлагают всем этим гордиться. Грехом не считают и, более того, всячески раздувают в тебе этот круглый и прозрачный, тонкостенный, как мыльный пузырь, патриотизм. Это настораживает. Наверное, чего-то от тебя понадобится в будущем? Видимо, где-то подозревая, догадываясь, что полюбить насильно нельзя, тебе потихоньку намекают, что ты очень задолжал своей стране (хоть ты и не просил).
Еще хуже поступает церковь, когда говорит (понимая, что нельзя насильно полюбить Бога), что ты только родился, рта еще не раскрыл, вдоха первого не сделал, а уж и должен ему по гроб жизни. Ну а раз уж Бога пощупать нельзя – так, значит, должен церкви. А чтобы не увильнул, не свернул куда в сторону – стращают вечными муками.
Пусть, все, вышеперечисленное, в той или иной степени - грех. Пускай.
Но вот гордость за любимого человека… Разве есть здесь хоть что-нибудь греховное? Ну хорошо. Допустим, друзья знают, что она принадлежит (условно, конечно) мне и я могу быть заподозрен в гордости в том смысле, что мол: «Глядите, какая красота! Она моя!». Ну, допустим, я горжусь ею идя с ней под руку по улице, ловя на себе завистливые взгляды совсем не знающих меня прохожих, которые, как я предполагаю, могут подумать: «Раз такая красавица выбрала этого парня – значит, и он чего-то стоит?». Согласен. Здесь еще есть соблазн попользоваться чужими достоинствами.
Но там, в вестибюле ресторана, я стоял и гордился, так сказать, вообще. Я не думал о том, что она моя. В сущности, она стояла рядом с Лехой, и швейцар, и официант, и туалетные посетители, и люди из очереди, в восторге прильнувшие к стеклу входной двери ресторана, все могли подумать, да и думали, что она – Лехина. Я тогда не думал о том, что она моя, я не думал о своей любви к ней и о том, что она любит меня. Однако, меня переполняло чувство, способное вызвать и комок у горла, и слезы на глазах и это не было любовью. Это была ГОРДОСТЬ. И, разрази меня гром, если есть в таком чувстве хоть что-то собственническое, хоть что-то греховное!
Мысли совсем меня унесли прочь из ресторана, иначе бы я видел, как весь зал (на четыре пятых заполненный мужчинами) пожирал мою Полинку глазами. А женская доля зала… Уж и не скажу вам, что испытывает женщина, глядя на такую красоту…, не знаю.
Тут я почувствовал, как Полина настойчиво трясет меня за локоть.
- Ты сегодня спустишься с небес, Арсений? Где тебя носит? – шутливо-строго выговаривала мне она. Смотри какая красотища.
Первый звук на земле
- Я хоть субстанция и бесполая, но от твоего рассказа, мне вдруг захотелось сколько-то побыть мужчиной. Она, что? правда, была так хороша? – перебило рассказ Время.
Арсений Павлович глубоко вздохнул.
- Ни до, ни после, никогда в жизни я не видел такой красоты. Тут ведь дело не только во внешности. Идеальных фигур, идеальных рук, плеч, шей, лиц, глаз… на свете – пруд пруди. В том же Голливуде, создается впечатление, целая фабрика их просто конвейером производит. А вот красивая душа… Она, конечно, не так часто встречается, как красивая внешность – не наштампуешь, но не такая уж и редкость. Особенно в России. Особенно у русских женщин. Неизбывная ли нищета, вечный ли тяжкий труд, тотальная ли мужская ущербность делает их такими, да только – не редкость. Но вот чтобы одна красота сошлась с другой в одном человеке… Тем более, что красивую женщину, красивую душу ее, как раз эта телесная красота и губит. Губит неизлечимо, безвозвратно. И когда красота земная проходит (тут уж ты, Время, стараешься вовсю), то остается одна желчь, да тоска по невозвратно утраченной внешности. Это – в девяносто девяти из ста. Злятся они, конечно, на неумолимое время, на тебя то есть, но пнуть тебя нет возможности, вот и достается детям, мужьям, знакомым. Да всем, кто ни попадись под руку. Смотришь, спустя годы, на такую, и думаешь: «Я же знавал ее в юности. Где же эта непосредственность бескорыстных чувств ее? Где этот нежный ребенок, что перевязывал пораненную лапу бездомной собаке? Где та, что ухаживала за бездвижной бабушкой своей, когда все девчонки на разные голоса тащили ее на танцы? Где…). А…, - махнул в сердцах рукой Арсений Павлович.
- Ну ты уж все-то грехи на меня не вешай, - возразило Время. – Не я одно твоим женщинам морщин добавляю. А уж души-то я и вовсе не касаюсь. Сколько я знаю, как раз, именно ваш брат, мужик, премного в этом преуспел.
- Это ты в точку, - опять вздохнул Арсений Павлович.
- То-то. Мое дело – катись, не мешай. А уж как вы мной распоряжаетесь…
- Ну, в общем, Полина соединяла обе эти красоты. Причем сумела их сохранить до совершеннолетия девственно нетронутыми, будто в криогенной камере ее держали до поры. Добавь сюда образованность, воспитание, остроумие, легкий веселый характер. И всего этого настолько много, что не могло вместить ее хрупкое нежное тело и, оттого, она вся будто светилась изнутри. Ах…, - в третий раз вздохнул Арсений Павлович.
В общем, наш заказной столик находился в дальнем правом углу от входа. Накрыт он был на девять человек, сколько, собственно, нас и было, считая и Леху. Матушка Лехина не поскупилась. На столе яблоку не где было упасть. Тут тебе и заливная щука в желе таком прозрачном, что его и видно не было, так, что нарезанные звездочками морковки словно висели в воздухе, и, розовая, будто покрытая капельками росы с тонкими прожилками розового же сала, буженина. Нежная телятина пестрила веснушками нашпигованной моркови и чеснока. Маринованные помидорчики с грецкий орех, огурчики с мизинец ребенка, салат крабовый, салат из лосося, под майонезом, яйцом и сыром, селедка «Под шубой» и вечный «Оливье», который во всех московских ресторанах патриотично назывался «Московский». Это и понятно, ибо истинный «оливье» должен состоять не только из картошки яйца и майонеза, но содержать в себе и раков, и крабов, и анчоусы, мясо куропаток и фазанов, а не только докторскую колбасу или недоваренную говядину. Двумя хрустальными пирамидками над столом возвышались, составленные вместе, две бутылки шампанского, два графина водки, и по две бутылки сухого белого и красного вина, труднопроизносимые названия которых, были выписаны на лаковых этикетках грузинской вязью. Две хрустальные пепельницы, две вазы с бумажными салфетками. На каждой индивидуальной тарелке высилась накрахмаленная белая салфетка, свернутая кульком. Рюмки, фужеры, ножи, вилки.
Мы стали рассаживаться. Леха во главе стола. По левую его руку сели Хук, Ольга, Юрка и Аленка, по правую - Федот, Семен, Полинка и, наконец я. Корзинку я поставил под стол. Так как нас было девять, то, как раз, не было и десятого стула с торца стола. Пес вел себя настолько тихо, что я, заволновавшись, положил руку на марлю и успокоился, почувствовав, тепло его тела вздымающегося от его дыхания. Малыш мирно спал.
Леха рукой подозвал официанта, и когда тот наклонился, что-то нашептал ему в ухо. Он, утвердительно кивнув, удалился, а через минуту вернулся с тонкой высокой вазой без воды, чуть поколдовав с тарелками, плотно теснящимися на столе, угнездил таки ее в центре, принял от Лехи цветы и поставил их в нее.
- Ну вот, друзья, - хлопнул Леха в ладоши и потер ими, будто что-то разминая, - вы, мои дорогие, готовы к приему животной, растительной и горячительной пищи, ну а я – амброзии и нектара. Для начала, давайте все-таки разольем. Федот, Юра, открывайте шампанское. Вопреки правилам и, дабы избежать вечных стартовых неловкостей, позвольте высказаться мне.
Щенок заворочался в своей корзинке и два раза пискнул. Мы с Полинкой переглянулись. Толи он выразил одобрение словам будущего хозяина, толи хотел испортить нам весь сюрприз. Я нагнулся и положил руку на малыша. Он спокойно спал. Видимо, просто переменил положение или приснилось что.
- Итак, - поднялся Леха, когда шампанское было разлито по бокалам. – Все вы знаете повод, по которому собрались здесь, у меня в гостях. Но в чем же причина? Где та основа, что цепью неумолимых событий свела вас, людей сколь разных, столь и прекрасных в эту Богом забытую забегаловку? Она здесь!
Леха хлопнул себя по своему весьма внушительному животу в жилетке. «Цепочку бы еще ему через это пузо, - подумал я, - ни дать, ни взять, Савва Тимофеевич Морозов».
- Она в том, что ровно двадцать лет назад, двадцать второго апреля одна тысяча девятьсот пятьдесят восьмого года, в восемнадцать часов десять минут издал первый свой звук на земле ваш покорный слуга, Алексей Аркадьевич Демидов. С тех самых пор, вот уже двадцать лет и, - Леха взглянул на часы, - пятнадцать минут, он не перестает издавать звуки. Согласитесь, довольно долго издает. И вот, в преддверии своего юбилея я вдруг задумался: «А что за звуки я издаю? Каков смысл этих звуков?». Да, за это время я научился слагать из этих звуков слова и даже предложения. Даже, как изволите видеть, довольно длинные предложения. Я научился читать и писать, выучил таблицу умножения и даже могу извлечь корень из двухсот двадцати пяти. И что? Где смысл этих знаний? Этих звуков? Ответ меня обескуражил – Ни-ка-ко-го!
Леха откашлялся. «Черт, сейчас он сожрет все мои мысли» - шепнул я Полинке. «Не волнуйся, - прошептала она в ответ и сжала мое колено под столом, - у Бога слов много. Леша лишь льет воду на твою мельницу».
За двадцать своих долгих лет я совершил единственное разумное действие – пригласил вас, своих друзей, дабы вы стали свидетелями родов, рождения, так сказать, Homo Sapiens. Да-да, господа, я желаю себе только одного, чтобы начиная с этого момента и по гроб моей жизни, каждое мое действие, каждый мой звук имели хоть какой-то смысл. Чтобы каждый прожитый мною день вел к какой-то разумной и полезной цели. Я хочу быть полезным своей матери, вам, мои друзья, родине, черт возьми!
- У-у-у-у-у, - загудели мы разом.
- Да-да, господа, - давеча, в милиции, меня не избили. Это матушка родина отшлепала меня по попке, намекая на то, что хватит, мол, валять дурака.
- Друзья! – поднял Леха свой бокал выше, приглашая всех сделать то же. Мы все встали, - я пью за вновь родившегося человека, за Человека Разумного!
С этими словами он махом осушил свой бока. Все последовали его примеру. И тут, со всех сторон ресторана послышались, вначале редкие, но быстро нарастающие аплодисменты. Хлопали даже официанты. Дело в том, что оркестр начинал играть только в семь. А до той поры, из динамиков лились тихие ненавязчивые мелодии, называемые на западе Evening Music. Стоял привычный ресторанный гул, но мы были так поглощены речью, что не заметили, как, начиная с середины тоста, весь ресторан притих, обратив свои взоры на оратора. А когда он закончил – разразился овацией.
Леха покраснел, ибо, конечно не ожидал такого эффекта. Но это был, скорее, румянец удовольствия, а не смущения. Мы сели, развернули колокольчики салфеток и стали раскладывать по тарелкам кулинарные изыски.
- Арсений, - обратился ко мне Семен, сидевший слева от Полины, - можно я поухаживаю за твоей дамой? Тебе и так все самое лучшее достается.
- Разумнее, Сема, спросить это у Полины. Один человек не в праве претендовать на такую красоту. Я ей принадлежу, но она, красота, я имею в виду - достояние каждого.
Тут, сидевшая напротив меня Аленка, вскочила со своего места, схватила мою тарелку.
- А я, если позволит Полина, - позабочусь об Арсении.
Что-то недоброе прозвучало в Аленкином голосе. Полинка и слова не успела вставить, а Аленка уже что-то накладывала мне.
- Тебе чего положить, Алена, - спросил Юрка, не успевший врубиться в суть этой суеты.
- Что хочешь, - бросила она небрежно через плечо, распоряжаясь моей тарелкой.
- Спасибо, Алена. Мне…, - начал было я.
- Не волнуйся, - ответила мне Аленка так громко, чтобы слышала Полина, - я ведь отлично знаю твой вкус.
Ситуация, при всей своей видимой невинности, все ж таки, накалялась и не сулила ничего доброго. Я видел, что это только начало. Я почувствовал, что сегодня будет что-то нехорошее. Однако, все, пока что, мирно жевали.
Погоня
Ресторан гудел своей жизнью, ровным гулом своим, более напоминая сейчас зал ожидания на вокзале. Играла тихая музыка. И я как-то совсем забыл, что мне еще предстоит держать поздравительную речь.
- Друзья, - вдруг раздался Лехин голос. Он явно был сегодня в кураже и, однозначно, решил взять на себя роль тамады. – Друзья. Несмотря на то, что среди нас есть наш старший товарищ, Хук, я на правах хозяина, позволю себе нарушить традицию и предоставить слово самому младшему, но самому умному из нас. Что-то мне подсказывает… Да просто я знаю своих друзей и, полагаю, именно на самого младшего они скинули ответственность поздравительного тоста. Прошу, Арсений.
«Ну что ж, - подумал я, - Все, как ты просила, Полина, я подошел к началу речи без единой мысли». Я встал. Откашлялся.
- Прошу всех разлить не исключительно шампанское, а и по собственному вкусу, - дал я себе хоть сколько-то времени собраться с мыслями. – Именно, по собственному вкусу, ибо, то что я собираюсь сказать и сделать – тоже, очень даже, на любителя.
Семен вовсю заботился о Полинке и я хотел налить себе сам, но тут, Аленка схватила графин с водкой и со словами, и так же громко, как до того, но уже обращаясь в упор к Полинке: «Я знаю, что он любит», налила в мою рюмку. Я слишком был занят мыслями о тосте, чтобы обратить внимание на то, какими взглядами обменялись женщины.
- Мне, конечно, лестно было слышать от человека Homo Sapiens, слова, которых я, в сущности, не заслужил. Позволь, Алексей Аркадьевич (язык теперь не поворачивается назвать тебя Лехой), считать мне эти слова, как авансом, так и планом, на ближайшие три года, дабы к своему двадцатилетию подойти хоть с толикой знаний того, что знаешь ты.
Полина больно толкнула меня кулаком в колено под столом. Я вспомнил ее слова: «Лесть – это всегда ложь». И я продолжил:
- Один, действительно умный человек, недавно сказал мне: «Всегда помни, что не ты центр вселенной». И я вдруг понял (а ведь раньше даже не задумывался), что действительно считаю себя центром вселенной, что весь мир крутится вокруг меня и для меня. Родители – для меня, друзья – для меня, любимая женщина – для меня, родина, которую ты сегодня так виртуозно обелил – тоже, для меня. Не разумом, но сердцем, я это как-то сразу осознал. Что же должно сделать человеку с собой, чтобы перестать быть для себя этим центром? Размышляя, пытаясь найти корень зла, я наткнулся на некое словечко. Самолюбие. Я попытался осмыслить его не с точки зрения обыденной семантики, то есть, самоуважение, чувство собственного достоинства, а просто прочтя по слогам - «само» и «любие» или «себя» «любие», сиречь – любовь к себе.
Мы часто (чаще в шутку) и бездумно цитируем Новый завет: «Возлюби ближнего», забывая вторую часть фразы Спасителя: «Как себя самого». Итак, возлюби ближнего своего, как себя самого. Я задумался. Как же это сложно сделать, если я считаю себя центром вселенной, высшим существом. У меня есть два пути, рассуждал я далее. Либо я должен поднять свой уровень уважения к окружающим на собственную (и, конечно, дутую) планку, что вряд ли реально. Либо, что будет совершенно правильно, спустить себя с небес на землю и тогда любить ближнего, как себя самого, будет гораздо легче. Даже очень просто.
Полагаю, каждый из нас в той или иной мере болен тем, о чем я сейчас говорил. И, так как ты, не только возрастом, но и, как видно было из твоей речи, интеллектом, первым из нас достиг истинного взаправдашнего совершеннолетия, то и подарок наш (теперь я совершенно убежден) послужит примером любви к ближнему.
С этими словами я нагнулся, достал корзинку и передал ее Семену, Семен – Феде, А Федя уже вручил изумленному Лехе. Он явно не догадывался о чем, все - таки идет речь.
- Мы предлагаем тебе сейчас перерезать эту синюю ленточку, единственное и последнее препятствие преграждающее тебе путь в мир любви и ответственности.
Все, включая Хука (он сказал, что проставится нам пивом и тем самым присоединился к подарку) знали, что внутри, но любопытству нашему не было предела – как Леха отреагирует на щенка?
Леха принял корзинку, отодвинул свой стул подальше от стола, сел и, положив таинственный подарок на колени, развязал бантик ленты. Медленно стал поднимать марлю… И тут, малыш, словно подыгрывая нам, а может, просто потому что мы его растрясли передавая корзину из рук в руки, вскочил на четыре лапы и громко тявкнул три раза, глядя прямо на Леху. Эффект был поразительный. Леха схватил пса подмышки, вскочил на ноги так, что корзинка полетела на пол.
- Боже, друзья! Мечта всей жизни! Господи! Это знак!
Он поднял щенка высоко вверх. Мы во второй раз не заметили, что ресторан притих и слушал мой тост. А уж когда Леха поднял щенка, разразился настоящей овацией. Леха радостно потрясал щенком в воздухе и тут…, возможно, напуганный шумом и обилием людей, а, может, просто давно этого не делал…, да только он пустил звонкую струю прямо Лехе на жилет, на галстук, на рубашку…
Растерявшись, Леха выпустил щенка из рук. Федя успел его подхватить, но тот вывернулся и плюхнулся на пол. Поднялся невообразимый гвалт. Весь ресторан кинулся ловить испуганного щенка, который, как безумный, метался по полу между ног и стульев. Послышался звон бьющегося стекла и падающего железа, визг женщин, крики «держи его!», «вот он, здесь!». Погоня длилась минуты три. Наконец, малыша удалось схватить за шкирку одному из официантов. Полина тут же подбежала к нему и, бормоча слова благодарности, взяла пса на руки и прижала к груди. Вновь послышались аплодисменты и смех.
Когда Полина подходила к столу, рядом с Лехой уже стоял метрдотель, что-то выговаривая ему. Леха, в мокрой жилетке и с растерянным лицом, пытался что-то возражать. Тут Хук обнял жреца Деметры и Вакха за плечо и отвел в сторону.
- Такое дело, шеф. Юбилей у человека. Собака редкой породы. Шарпей, слышал? Из Англии привезли. Ну не углядели, вырвался малыш. Посмотри на людей, как им весело. Эти люди запомнят твой ресторан только с хорошей стороны. Пара рюмок разбилась – не беда. А уже через пятнадцать минут за ним приедут и заберут. У нас все продумано, все под контролем.
Не давая вставить метрдотелю и слова, Хук достал из нагрудного кармана своего пиджака червонец и засунул его в нагрудный карман администратора. Это подействовало лучше всяких слов.
- Но только, чтоб через пятнадцать минут его не было, - мягко-строго произнес он.
- Клянусь, - картинно приложил руку к сердцу Хук, и они разошлись.
Леха ушел замывать костюм. Федя сходил к швейцару и попросил его, чтобы тот позвал, если обратится юноша, приехавший за щенком. Мы с ребятами решили покурить в холле.
- Ну, что, - подытожил Семен, - все прошло выше всех ожиданий.
- Гора-аздо выше, - протянул Хук. – Пришлось мэтру чирик сунуть, чтоб заткнулся, но я не жалею. Такой спектакль.
- Ну спасибо, друзья. Прямо в точку.
Леха вышел из туалета совершенно сухим и довольным.
- Эк ты быстро справился. Ничего и не видно, - удивился Юрка.
Да там же горячий вентилятор. И потом, мочу безгрешного ребенка даже пить полезно. А собаки безгрешны по определению. Ладно, колитесь, чья идея?
- Арсения, кого ж еще, - отозвался Юрка. - И ты не прав, Алексей Аркадьич, мы его не подставляли. Кто лучше автора идеи сказать мог?
- Спасибо тебе, Арсений.
Леха подошел и крепко обнял меня.
- Все выбирали. Если б не Полина, у нас бы глаза разбежались. Если б не Юрка, у нас бы денег не хватило.
- Там тебе еще поводок, корм какой-то, шампуни, миски и книжка, как за ним ухаживать, - добавил Семен.
- И учти, пока что, он гадит дома. И Анна Ивановна, как она отнесется? Ну, к щенку, вообще.
- Это не беда, что гадит. Уберу. А матушка? Да она только рада будет. Мы с ней вдвоем живем. Я с утра до вечера в институте. Вот им и веселей будет друг с другом. Ничего. Привыкнем.
- Ребят. Там какой-то пацан. Говорит за собакой, - сказал подошедший к нам швейцар.
- Ага, пусть ждет. Скажи сейчас вынесем.
Мы вернулись к столу. Полина нежно, как ребенка, уложила успокоившегося у нее на руках, пса в корзинку, накрыла ее марлей и завязала ленту. Потом она передала Лехе корзинку и пакет.
- Вот Леша, - сказала она так, будто провожала своего ребенка в пионерский лагерь, - здесь шлейка, поводок, миска для еды, миска для воды, шампунь от блох, ошейник от блох, и, самое главное, книжка про шарпеев. Береги его. И скажи мальчику, чтобы до дома не развязывал марлю, а дома чтобы покормил мясом, если есть, и творогом. Ни в коем случае никаких костей. Молока тоже нельзя. Пусть просто воды нальет.
- Ну ты не переживай так, Полинка. Верь. Он в хороших руках. Спасибо тебе.
Он поцеловал Полину в щеку и пошел относить щенка.
- Прям, мамаша, ни дать, ни взять, - процедила сквозь зубы Аленка.
Она сказала это довольно тихо. Но я уверен, Полинка все слышала. Слышал и Юрка.
Белый танец
- Не пойму, что с ней такое.
Юрка нервно курил уже третью сигарету. Мы стояли с ним вдвоем в вестибюле. Время было уже около девяти. В зале гремела музыка, нард танцевал. Вечер был в полном разгаре.
- И я ее впервые такой вижу. Вы до этого не ссорились?
- Да нет. Все, как обычно.
- Пригласи ее потанцевать. Поговори. Разговори. Может, выплеснет. Что бы ни было – все лучше, чем неизвестность.
- Да ты видел?! Она танца не пропустила ни одного. С кем угодно, только не со мной. Будто нарочно позлить хочет.
- Ну хочешь, я с ней поговорю?
- Не хочу. Думаешь, не вижу, что все это из-за тебя?
Я вздохнул.
- Будь умней, Юра. Это из-за Полины.
- Ну так я и говорю. Увидела, как ты счастлив с ней. Проснулась старая ревность.
- Ну хочешь, мы уйдем? Не кончится это добром. Чует мое сердце.
Юрка закурил четвертую сигарету.
- Нет, Арсений. Не хочу. Что за глупость. Чем бы это ни кончилось… Все лучше, чем с камнем с таким на душе жить.
- Послушай, - вдруг оживился я, - она ведь не меня ревнует. Она Полинкиной красоте позавидовала.
- Да она сама красавица, чего ей завидовать-то, - обиделся за Аленку Юрка.
- Да кто бы спорить стал. Но кто этих женщин разберет? Не красоте, может. Может, той сцене в вестибюле. Может, платью. Никогда не знаешь, на что они злятся. А попадает-то всегда самому близкому.
- Это точно.
- Ну вот, - продолжал я воодушевленно, - если верно, что, уж не знаю с чего, она позавидовала Полинке, а тебя демонстративно игнорирует, пойди, пригласи Полинку на танец. Я пойду, закажу для Лехи что-нибудь задушевное. Вы потанцуете на ее глазах - она живо на тебя переключится. Ей же надо будет доказать Полине, что ты - ее, Аленкин. Захочет Полине нос утереть.
- А что, - наконец оживился Юрка, - в этом есть зерно. А ты ревновать не станешь?
- Еще как стану, - обрадовался я, Юркиному настроению, - считай, дуэль тебе обеспечена. «Пистолетов пара, две пули – больше ничего – вдруг разрешат судьбу его».
Мы рассмеялись и пошли в зал. Юрка за стол, а я подошел к клавишнику оркестра. Заказы шли через него.
Не успел я вернуться на свое место, как по залу объявили: «А сейчас, для нашего гостя, Алексея, в честь его юбилея, звучит старинный русский романс «Белой акации гроздья душистые». Все мы присоединяемся к поздравлению твоих друзей, Алексей».
- Так-так. Дайте угадать, чья это затея, - разулыбался Леха. – Не иначе наш романтик с метлой куражится.
Упаси Бог, Алексей Аркадьевич, - улыбнулся я в ответ, - я песен-то таких не знаю.
- Оленька, окажи честь старику, - обратился Леха, к подружке Хука, с низким театральным поклоном.
- Извольте, Алексей Аркадьевич. Почту за честь.
Ольга уже раскрепостилась и вполне вжилась в новую компанию. Юрка тоже встал, Поклонился Полине и протянул ей руку.
- Если Вы не против, конечно. И…, естественно, если Ваш Отелло обещает держать свой кинжал в ножнах.
- Я отобрала у него нож при входе, он нам не помеха, - улыбнулась Полина и подала руку Юрке.
Зазвучали первые гитарные переборы вступления. Женщины в зале, видимо, услышав в названии слова «белой», решили для себя, что пусть это будет белый танец, бросились расхватывать мужчин. А, так как наш угол сегодня был самым популярным, то и Хук, Семен и Федя были вмиг оприходованы. Аленка, сверкнув молнией, вслед уходящим на танцпол Юрке и Полине, нервно схватила мою руку.
- Пойдем, Арсений, потанцуем.
- Прости, Аленка, я не могу…, - как-то я не продумал такого развития сюжета. - Мне нужно…, это…, выйти.
Она с силой бросила мою руку и взглянула так, что я пожалел, что придумал всю эту авантюру. Она порывисто встала, секунду обозрела зал и подойдя к здоровенному белокурому парню лет тридцати, пошла с ним к оркестру. Солист запел довольно сносным баритоном:
Целую ночь соловей нам насвистывал
Город молчал и молчали дома
Белой акации гроздья душистые
Ночь напролет нас сводили с ума
Танцпол был, что называется, яблоку упасть негде. Никто здесь не ожидал услышать такой музыки и, так как, танец самопроизвольно стал белым, то все женщины и были здесь.
Белой акации гроздья душистые
Ночь напролет нас сводили с ума
Выводил ресторанный баритон.
Сад весь умыт был весенними ливнями
В темных оврагах стояла вода
Боже какими мы были наивными
Как же мы молоды были тогда
Так уж получилось. Случайно ли? Вряд ли. Юрка с Полиной оказались рядом с Аленкиной парой. Всякий раз, когда Юрка оказывался лицом, к Аленке, та прижималась к своему партнеру так, будто вот-вот они тут, прямо на полу и начнут заниматься сексом. И отстранялась, когда Юрка оказывался спиной.
Годы промчались седыми нас делая
Где чистота этих веток живых
Только зима да метель эта белая
Напоминают сегодня о них
Так повторялось из тура в тур и Аленкин партнер, не ведая игры, неизбежно начал принимать все на свой счет.
Только зима да метель эта белая
Напоминают сегодня о них
Парень явно, совершенно поверил в искренность Аленкиных движений, и начал отвечать не только телом, но и руками.
В час когда ветер бушует неистово
С новою силою чувствую я
Белой акации гроздья душистые
Невозвратимы как юность моя
Возможно, Аленка уже поняла, что заигралась, но было поздно. Парень дрожащими руками начал вытаскивать Аленкину блузку, намереваясь пальцами проникнуть за юбку ниже спины.
Аленка резко отскочила и влепила парню такую пощечину, что звон от нее, казалось, перекрыл звук оркестра.
- Ах ты, стерва! - взвыл парень и занес кулак для удара.
Аленка в ужасе закрылась обеими руками.
- Алё, - похлопал Юрка парня по плечу.
Тот резко развернулся. Вокруг ссоры сразу образовалось довольно большое пространство.
- Тебе чего, фраер? Отвали.
- А может, отвалить следует тебе? – невозмутимо отвечал Юрка. – Оставь девушку в покое.
- Юра! Ой, не надо! Пожалуйста, - заверещала Аленка. Но было поздно.
Парень размахнулся и с силой нанес удар, намереваясь попасть Юрке в челюсть, но промахнулся, потому, что Юрка резко отскочил и, в свою очередь, отправил короткий правый в солнечное сплетение. Парень согнулся пополам. Юрка выпрямил его левым апперкотом в челюсть и, в довершение, выбросил страшный свинг в висок. Парень сделал два оборота на месте, будто балерун, секунду простоял и… рухнул как сноп.
Белой акации гроздья душистые
Невозвратимы как юность моя
Успел допеть оркестр.
Аленка бросилась к Юрке на грудь.
- Юра, милый, прости! Прости, ради бога! Это я дура. Я…
Аленка не успела договорить, как страшный визг прокатился по всему залу
- У-уби-и-ли-и-и!
Талая вода
- О боже, - удивилось Время, - неужто, и вправду? Убил? Одним ударом?
- Да нет, - грустно вздохнул Арсений Павлович. – Эту «тройку» в Юркином исполнении я видел не раз, когда мы с ним шатались по барам. Он же был профессиональный боксер. Всегда кончалось нокаутом и все. А то и просто нокдауном. А тут… Звезды встали как-то криво. Этот идиот, царствие ему небесное, упал уж очень неудачно. Прямо затылком об угол сцены. Тут душа его злополучная и отлетела. Не знаю, плохой ли, хороший ли был человек, да только пострадал ни за грош. Попал в чужую свару. И сгорел. И Юрка ни за что четыре года получил.
- Да что ты? – опять изумилось Время? – Не он же первый ударил.
- Эх ты. Время, - покачал головой Арсений Павлович. – Везде-то ты побывало, все-то ты видело. Ну скажи. Где же ты встречало справедливый суд?
- Ну, - задумалось Время, почесывая себе лоб, – Соломон неплохо судил.
Соломон, - усмехнулся Арсений Павлович. – Соломон мудрость свою из рук самого Создателя получил. Его суд был – что Божий. А на земле-то оно не так. Юрке сначала хотели «десятку» впаять. Преднамеренное убийство. Наших свидетельских показаний… ну, мол, что это была самооборона, не слушали. Другие свидетели, естественно, кто разбежался, кто говорил, что ничего не видел. Нам не верили потому, что мы, де, однокашники, друзья. Я уж, в отчаянии, пошел к солисту того оркестра. Ну к этому, что романс пел. Говорю: «Ты же все видел. Врать ведь тебя не заставляют. Скажи правду». «Охота мне была, - отвечает, - по судам таскаться, знаешь сколько я драк здесь вижу каждый день. Что же мне, по каждому делу в суд таскаться?». Я говорю: «Ведь ни за что хорошего парня упекут». А он мне: «У каждого судьба своя. Давай, - говорит, - двести рублей, тогда подумаю». Лабух хренов. Мразь.
Делать нечего. Сторговались на ста пятидесяти. Наскребли всем гуртом. Дал показания. Его спрашивают: «А чего это ты три недели ждал? Не шел». «Да, - говорит, - и у меня же тоже сердце есть. Ведь самооборона это была». Сволочь. Сердце у него… Сто пятьдесят рублей цена тому сердцу. Гад. Ну, в общем, мы уже радовались. По всему выходило, что условно дадут года три. Ну, из института, конечно, поперли бы. Да не до того уже было. Лишь бы свобода. А тут прокурор возьми да и вытащи его значок КМС. Ну, это значит - кандидат в мастера спорта по боксу. «Не имел, - говорит, - он права применять профессиональные навыки к гражданскому беззащитному лицу». В общем… и вспоминать сил нету. Дали четыре года общего режима за непреднамеренное убийство. Аленка – та на суде-то еще была. А после… Ни посетила ни разу, ни передачки, ни письма. А через полгода и вообще замуж вышла. Так-то вот, брат мой, Время.
- Ну, - пожало плечами Время, - видимо, это то, что вы называете судьбой?
- Судьбой! – вдруг грохнул по столу кулаком Арсений Павлович и, затем, начал побивать этим кулаком себе в грудь. – Вот она судьба! Вот она! Прямо перед тобой сидит. Не будь эта Аленка, вначале, моей любовницей – не приревновала бы тогда и к Полине, не устроила бы этот спектакль Юрке. И мне бы не пришла в голову мысль с этим романсом! Да Бог со всем с этим. Ну почему я тогда отказался от Аленкиного приглашения на танец! Ведь ничего бы тогда не случилось
- Тогда бы вы ничего не добились. Аленка стала бы вешаться на тебя, дабы доказать себе, что может легко тебя у Полины отбить. Юрка бы ничего не выиграл. А ты бы имел головную боль, разрываясь между Полиной и Аленкой. Нет, брат, Арсений Павлович. Судьба, а, правильнее сказать, цепь причин и следствий – не дура. Это вы думаете, что она издевается над вами. А, на самом деле, она, как талая вода с горы – течет по самому оптимальному, безопасному пути, который только возможен. Попробуй тому ручью камень на дороге поставить, запруду нагородить. Так он тебе такое наводнение устроит.
Судьба, - простонал Арсений Павлович и, прикрыв глаза, медленно начал читать:
Как тяжко мне, в пути взметая пыль,
Не ожидая дальше ничего,
Отсчитывать уныло, сколько миль
Отъехал я от счастья своего.
Усталый конь, забыв былую прыть,
Едва трусит лениво подо мной, -
Как будто знает: незачем спешить
Тому, кто разлучен с душой родной.
Хозяйских шпор не слушается он
И только ржаньем шлет мне свой укор.
Меня больнее ранит этот стон,
Чем бедного коня - удары шпор.
Я думаю, с тоскою глядя вдаль:
За мною - радость, впереди - печаль.
- Вот-вот, - обрадовалось Время. – Это ты как раз к месту, Шекспира-то. «За мною - радость, впереди – печаль». Если бы он не пятился по жизни спиной, словно рак, то впереди у него была бы только радость, а вся печаль оставалась бы позади.
- Ты свою теорию, о движении спиной уже за уши притягиваешь к любому случаю, - открыл глаза Арсений Павлович. – Если ты уже заехал в такие дебри, где кругом печаль, то ты хоть извертись, хоть в четвертое измерение загляни – тина, грязь, болото. Все. Ты утонул.
- Если я и упрощаю свою, как ты выразился, теорию, - возразило Время, - (хотя, это у людей сплошные теории, а я владею лишь истинами), то это для удобства понимания твоего хлипкого умишки. Зато, вот ты, склонен сгущать краски. Исключить пару скабрезных постельных сцен и вот этот случай с твоим другом - в остальном, твой рассказ – радуга небесная.
- Вообще-то, Юрка и года не отсидел. Его выпустили за хорошее поведение. И, может ты и право, что судьба выбирает лучший для человека путь. Ведь, не прекратись его с Аленкой связь, страшно и представить, во что превратился бы их брак. Она ведь его не любила, а он по ней с ума сходил. Такое существование стало бы пожизненной каторгой.
- Во-от, - откинулось на спинку своего кресла Время, - первые разумные слова за весь вечер.
- Напрасно ты пытаешься обнаружить в моих словах здравый смысл или оптимизм. Человек не хочет быть сторонним наблюдателем своей судьбы. Не хочет созерцать, как течет его талая вода. Ну и что, если бы человек и двигался не спиной, а лицом вперед? Что бы он видел? Он видел бы всю свою неизбежность во всей своей, так сказать, красе. Он просто обозрел бы разом все русло, по которому предстоит пролиться его мутному ручью. Уж лучше спиной. Само говорило – счастье в том что многого не знаешь.
- Не думай, что ты опроверг мою истину. Да, вне всяких сомнений, в причинном мире так оно и есть. От первородного крика до предсмертного стона, жизнь человеческая предрешена. Но вот, катилось я как-то мимо одного Вечного (хе-хе) города, и слышало, как кто-то сказал вполне разумную фразу: «Кто предупрежден – тот вооружен». Пойми ты, наконец, Арсений Павлович. Дело не в том, какие события встречаются на твоем пути. Дело в том, как ты к ним относишься. Да. Вы не властны над фактами. Но ваш Господь даровал вам чувства, способность к созерцанию, осмыслению, анализу и принятию решения. Нет, не решения, как действовать. Здесь, повторяю, вы не властны. Но как относиться к увиденному? Как его пережить?.. Великий это подарок. Это Его извинение перед вами, за неудачу своего творения. И подарок этот вовсе не для того, чтобы вы содрогались от сладких конвульсий оргазма или поглаживали пузо от удовольствия сытой трапезы. Ты видишь в окно дождик и, выходя на улицу, надеваешь сапоги, плащ и берешь с собой зонт. Так и здесь. Ну, скажем, ты видишь, что через минуту тебя оскорбит какой-нибудь хам. А ты готов. Вместо того, чтобы глупо и болезненно для себя рефлексировать – просто проходишь мимо.
Время выглядело сейчас по-детски воодушевленным. Оно вскочило на ноги и начало расхаживать туда-сюда в пространстве между столом и креслом.
- Кроме этого, он дал вам еще дар речи. Слова. Слова, способные, как ранить или даже убить, так и утешить или даже излечить. Слова – это не из области фактов. Не из области материального мира. Это чистой воды метафизика. Проиллюстрирую тебе силу слова на вашей главной книжке.
Много в ней воды и чуши. Вы, люди, вообще, ужасно бестолково пользуетесь таким уникальным даром, как слово. Возьмем суть, отбросив шелуху. Евангелие от Иоанна составляет десятую часть от всего текста Нового завета. А слова именно Иисуса не наберут и десяти процентов от этого Евангелия. Таким образом, один процент действительно нужных слов по отношению ко всей остальной ахинее. А что они сделали с миром? Скольким миллиардам и миллиардам людей, на протяжении двух тысячелетий, они помогли, нет не избавиться, конечно, но снести боль от неизбежно грядущего! В этом суть его спасения. В слове. А вы все требуете от него, чтобы он вам денег послал, здоровья, счастья. Один умный нашелся среди вас, а вы ничего до сих пор так и не поняли. М-да. Я было не право, когда говорило, что все вы ходите спиной вперед. Один-то из вас, уж точно, ходил, как надо.
Да Бог с ним, с Иисусом.
Самый обычный человек только одним словом меняет представление о мире. Один говорит другому (заметь, только говорит, ничего не делает): «Я люблю тебя» - и вся вселенная для того сияет. Он говорит: «Я не люблю тебя» - и человек режет себе вены.
Подумай теперь, стоит ли вам сетовать на детские препоны какого-то там причинного бытия с его дешевыми кознями и предсказуемыми ловушками, если у вас в руках такое оружие!
- Может быть, - задумчиво произнес Арсений Павлович. – Может, ты сейчас чуть и облегчило страдание моей души. Но скоро ты исчезнешь, и сила твоих слов исчезнет вместе с тобой. В сущности, слово ничем не лучше водки. Пока слушаешь утешительное слово – тебе легко. Пока действует водка – тебе тоже легко. Слово забывается, и тебе вновь тоскливо. Водка заканчивается – и хоть в петлю лезь.
- Чудак ты, Палыч, - Время успокоилось и уселось на свое место. - Со словом перенеся боль, можно идти дальше, но с водкой… И, потом. Слово – это не мое оружие. Мое оружие – я само.
- Слабенькое оружие. Что у тебя, что у него. Ни слово, ни удаленность того события, рассказ о котором впереди, не излечат меня никогда, - вздохнул Арсений Павлович. – И, вообще, я не понимаю, как ты можешь защищать Бога? Ты же. Именно ты, а никакой не дьявол - его антипод.
- Чхало я на твоего Бога. Я просто пытаюсь тебя подбодрить.
- Но ведь Бог обещает вечность, а вечность предполагает не последовательность времен, а полное отсутствие времени, то есть, тебя.
- Вечная жизнь – это сказочка для дураков. Подумай. Уничтожив меня он, тем самым, уничтожит и себя. Бог – это свет? Но свет виден только тогда, когда ему есть от чего отражаться. В абсолютной бесплотной тьме, луч света – такая же химера, как и я само. Значит, чтобы реально, осязаемо существовать, свету нужно пространство и мир протяженных вещей и, значит, их последовательность, значит – время. Таким образом, объявляя вечность (как отсутствие вещей) – Бог убивает себя. Так что, не переживай.
Ничто не вечно, ибо, существую Я!
- Ну, тогда и, аминь.
Арсений Павлович достал пакет с табаком, долго выскребал остатки изо всех его щелей, затем, набил ими трубку. В коробке так же оставалась последняя спичка. Он раскурил, и с глубоким вздохом приступил к завершению своего долгого повествования.
А ты? Разве с нами не идешь?
Июнь в разгаре. С сессией я справился не Бог весть, но на стипендию наскреб. Лето стояло жаркое. Я сидел в сквере перед институтом и ждал, когда со своего последнего экзамена выйдет Полина. Волноваться за нее не приходилось. Она все сдавала на пятерки. После экзамена мы собирались поехать к Лехе, проведать малыша. Леха назвал его Палыч, объяснив это тем, что именно мне принадлежала идея такого подарка, а мое отчество - Палыч. Это с одной стороны. А с другой – выбирала его Полина. Леха находил, что между именами Палыч и Полина, существует некоторое фонетическое сходство. Спорно, но, так или иначе, мы с Полинкой стали официальными крестными щенка. Нам хотелось с ним попрощаться, потому что до осени мы его не увидим. Мне на геополигон. А у Полинки хоть и не было летней практики, но она собиралась на все лето в Ялту, где у их семьи было что-то типа дачи.
Лето – прекрасная пора. Я всегда любил лето. Теперь же, когда я стал профессиональным дворником, я стал его любить еще больше. Точнее, я стал сильнее не любить осень, зиму и раннюю весну. Осень – за огромное количество листьев, которые приходилось убирать, зиму – за горы снега, которые приходилось лопатить, раннюю весну – за бесконечный лед, который приходилось колоть. Что остается любить солдату улиц… - только лето. Правда, как дворнику, мне не суждено было насладиться летним бездельем. Через полторы недели мы со своим курсом уезжаем на почти двухмесячную полевую практику. А там – две недели – и снова учеба. Участок, до сентября, я передавал Порфирьевне (зарплату за его уборку, соответственно, тоже. Лишь бы сохранить за собой место).
Жара, которая теперь установилась в Москве, меня совершенно не смущала – так, видимо, намерзся я за зиму. С иронией я смотрел на толпы москвичей, которые каждую субботу потным роем осаждали пригородные электрички, забивая их своими телами так, что иные не втискивались и им приходилось ждать следующей. Плохо относясь к лимите, москвичи, тем не менее, делали исключение для жителей Подмосковья. Происходил естественный взаимовыгодный обмен. Пригород по субботам заполонял Москву жаждущими колбасы и мяса, которых не сыщешь на прилавках магазинов за пределами столицы, а жители первопрестольной облепляли, словно пчелы мед, все пригородные водоемы, леса и дачи. Их почему-то не смущал тот факт, что, насладившись прохладой подмосковных дубрав и тенистых прудов, они растеряют весь этот положительный заряд на обратном пути, трясясь и прея в переполненных вагонах электропоездов.
Я сидел на лавочке сквера в тени вековых лип и полувековых кленов, курил и грустил тихой грустью. Правильнее сказать, я был растерян. Начиная с февраля и до сего дня, мы разлучались с Полиной, максимум, на три дня. И даже эти три дня длились для нас, как три года. Впереди же была двухмесячная разлука. Я не понимал, как я смогу ее выдержать. Благо бы она оставалась в Москве. Выбраться из-под Серпухова, где находился наш полигон, в Москву, не проблема. Но Ялта! Полинка тоже рвалась остаться, но отец наотрез отказывался оставить ее дома одну. Ей уже есть восемнадцать, а он… «Ох и намучаюсь я еще с этим Михаилом Марковичем», - думал я. Мария Аароновна (так ее и звали, как предсказывал старик) мне оказалась здесь даже союзницей, потому, что была на стороне Полины. Однако, против мужа идти не смела.
- Здравствуй, князь ты мой прекрасный. Что ты тих, как день ненастный? Опечалился чему…
Передо мной стояла Полинка. Из-за экзамена ей пришлось надеть брючный костюм. Пусть и летний. Но сегодня было под тридцать.
- Привет, отличница. Хоть бы для разнообразия четверку получила.
Мы поцеловались.
- Я так и сделала.
- Что, правда?
- Ага. Приборостроение – не женское дело.
- А внешность? Как он мог устоять?
- Принимала женщина.
- Ты же сказала, что приборостроение – не женское дело.
- Это приборостроение, а не приборопреподавание, - рассмеялась Полинка.
- Надо было тебе одеться синим чулком.
- Да? И чтобы ты меня разлюбил? Мне – уж пусть лучше двойка, чем без тебя.
Я вздохнул.
- Я тоже не понимаю, как мы выдержим, - поняла она мой вздох. – Мне кажется, я сбегу прямо с поезда. Выйду где-нибудь на первой же станции за булочками, да и дёру.
- Я думаю, папа на этот случай перестрахуется, и вы полетите самолетом.
- Не волнуйся, милый, я их об-ма-ну, - загадочно улыбаясь прошептала Полина. – А сейчас мне надо спуститься под землю.
В старых московских скверах туалеты были устроены под землей. Она пошла к входу с литерой «Ж» на металлической ножке, а я закурил, с удовольствием рассматривая ее стройную фигуру, которую не мог скрыть даже брючный костюм. Через пять минут она появилась в шортах, майке и кроссовках. Ей бы пионерский галстук и куда-нибудь в Артек. Никто бы и не заметил подлога, настолько юной казалась она сейчас. А ведь уже студентка второго курса!
- Едем, - крикнула она, направляясь к выходу из сквера. – Догоняй.
Мы прошли сквозь институтский двор и свернули на улицу Казакова, к метро.
- Бедный Гоголь, - грустно произнесла Полина, когда мы проходили мимо театра имени Н.В.Гоголя. – Самый русский, самый красивый писатель, а такой театр. Хорошо, что он этого не видит.
Полина была права. Я, конечно, не театрал, но начиная с местоположения (в сущности, в подворотне) и, заканчивая составом труппы и репертуаром… Странная ирония судьбы. Похоже, власть так и не может простить писателю тех образов, которые он вывел в «Ревизоре», да в «Мертвых душах», да в «Как поссорились…». Такие, ведь, и по сей день ходят по известным коридорам и сидят в известных креслах. Господи! Да разве в том его ценность!
В метро я привычно чувствовал себя павлином и злорадствовал. Забылись ощущения того дня, когда я впервые увидел Полину в вагоне метро на Площади революции. Тогда чувство ревности родилось у меня даже чуть ли не раньше, чем сама любовь и я ненавидел всех тех, кто разглядывал мою (я уже знал!), мою Полину. Теперь же, я с чувством честолюбивого превосходства перехватывал, похотливые и восторженные взоры, или взгляды отчаяния и зависти: «Смотрите! Пускайте слюни! Это сокровище принадлежит не вам, и никогда вашим не будет!». Правда, до Таганки всего одна остановка. Дальше – минут пятнадцать любым троллейбусом по шоссе Энтузиастов до третьей Владимирской и семь минут пешочком, вот мы и у Лехи.
- Здорово, второгодники, в смысле, второкурсники, - приветствовал нас Леха, открывая дверь, - проходите.
Из-за его спины тут же, с громким лаем, пулей вылетел Палыч и, не рассчитав тормозной путь (а, может, вовсе и не собираясь тормозить), врезался в Полинкины ноги.
- Ах ты, толстяк. Чуть не сшиб, - рассмеялась Полина, беря щенка на руки.
Его уже не так-то легко было держать. Палыч, против того, что мы впервые увидели на рынке, вырос чуть не втрое.
- Чем ты его кормишь, Леха? - удивился я – меньше месяца я его не видел, а не узнать.
- А что я, то и он. В вашей книжке написано, что он всеядный. Так и есть.
- А у нас праздник, - возвестил я.
- У всех праздник. Все перешли на второй курс.
- Нет. Не то. Наш академик четверку схватил.
- Да ну? Это дело надо вспрыснуть, - искренне удивился Леха. – Кто ж это тебя так обласкал, Полинка.
- Доцент Коблеева Клавдия Петровна. Милая старушка. Правда, с усами.
- У моего кобелька тоже усы есть. Это не основание, чтобы ставить четверку.
- Не знаю, Леш. Я где-то витала в облаках, и она как раз тут и пристала с устройством оптического дальномера.
- Ну и хорошо, а то ты всех уже пугаешь своей непогрешимостью. Я предлагаю грешить и дальше. Вот вам шампанское, сосиски на троих и идите в Терлецкий парк. Только с поводка его там не спускайте - столько больших собак гуляет. И все без поводков.
- А ты? Разве с нами не идешь?
- Собирался. Вон и сумку собрал, да полчаса назад, позвонил дядька. Купил холодильник. Стоит у магазина. Ни машину, ни грузчиков не заказал заранее. Чудной он у меня. И лифт, говорит, отключили у них. А он на седьмом этаже живет. Пойду выручать.
- Иди-иди. Нам больше достанется, - потер я руки.
- Полин. На этого олуха надежды мало. Напьется, начнет песни орать. Следи там за Палычем.
- Не беспокойся, Леша. Я прослежу за обоими Палычами.
- Сам олух. Сам не напейся, когда холодильник будешь обмывать. Грузчик хренов.
Так, шутя перебраниваясь мы спустились на улицу. Леха пошел к Перовскому универмагу, а мы в другую сторону, к Терлецкому парку. Палыч смешно семенил слева от Полины. Я шел справа.
- Загадывай желание, Полинка. Идешь между двумя Палычами.
- Уже, - опять как-то загадочно улыбнулась Полина.
Твоею грешною душою
Сырые зеленые осиновые ветки еле горели. Мне подмосковному жителю, у которого до настоящего леса в любую сторону не более двадцати минут ходу, смешно слышать, когда москвич говорит: «Пойду в лес». И отправляется в Кузьминский, Кусковский или даже Измайловский, весь испещренный асфальтовыми дорожками, оснащенный уличными фонарями, лавочками и урнами лесопарк. Такие урбанистические признаки столичных «лесов» - не самая большая беда. Костры вот в них жечь строго запрещается. И, конечно, законопослушные горожане только и делают, что устраивают пикники с шашлыками. В сущности, смотрители московских лесопарков должны быть благодарны нарушителям, потому как, они лучше любой метлы подчищают подножье леса от всего, что только может гореть. Если ты идешь с большой компанией, то в обязанности каждого приглашенного входит и захватить с собой из города некоторое количество древесины. Как правило, это деревянные ящики из замагазинных складов или куски старой мебели с помойки. Так что, известная пословица про «в лес со своими дровами», давно приобрела в Москве иное, прямо противоположное звучание. А если ты вдруг решил, экспромтом, как мы сегодня, пожарить сосисок на свежем воздухе, то тебе придется отламывать живые ветки от близлежащих деревьев и пытаться выжать из них хоть сколько-нибудь огня. Опытный московский нарушитель лесопарковых законов, Леха, собирая нам сумку, кроме шампанского, двух пластмассовых стаканов, сосисок, и хлеба, предусмотрительно положил не только складной нож, но и маленькую садовую пилу «сучкорез» в чехле. Так что, проблем с дровами у меня не было. Проблема была в том, что они горели ужасно плохо и мне постоянно приходилось подкидывать бересты, чтобы костер совсем не потух.
Полинка носилась с Палычем по небольшой, залитой солнцем поляне. Она кидала ему палку и требовала, чтобы тот ее принес. Приносить-то он приносил. Но не добежав до Полинки метр, останавливался и как только она протягивала руку, чтобы эту палку забрать, пес резко прыгал в сторону, и начинал удирать во всю прыть, наворачивая круги по поляне, как цирковой конь. Полинка догоняла малыша, отнимала палку и упражнение начиналось заново.
- У кого из вас первого иссякнут силы? – крикнул я.
- Я не сдамся. Он принесет мне палку, в конце концов.
- Смотрите, без сосисок останетесь.
- Попробуй только. Ты даже не представляешь, без чего тогда останешься ты.
Снова, в ее голосе прозвучала какая-то тайна.
Эта тайна…
Думал ли я об этом? Да тысячу раз думал. Представлял ли? Да тысячу раз представлял. Представлял и… боялся. Стараниями двух женщин (Риту я не считаю хотя бы потому, что ни черта не помню), я уже не мог себя отнести к дилетантам. Но сегодня, после загадочного шепота в сквере института - «Не волнуйся, милый, я их обману», после этого ее краткого «Уже», когда мы шли сюда и вот теперь - «Ты даже не представляешь, без чего тогда останешься ты»…. С ней, с Полиной… - это совсем другое. Даже представляя себе, как все это может быть, я понимал, что буду чувствовать и выглядеть, как совершеннейший девственник. Я, действительно, смотрел на нее, как на ангела, тогда как, мой опыт, по сути – низкий разврат, а, следовательно ничего я о сексе божественном и не знаю. И, что самое страшное - Полина – безусловно, девственница, и первая близость с ней будет, скорее всего, не сексом, а каким-то неизвестным мне таинством, обрядом, не имеющим с банальным соитием ничего общего. На свете был единственный человек, у кого бы я решился спросить, как это должно быть. Но он теперь далеко… В одно из воскресений, я забрался в папину библиотеку в надежде найти хоть что-то. Но кроме дурацких рисунков анфас, в разрезе, чисто научных разъяснений терминов дефлорация и девственная плева, я не нашел. По тому, что я слышал из вечно перевранных, сверх меры, студенческих рассказов в курилке или пивной, я мог сделать лишь тот вывод, что о каком бы то ни было удовольствии не стоит и помышлять. Что это сплошная головная боль. А будучи в душе романтиком, я не мог поверить, что такое великое таинство природы – лишь боль и страх. А даже если это и так, то это должны быть совершенно особенная боль и совершенно особенный страх… И вообще. В жизни человека всего три реперные точки. Рождение, создание пары для продолжения рода и смерть. Все три сопровождаются криком и болью. Человеку больно, когда он рождается, человеку больно, когда он теряет девственность… Стоп… Больно только женщине. Значит… У мужчины только две ипостаси? Либо жив, либо мертв? Какое же значение для меня должно иметь то, что рано или поздно произойдет между мной и Полиной? Страх? Чушь какая-то. Но мне страшно. По-настоящему страшно и... страшно хочется Полину.
Черт. Я почувствовал, что у меня началась эрекция, а у горла встал огромный ком. Черт! Как это она однажды сказала? - «Будь искренним – это единственный путь к человеческому сердцу». Черт! Я буду искренним и будь, что будет. Я же не могу себя уличить в том, что я хочу просто завладеть ею, одержать очередную победу, получить удовольствие… «Я же искренне хочу ее… Значит все и получится», - успокаивал я себя. Но получалось как-то не очень. Что-то мешало… Да! Мешало то, что у меня уже есть от нее тайны. Да такие, что и под пыткой не сказал бы. Лишь бы она не знала.
- Фу-у-ух! – неожиданно, так, что я вздрогнул, Полинка плюхнулась рядом со мной на траву, уткнувшись разгоряченным лбом мне в плечо. – Он меня умотал. Сдаюсь. У него там пружина, или шило, или моторчик.
Палыч, привязанный к Полинкиной руке поводком, упирался всеми четырьмя лапами в землю и, громко рыча, тянул соперницу обратно на поле брани.
- Нет. И не упрашивай. Я сдаюсь. Ты победил.
Палыч, будто понял русскую речь подошел к Полине и начал лизать ей лицо.
- Ну вот. Опять он с французскими поцелуями. Охальник, - деланно возмутился я. – Хорошая тактика. Умотал женщину до бесчувствия – и делай, что хочешь.
Полинка упала на спину и положила Палыча себе на живот. Тот распластался, как тюлень, уткнув свою толстую морду между ее грудей.
- Ну это уж ни в какие ворота.
- Пусть поревнует, малыш, пусть. Иногда полезно, - подначивала меня Полинка.
Я столкнул Палыча на траву, а сам прижался к ее груди головой.
- Мое. Понял?
- «Она моя! - сказал он грозно,-
Оставь ее, она моя!
Явился ты, защитник, поздно,
И ей, как мне, ты не судья.
На сердце, полное гордыни,
Я наложил печать мою;
Здесь больше нет твоей святыни,
Здесь я владею и люблю!»
И Ангел грустными очами
На жертву бедную взглянул
И медленно, взмахнув крылами,
В эфире неба потонул,
– продекламировала Полина рассмеявшись.
- Ну вот. Меня уже в демоны записали.
- Иди ко мне, - неожиданно, с силой притянула она меня к себе и заглянув прямо в глаза прошептала, - Ты. Только ты – мой ангел, мой демон. Мой! Мой! Мой!
Последние слова Полина уже почти кричала. Она прижалась ко мне всем своим разгоряченным телом и принялась неистово покрывать жаркими поцелуями все мое лицо, шею, грудь. Схватила руки и начала целовать и их, потом перешла снова на лицо и, наконец, впилась в губы долгим-долгим поцелуем.
- Ой, - вдруг резко отпрянула она от меня. В голосе звучала тревога - ты в порядке?!
- Нет, - в полузабытьи ответил я. – Я на небе.
- Я серьезно, Сенечка. Ты не испугаешь больше меня?
- Полинка, любимая. Я же поклялся тебе страданиями Христа, отцом своим и матерью своей, душой своей бессмертной, что больше никогда не испугаю тебя.
- И моей грешной душою клянись.
- Клянусь твоей грешной душою, - сдался я, лишь бы она успокоилась.
Я говорил в шутку, но она была серьезна.
- Хорошо… Ой, посмотри на Палыча, - перевела она взгляд на щенка.
Пес сидел в смешной позе. Задние лапы были сложены вместе. Попа скосилась набок. В ту же сторону была наклонена морда а глаза с немым изумлением смотрели то на меня, то на Полину.
- Ничего, малыш. Я тоже вижу такое впервые.
Мы оба рассмеялись.
- Ой, как я проголодалась, - положила руку на живот Полина.
Я взглянул на костер. Дрова уже подсохли и он разгорелся достаточно, чтобы можно было начинать жарить. Я взял заранее приготовленные шпажки из тоненьких веток ольхи и насадил на них по две сосиски. Одну шпажку протянул Полине.
- Вот. Держи над огнем. Ой, нет. Я сам. А ты порежь хлеба. Нож в сумке.
Поджаривание сосисок на открытом огне – пятиминутное дело. Полина разрезала еще шипящие, покрытые коричневой корочкой сосиски пополам вдоль и разложила по толстым кускам мягкого черного хлеба. Получилось четыре аппетитных бутерброда.
- Два тебе и нам с Палычем по одному.
- Там еще есть две сосиски. Палычу жареное вредно. Пусть ест сырые, а нам с тобой по два.
С этими словами я полез в сумку, достал два стакана и бутылку шампанского. Стаканы поставил на траву и начал снимать фольгу с горлышка. Вдруг, Полина встала, подошла ко мне и, опустившись на колени, положила свою горячую ладонь на мою правую руку, ту что пыталась открыть бутылку.
- Сеня, - тихо заговорила Полина, - я не хочу, чтобы мы сегодня пили.
Она смотрела в землю. Потом вскинула на меня свои серые глаза, сделавшиеся теперь почти черными. Они горели огнем.
- Понимаешь?
- Да.
Да!
«Да».
Когда я произнес это «да», у меня в голове зазвенело, будто прямо над ухом кто-то хлопнул в ладоши. Не знаю. Никогда в жизни я больше не говорил такого «да». Никогда, впредь, не испытал таких сложных чувств от такого короткого своего слова. Возможно, подобное испытывает мужчина, если говорит его, стоя перед администратором-распорядителем загса, когда тот, в дурацкой широкой ленте наперевес, произносит: «Обязуетесь ли вы…». Или в храме перед алтарем, когда, сверкающий шитой золотом парчой, седовласый батюшка вопрошает: «Клянешься ли ты…». В это «да», за одно мгновение, вместилось все. Разрушение, отказ от всей прошлой жизни, что была до этого «да». Страх перед абсолютно неизъяснимым, непонятным и… до дрожи желанным будущим. Вот она, эта боль, которую я не мог найти еще минуту назад. Вероятно, если бы младенец, только что, еще эмбрион, мог бы мыслить (а может, он и мыслит, кто знает), то, перед первым своим вдохом, именно такие чувства переполняют его, и, секунду подумав, он кричит «Да!» своей новой неведомой жизни. Нет теперь для него теперь уютной материнской утробы. Тепла, сытости, защищенности. Всё, отныне, ему будет по-другому. Впереди жестокая, неуютная, непонятная даль. Но как хочется окунуться в этот холодный, пугающий и… манящий океан и плыть, плыть, плыть, более никогда не оглядываясь на покинутый навеки берег. «Вот она, твоя плева, Арсений. Вот она, твоя боль, кровь и… восторг!».
- Да.
Я положил бутылку обратно в сумку. Встал на колени напротив Полины и взял ее за руки.
- Да, любимая.
- Да, любимый.
Вдруг, я услышал за спиной чье-то частое дыхание. Я обернулся. Огромный ротвейлер, черный, с рыжими подпалинами, в строгом железном ошейнике без поводка. Пасть полуоткрыта. По мокрым отвислым брылям по обеим сторонам ужасной челюсти стекает слюна. Застывший взгляд устремлен на щенка. Все тело собаки напоминает сжатую пружину. Еще секунда, и он бросится. То, что я сделал, было рефлексом – не рассуждением, не осознанным решением. Перепрыгнув, прямо с колен, через костер, я кинулся к Палычу, схватил его в охапку и, подмяв себе под живот, уткнулся головой в землю.
Тявкают только те собаки, которые и не собираются кусать. Они пытаются извинить (как, часто, и люди) своим высоким голосом свою низкую нерешительность. Ротвейлер молча, лишь с глухим рыком, сделал огромный прыжок и вцепился мне в плечо. Боли, как ни странно, я в первую секунду, не почувствовал вовсе. Мозг, как-то сам осмыслил, что в тело впились острые зубы и дал команду сжаться еще сильнее. Я только чувствовал жесткую мелкую дрожь щенка. Ротвейлер отпустил мое плечо, отскочил и попытался забежать с другой стороны. Не я был его целью.
Но тут раздался крик, который человеческим назвать никак нельзя. Он был такой силы и такой тональности, что описать его невозможно. Исходил он от Полины. Собака остановилась, как вкопанная. В испуге посмотрела на Полину и, о чудо! поджав обрубок хвоста, опрометью кинулась в лес, откуда доносились крики, видимо, хозяина: «Торрес! Ко Мне! Ко мне!»
Полина стояла не шелохнувшись, белая как мел, глаза безумны. Наконец, я почувствовал острую боль в плече и теплую липкую влагу своей крови. Вид ее, видимо, вывел Полину из оцепенения. Она бросилась ко мне.
- Боже! Боже! - причитала она, будто в бреду. Разодрала майку на моем плече, оторвала рукав и прижала к кровоточащей ране. - Ты обещал! Ты клялся, что больше никогда не испугаешь меня. Да что же это! Почему второй раз в такую минуту. О чем ты хочешь предупредить? Боже!..
- Смотри, прервал я Полинкины излияния.
Она посмотрела туда, куда я указывал взглядом. Палыч, как ни в чем не бывало, сидел привалившись своей песочной спиной к Лехиной сумке и невозмутимо дожевывал последние полсосиски. Мы рассмеялись. Полинкин смех, поначалу, больше походил на всхлипывания, но, постепенно, наконец, приобрел свой прежний серебристый тембр.
- Вот подлец. Хоть бы с хлебом ел.
Палыч, будто поняв, о чем я, принялся за хлеб, который успел впитать сок сосисок. Складки на его морде смешно двигались в такт его аппетитному чавканью. Я вдруг ощутил, что ужасно голоден.
- Он оставил нас без обеда, Полинка, - ласково взглянул я на нее. – Избавительница наша.
- Понять до сих пор не могу. Почему он сбежал?
- Потому, что он – собака. Иерархия внутри собачьей стаи строится на размере особи и громкости лая. Когда ты так … неистово закричала, он понял, что голос у тебя сильнее. А увидев тебя в полный рост… При всей твоей субтильности, согласись – ты больше него. Вот он и понял, что залез не в свою миску.
- Но ты же гораздо больше меня. А он тебя укусил, - возразила Полина. Она почти успокоилась.
- Он дрался за добычу, а я не оказывал сопротивления и не лаял.
- Дрался?! Он чуть тебе полруки не откусил.
- Не посмел бы. Эта рука, как и все остальное в этом бренном теле, принадлежит тебе. А ты ведь теперь его повелительница. Поверь. Сожми он челюсти в полную силу – он бы кость в мелкую крошку превратил бы. Он просто обозначил свое право на щенка. Собственно, это он сказал «отдавай» на своем собачьем языке. Лично я на него не в обиде. Собаки – хорошие люди.
Я обнял ее здоровой рукой и поцеловал.
- Пойдем к Лехе. Он что-нибудь придумает. Надеюсь, он уже погрузил холодильник.
- И, надеюсь, у него еще есть сосиски, - улыбнулась Полина. Но вид у нее был изможденный.
- Ну вот. Полагаю, если собака с ошейником - то привита. Но положено сделать шесть уколов иммуноглобулина. Во время уколов – никакого спиртного. После последней прививки – шесть месяцев не употреблять алкоголя. Вы должны обратиться по месту прописки. Сдать анализ крови. Они там решат. Но они, чтоб не рисковать, обязательно назначат уколы. Самое лучшее - найдите хозяина, сходите с ним и его псом к ветеринару. Пусть даст официальное заключение о здоровье собаки и Вы свободны.
Медсестра, оказавшаяся Лехиной соседкой, закончила перевязку. Предварительно она сделала мне какой-то обезболивающий укол и я сейчас чувствовал только, что плечу очень тепло, даже приятно. Наверное, это был укол с морфием.
- Ну, что, герой. Давай-ка мы с тобой по маленькой. Полагаю, до уколов можно? - сказал Леха, после того, как проводил соседку. - Выпьем за тебя. Да и стресс снимешь.
С этими словами он полез в холодильник и достал початую бутылку водки.
- Да я и испугаться-то толком не успел. За Полинку выпей. Если бы не она, нас бы с Палычем на куски порвали.
- Нет Леша, мы с Сеней не будем, - ответила Полина за нас обоих. - Ты выпей за избавление. За Палыча.
Полина нежно поглаживала спящего щенка, уютно свернувшегося у нее на коленях.
- Его Бог спас. Прогнал такую баскервилищу. Это было чудо.
- Ну, не хотите - как хотите. Я поставлю вам чаю. А сам, таки, выпью.
Леха зажег газ, поставил на плиту чайник и налил себе полстакана водки.
- Друзья мои. Я, грешный, в Бога-то не верю. Но, совершенно определенно, я теперь верю в крестных родителей. В то, что они даны, уж не знаю, кем, но даны оберегать своего крестного ребенка. Спасибо вам.
Мы тряслись в вагоне метро. Мы ехали ко мне. Рука, подвязанная к шее пестрым шелковым платком Лехиной матери, начинала ныть (видимо, укол переставал действовать), а в плече я стал ощущать толчки своего сердца. Полина прижалась к моему правому, здоровому плечу. Видно было, что она силилась что-то сказать, но никак не решалась. Наконец, она собралась с духом.
- Сенечка. Может…
- Нет, Полина. В жизни будет еще много ротвейлеров, много зубов и крови. Мы с тобой не должны с первых минут отступать. Отступишь раз – потом всю жизнь будешь бегать поджав хвост. Собака была послана во испытание нам. Она появилась сразу после того, как мы оба сказали «да», а, значит, все решено. Сравни эти два события и ты поймешь, как они несоизмеримы.
Сам изумляюсь. Откуда взялась во мне эта твердость? Я совершенно забыл о тех страхах, что мучили меня за минуту, да и за долгие дни, до инцидента. Так или иначе, эта моя твердость в миг передалась Полинке. Она прижалась еще сильнее к моему плечу, закрыла глаза и прошептала: «Любимый мой. Мой принц».
Молитва
Не только сны, видения, знамения, кои еще поди грамотно истолкуй да осмысли, но и прямо указующие факты… Ничто не может противостоять человеку, если он просто ХОЧЕТ. А если ХОТЯТ двое!.. нет силы, способной их остановить. Оступится один, даст слабину – его тут же поддержит другой. Они дойдут до предела и благодаря, и вопреки. Лишь в начале опасного плаванья, человек помнит, зачем, собственно, он отправляется в этот путь. Но, сев в лодку и отчалив от берега, он не вернется обратно, даже если б и захотел передумать. Он не вернется не потому, что не хочет передумать. Не потому, что честь ему не позволит взглянуть в глаза провожавшим его несколько минут назад. И не потому, что неумолимое течение просто не позволит ему этого сделать. Он…. Он просто напрочь забывает, зачем ему это было нужно. Сам факт движения вперед становится самоцелью, смыслом всех его устремлений. Это очень, очень глупо. Но так устроен человек.
Когда мы приехали в Оружейный, было около шести. Всю дорогу молчали, но думали об одном. Мы с Полиной вошли в дворницкую уже, как во храм. Нет. Не прошедший день, не случай с собакой настроил нас на такой лад. Казалось, мы думали, знали о сегодня с первой минуты знакомства. В известном смысле, мы стояли лишь перед пустой формальностью. Едва я переступил порог…. Нет не страх – священный трепет поселился во мне.
- Полин. Поставишь чайник? Я схожу к ребятам за анальгином.
- Иди, родной, - ответила Полина, - я тут приберусь немного.
У ребят я несколько задержался. Во-первых, я выпил, прямо у них, сразу три таблетки. Сегодня хотелось совсем забыть про боль. Во-вторых, мне пришлось пересказать мужикам всю историю с ротвейлером. В-третьих, я попросил намотать мне еще бинта поверх, успевшей промокнуть, повязки, предварительно положив на место раны целлофановый пакет. Я очень не хотел, чтобы Полину смущал вид моей крови.
Когда я вернулся, комната преобразилась. Горела лишь моя зеленая лампа, заполняя все пространство, казалось бы, давно мне привычным, но сегодня – каким-то особенным, таинственным светом. Книги, бумаги, посуда, всегда пребывавшие обыкновенно на моем столе, пепельница, сигареты, коробки с магнитофонными кассетами - все было убрано. На нем стояли лишь две чашки с дымящимся чаем. Играла тихая музыка. Полинка знала все мои кассеты. Она поставила «Animals». Pink Floyd только в прошлом году выпустили этот диск. Я с трудом достал качественную запись. Музыка эта оказывала на меня сильное, я бы даже сказал, потустороннее воздействие. Сознательно или нет поставила она этот диск, но самая большая композиция на нем была посвящена собакам и так и называлась - Dogs.
Сама Полинка полулежала на кровати левым локтем опершись на подушку. На ней была моя белая спортивная футболка с номером 3 (под этим номером я играл за школьную баскетбольную команду), которая доходила ей почти до колен. Что-то подсказывало мне, что под ней на Полине не было ничего. На кровати лежала еще одна моя футболка, но с седьмым номером. Этот номер я получил уже в институтской команде.
- Сними, Сенечка, Лешину майку (Леха дал мне свою, потому, что моя была вся в крови и без рукава). Я ее потом постираю.
Я переоделся и сел рядом с Полиной на край кровати.
- Вот теперь – мы - настоящая команда, - улыбнулась она. – Принеси, пожалуйста, чаю, милый.
Я подал ей чай и снова сел. Самому мне пить расхотелось. Я не мог оторвать от нее глаз. Я понял, что преобразилась не комната – преобразилась она. Я понял, что впервые вижу ее вот так, такой обычной, домашней. Футболка выглядела совсем, как ночная рубашка. Ворот был для нее слишком широк и, сползши чуть набок, обнажал ее хрупкое детское плечо.
- Если будешь так сверлить меня взглядом, я выключу свет, - шутливо сказала она, - ты будто в первый раз меня увидел.
- Такой – в первый раз.
- Какой это такой?
- Будто мы с тобой живем вместе сто лет, ты только что проснулась и пьешь утренний чай.
- Так и есть, родной. Только логики в твоих словах нет совсем. Живем сто лет, а видишь в первый раз.
Она потянулась через спинку кровати, чтобы поставить чашку на стол. При этом, пола футболки, потянувшись за ее рукой, почти полностью обнажила ее бедро. Сердце у меня застучало так, будто хотело перекричать музыку. Поставив чашку, Полина приняла прежнее положение, но футболку оправлять не стала. Она перехватила мой взгляд, улыбнулась и, взяв мою руку, положила мою ладонь себе на колено.
- Какая она у тебя…. Прямо горит.
Я было подался вперед, но вдруг вспомнил, что не закрыл дверь.
- Прости, малыш, я сейчас.
Так жаль было отпускать завоеванное колено, но страх перед возможным вторжением был сильнее. Я быстро встал, подошел к двери и накинул крючок на петлю. Когда я вернулся, Полина лежала на спине. Она протянула ко мне обе руки.
- Иди ко мне. Ложись рядом. И…, Сеня, сними джинсы. Нельзя на постели в одежде, - улыбнулась она.
- Ты…, ты не…, не вык…, выключишь свет? - вдруг начал заикаться я.
- Не-а, - ее глаза смеялись. – Ты мой муж. Чего это я должна свет выключать?
Ее смелость меня поражала и обескураживала. До сего дня мы тысячу раз обнимались и целовались. Но наши руки никогда не переходили границ дозволенного. И колена ее, я сегодня дотронулся впервые. И вот она, уверен, обнаженная, в одной лишь футболке, зовет меня снять джинсы и лечь рядом. Я ужасно покраснел и она, заметив мое смущение села прямо и серьезно сказала:
- Послушай, Арсений. Сегодня в лесу, делом, потом, в метро, словами, ты дал мне силы. Я с тобой больше ничего не боюсь. Я доверяю тебе, и верю в тебя, как в Бога. Мне нечем доказать тебе мою преданность. Ты просто поверь мне. Я твоя навеки. Ничто на свете уже не сможет этого изменить. Я хочу, чтобы ты верил мне так же, как я верю тебе. Я - твоя жена, ты - мой муж. Так решили небеса. Ты сегодня готов был ценой жизни защитить щенка. И я поняла, что наши дети всегда будут в безопасности, что бы ни случилось. Позволь отплатить мне тебе за это. Позволь дать тебе силы. Я ничего не боюсь. Я не боюсь предстоящей боли. Я даже желаю ее. И ты ничего не бойся. Иди ко мне. Единственное, чем я могу доказать тебе свою преданность и доверие… вот…
С этими словами она резко, буквально сорвала с себя футболку. Ее красота ослепила меня осветив всю комнату потусторонним сиянием. Лицо ее горело. Но это не был стыд. Скорее, она выглядела амазонкой, приготовившейся к бою.
- Иди, я помогу тебе.
Она встала на колени на краю кровати. Свет от лампы падал так, что она оказалась почти в контражуре высвечивая золотом контур ее идеального тела. И, каким-то непостижимым образом, волосы на ее лобке светились волшебным светом. Она притянула меня к себе и резким движением потянула мою футболку вверх. Мне пришлось поднять обе руки и я, пытаясь вытерпеть боль в плече, заскрипел зубами.
- Ой, прости, прости, милый, - кинулась она целовать мое плечо через бинты. – Все. Все, мой хороший. Все сейчас пройдет.
- Ничего, малыш, все в порядке, - успокаивал я.
Хотя плечо ужасно ныло, но все тело мое уже напряглось в ожидании чего-то гораздо большего, чем эта боль. Она расстегнула ремень, пуговицу на джинсах и молнию. Мало чего соображая, я начал ей помогать. Сбросил кроссовки, сел на кровать и быстро снял джинсы и носки, побросав все это на пол. Она по-прежнему стояла на коленях, но уже у меня за спиной, положив руки мне на плечи. «Иди до конца», - твердо произнесла она, когда, оставшись только в трусах, я, в замешательстве, остановился.
Черт. Я всегда считал, что, насколько прекрасно женское обнаженное тело, настолько же отвратительно обнаженное мужское. Конечно, когда смотришь на фигуру Микеланджеловского Давида, такие мысли тебя не посещают. Но тут…. Тощий, перемотанный бинтами, как мумия, и с противоестественно выпирающей плотью… Ужасно покраснев, не лицом, а всем телом, как мне казалось, я сбросил трусы на пол и застыл, не понимая, что делать дальше. Мужество, которое я, давеча, так ярко и, видимо, случайно проявил сегодня, сейчас совершенно оставило меня. Тут… закончилась кассета.
Переверни ее, Сеня. Там, кажется, «Wish You Were Here»?
До магнитофона, стоящего на полу в углу комнаты нужно было пройти пару метров. Я встал, дошел до магнитофона, присел на корточки, перевернув кассету, нажал «Play» и… застыл. Надо было встать, развернуться лицом к Полине и преодолеть эти самые два метра до постели. Тихо, будто из-за облаков, зазвучала композиция «Shine On You Crazy Diamond», еще более фантастичная, чем «Dogs».
- Встань и иди, - услышал я за спиной ее нежный и, вместе с тем, твердый голос. Думаю, она без ошибки читала все мои мысли.
- Ты говоришь так же, как говорил Христос почившему Лазарю.
- А мне вдруг и показалось, что ты там умер, - весело ответила Полинка.
Тон ее голоса ободрил меня. Я встал и повернулся к ней.
- Боже, как ты красив…. Ты красив, как Парис. Нет. Как сам Господь Бог.
Полина соскочила с кровати и босиком прошлепала ко мне. Подошла. Прижалась всем телом. Затем, медленно опустилась передо мной на колени, обхватила его обеими раскаленными ладонями и, с детским любопытством, стала рассматривать.
- Какой смешной, - хихикнула она. – Через минуту, ты будешь во мне, - начала разговаривать она с ним, как с живым. Я ждала тебя всю жизнь. Тебя зовут Арсений. Ты - причина, начало и конец всего. Ты – альфа и омега бытия. Или…, «хотя бы поклянись любить, и я не буду больше Капулетти».
Она закрыла глаза и, не разжимая рук, продолжала:
«Ведь только лишь твое мне имя - враг.
И можешь ты иначе ведь назваться -
И все равно останешься собой.
Что в имени? Оно же не рука
И не нога, и с телом не срослося.
Не будь Монтекки. Под любым другим
Названьем роза так же сладко пахла б.
И назовись Ромео по-другому,
Он будет совершенен и тогда.
Отбрось пустое имя - и взамен
Возьми меня ты всю…».
Странная это была сцена. Было похоже, что она молилась фаллосу, как Богу. Не знаю, что могло бы подуматься стороннему наблюдателю…. Плевать. Но со мной что-то произошло. Я, после этой странной молитвы, совершенно перестал ее стесняться.
Полинка вскочила на ноги и рассмеялась.
- Глупо? Ты, наверное считаешь меня чокнутой? Ты прав. Ты свел меня с ума. Пошли.
Она взяла меня за руку и потянула к кровати. Сорвала зеленое покрывало на пол и бросилась лицом в подушку. С минуту была недвижна. Потом, резко перевернулась на спину и, не открывая глаз, горячо прошептала: «Все. Иди. Жребий брошен!».
Лампочка под зеленым абажуром издавала странное жужжание. Я лежал на спине. Полина, обессилевшая и счастливая, лежала головой на моей груди, обвив своими ногами мое бедро. По нему, тонкой струйкой сбегала кровь. Минут десять мы молчали.
- Я, может еще и не знаю, что такое истинное плотское удовольствие от секса, - произнесла, наконец, Полина. - Зато я знаю, что я испытала самое сильное удовольствие на земле, которое уже никогда не испытаю. Видимо, это то, что дается человеку один раз. Как рождение. Как смерть. Спасибо тебе, мой Бог.
Она крепче прижалась ко мне, поцеловала в грудь и опять замолчала. Описать мои мысли я не берусь. Мне совсем не хотелось говорить. Я плохо соображал. Сладкое опустошение. Я лишь понимал, что все то, что я испытывал до этого дня, этой минуты… – тлен, иллюзия, фикция, ноль.
Ничтожество!
- Надо вымыться, - очнулась Полина. – У тебя есть свежая простыня? Эту я постираю.
Я приподнялся на локте. Плечо заныло. Только теперь я вспомнил, что ранен. До этого, не то, что боли – я тела своего не чувствовал.
- Я пойду, согрею воды в ведре. У меня есть тазик. В нем ты вымоешься.
- И ты. Тебе ведь тоже досталось? Испачкался? Странно, - задумчиво произнесла Полина, - какой странный день. Кругом сплошная кровь. Кровь ведь основа жизни? А из нас двоих она сегодня хлещет ручьями.
Я сел на кровати, и стал искать на полу одежду. Трусы одевать не стал. Натянул джинсы на голое тело. Кровь на мне еще не засохла. Она стала вязкой и липкой. Застегнулся. Прошел на кухню и включил свет. Мои рыжие квартиранты дружно засуетились и быстренько разбежались по щелям. Эмалированное ведро с водой, которую я держал для умывания и питья, было почти полным.
Я взял ведро и сбросил крючок с петли. Собрался было идти, но вернулся в комнату и позвал: «Полинка, найдешь там в шкафу чистые полотенца? Должны бы оставаться еще». Затем развернулся идти и… превратился в соляной столб.
В раскрытой настежь двери, улыбаясь зловещей улыбкой, стояла царица Тамара, а из-за ее спины любопытным хорьком выглядывало рыжее рыльце Риты.
- Так-та-а-ак, - оттолкнув меня плечом, шквалом прорвалась в комнату Тамара. Рита осталась в двери. Выражение глаз ее можно было бы сравнить, только с глазами школьника в цирке, ожидающего появления слонов. Полина села на кровати, поджав ноги, сама вся сжалась, схватила одеяло и, скомкав его на своей груди растерянно глядела то на меня, то на Тамару.
Тамара, долго, с каким-то садистским удовольствием разглядывала трепещущую, как лань, Полину. Потом, она медленно подняла глаза на меня.
Все. Все мои видения и предчувствия. Старик, облака, Юрка, ротвейлер. Все, в секунду, промелькнуло перед моими глазами. Я понял, что это конец.
- А ну-ка, что это тут? – Тамара стремительно подошла к кровати, и с силой дернула одеяло, которым прикрывалась Полина.
Полинка вцепилась в него мертвой хваткой обреченного и снова натянула на себя. Но все успели увидеть ее великолепные мраморные бедра, испачканные кровью, цвета спелой вишни.
- Так вот, значит? Насилуем непорочных девиц? - загремела Тамара. – Хар-рош-ш. Хорош! Правда, Ритуля? Какие кадры мы с тобой воспитали! Загляденье.
- Гы-гы, - глупо гыкнула из своего угла Ритуля.
Я смотрел в пол и мне было жутко. Но когда я, наконец, осмелился поднять глаза на Полину… Страх, безумный страх, но более… непонимание…, вопрос. «Что это? Кто это? Что происходит?.. – кричали ее глаза. И, самое страшное. – Спаси меня, Арсений! Ты же мой Бог!».
Тамара подошла к столу, взяла стул, вернулась, поставила его прямо напротив кровати и, усевшись, вперила свой грязно-голубой взор в Полину. Минуту ее гипнотизировала, с отвратительной гримасой пошлого удовольствия на лице, затем, медленно произнесла:
- Ну, что. Можно составлять протокол? – подняла она бровь в сторону Ритули. – Факт извращения налицо.
- Как вы смеете! - вдруг прорвало Полину, которая, увидев, что я парализован, начала действовать сама, - кто вы такая, чтобы!..
- Кто Я такая? - рассмеялась, нагло стреляя Полинке в лицо кашляющим смехом, Тамара. – Я твоя смерть, девочка. Да-а. Тебе сколько лет? Восемнадцать? Не дури (отреагировала Тамара на невольное движение Полины), малышка. Нашему мальчику-колокольчику только семнадцать. Несовершеннолетий. Развращаешь советскую молодежь, сукина дочь? – тут она протянула руку к одеялу и картинно его приподняла. - Так я это мигом улажу.
- Маргарита Степановна, - обратилась она к Ритуле, - давайте-ка формы. Составим протокол, да и в дело. Надоел мне этот дворницкий разврат… в печень надоел.
- Сию минуту, Тамара Степановна, - отозвалась рыжая, впрочем, не двинувшись даже и с места.
Я не мог поднять глаза. Пусть она честит. Пусть выгонит за разврат, за все, что угодно. Лишь бы не начала про нашу с ней связь. Я боялся только этого.
- Да как вы смеете! – взорвалась Полина. - Мы – муж и жена. Мы любим друг друга!
- Ах вот ка-а-ак?! – зазвенел металлом Тамарин голос. – Жена-а-а!.. Ты слышала, Ритуля, Же-на!
Тут я понял, что это совершенно конец.
- Тамара Степановна, прошу вас, - взмолился я, понимая, что сейчас она приступит к рассказу.
- Да что с тобой, Арсений, - уничтожающе ухмылялась Тамара. – Тебе же нравилось втроем. Правда, Ритуля? Да и нам, грешным, хоть и изнасиловал ты нас до…, дальше некуда…, понравилось. Я уж столько раз не кончала во всю свою жизнь, сколько за ту волшебную ночь.
Она резко развернулась к Полине.
- Видишь ли, дочка. Ты думала, что взяла в свои субтильные ручонки алмаз неограненный?
- Я думаю, что Вы – свинья. И наговариваете на моего мужа! – совсем взорвалась Полина.
- Мужа? – опять закашлялась Тамара. – Пускай будет «мужа». Вы даже поженитесь. Будете жить мирно и счастливо. И даже умрете в один день… Но…, девочка, ты его отпускай иногда. Ибо он любит, когда две красавицы ему вылизывают член и яйца. Да и сам он – не против пройтись по женским кискам язычком. Так ведь? Арсений Павлович? Нравится, как пахнет между ног у моей сестрички? Тебе нравилось. Забыл? А, может?.. Займемся вчетвером? Иди сюда… как тебя там?
Полина перевела свой безумный, непонимающий взгляд свой, на меня. И он спрашивал, кричал: «Скажи мне, что все это ложь. И я их уничтожу! Я буду любить тебя вечно!».
Какой дьявол меня толкнул тогда под руку?
- Полина. Что было до тебя, то было. В том числе и это. Плохой опыт. Ты можешь найти в себе силы простить меня?
Я уже ни на что не надеялся. Я просто смотрел в ее глаза. Но, глаза ее стали холодными как сталь.
Она встала, и, не держа более одежды и одеяла на своей груди… Нашла свои кроссовки. Надела их… поискала глазами майку… Нашла. Одела.
Через минуту она была абсолютно готова.
- Позволь…, кое что тебе сказать, напоследок, - молвила она, как в забытьи. Я люблю Тебя. Но… Не приведи тебя Господь, хоть кого-то еще обмануть. Меня же… Если б поскорее забыть – тем лучше…. Знаешь, почему? Я уже мертва. Я заклинаю тебя! Забудь о том, что я была. У меня теперь свой путь.
Она остановилась в проеме двери. Задумалась. Обернулась.
- Ты – опасный человек… Ты - Ничто…
- Ты – НИЧТОЖЕСТВО!
Больше, я ее не видел никогда.
Все сказали облака
- Я все предвидел. Все сказали облака, залился слезами Арсений Павлович. - И всего-то у меня было два греха. И что?!
Из-за одной бабы я потерял друга, из-за другой – любимого человека!
Лицо Арсения Павловича вдруг будто окаменело.
- И, все ж таки, я считаю, что все твои видения, вовсе не предвидения будущего, а лишь предчувствия. Предчувствия, основанные на том, что ты хорошо понимал, чем может грозить то или иное твое действие, - бодро произнесло Время.
Такой жизнерадостный тон был вызван тем, что Время хотело как-то ободрить Арсения Павловича, который, совершенно разбитый последними воспоминаниями, сидел, уставившись в одну точку, а руки, лежащие перед ним на столе, заметно…, нет, не дрожали - они тряслись. Поняв, что его собеседник не реагирует, Время встало, подошло к столу и молча разлив водку по стаканам, поставило один прямо под нос дворнику, а со вторым вернулось к своему креслу. Усевшись, оно внимательно посмотрело на Арсения Павловича и по непроницаемому лицу Времени, еле заметно, пробежало что-то, отдаленно напоминающее…, жалость.
- Давай-ка вздрогнем, Арсений Павлович, - пыталось поддержать Время прежний оптимистичный тон. – Я дам тебе целых пять минут. Успеет по крови разбежаться.
Не отвечая и продолжая смотреть в одну точку, Арсений Павлович осушил свою долю, будто это была вода, поставил стакан и полез за трубкой. Набив ее табаком из «бычков», что заранее, следуя советам старика, он припас, на всякий случай, и раскурив, он, наконец, поднял глаза на Время. Стекло глаз старика, наконец, стало приобретать прежний живой блеск.
- Вот спасибо. За последние, не помню уж сколько лет, ты первый чел…, - Арсений Павлович осекся, вспомнив, кто перед ним сидит. – Да черт с ними, с предвиденьями этими-то. От них все одно никакого толку. Вот скажи, почему так? Почему это, одно цепляется за другое? Зачем так?
- Ну а как же иначе, Палыч? – обрадовалось Время, что старик ожил, - ну посуди сам-то. Ну возможно ли такому быть в физическом вашем мире, чтобы одним бильярдным шаром с размаху лупили по другому, а тот, другой, никуда бы не покатился?
- Это ясно. Но в мире полно событий, никак, напрямую, не связанных друг с другом, - возразил Арсений Павлович, – а они, один черт, встречаются между собой.
- Чудак ты человек, - усмехнулось Время. – Бильярдный стол-то один. И шестнадцать шаров с него никуда не денутся. И все на всех, так или иначе, влияют, начиная с разбоя. Давай представим, что есть в пирамиде два шара. Скажем, третий и седьмой. Один внизу, другой вверху пирамиды. Разбили. Разлетелись они по разным углам стола. Даже если случится так, что третий положат в начале партии, а седьмой в конце, и даже если они ни разу за партию не столкнулись, то в момент-то разбоя они уже влияли друг на друга. А случиться, может, и такое, что при счете семь-семь, на столе останутся, как раз, эти два шара, опять-таки ни разу не пересекшиеся между собой за всю игру. Для того чтобы партия закончилась, а она неизбежно должна закончиться, уж либо третий должен положить в лузу седьмого, либо седьмой третьего. Таким образом, встретятся или не встретятся эти двое, взаимное влияние их друг на друга неизбежно. И ничего тут не попишешь. Таков ваш причинный мир. А на столе, в конечном счете, останется только один единственный шар. А в выигрыше, как ты сам понимаешь, всегда не он. И, вообще, ни один из шаров. Шары нужны только для чьей-то игры.
- Вот я и остался один. Один единственный, никому не нужный шар. Не послуживший даже ни одному из игроков. Никому не нужный еди-и-и-и-инстве-е-енны-и-ий ша-а-ар, - вдруг завыл волком Арсений Павлович, - Поли-и-и-ина-а-а-а…
Время, увлекшись теоретическими рассуждениями о причинности мира, забыло вовремя захлопнуть свои часы, и вся водка, что выпил Арсений Павлович за этот долгий вечер, обрушилась на его дряхлый испившийся организм.
Арсений Павлович распластался на столе. Тело его содрогалось от рыданий.
Время тяжело вздохнуло.
- М-да… Ну что с тобой делать…
Однажды я уже нарушило свои обязанности с одним немецким доктором. Давно это было…
Время закрыло глаза и вдруг начало декламировать:
Кто я?
Часть силы той, что без числа
Творит добро, всему желая зла.
Я дух, всегда привыкший отрицать.
И с основаньем: ничего не надо.
Нет в мире вещи, стоящей пощады.
Творенье не годится никуда.
Итак, я то, что ваша мысль связала
С понятьем разрушенья, зла, вреда.
Вот прирожденное мое начало,
Моя среда.
Я верен скромной правде. Только спесь
Людская ваша с самомненьем смелым
Себя считает вместо части целым.
Я - части часть, которая была
Когда-то всем и свет произвела.
Свет этот - порожденье тьмы ночной
И отнял место у нее самой.
Он с ней не сладит, как бы ни хотел.
Его удел - поверхность твердых тел.
Он к ним прикован, связан с их судьбой,
Лишь с помощью их может быть собой,
И есть надежда, что, когда тела
Разрушатся,
Сгорит и он дотла.
- М-да-а-а…, - протянуло опять Время. - «Часть силы той, что без числа, творит добро, всему желая зла…». Может, у тебя что и выйдет, Арсений Павлович Штоц. Но только помни – ничего нельзя изменить, не изменив душу. Не изменишь, будешь по-прежнему идти спиной вперед – опять окажешься в дворницкой, а потом и на улице. Но... Тогда уж я к тебе не приду. Прощай.
Время начало растворяться в воздухе. Вместе с ним становились полупрозрачными его кресло, стол, рыдающий на нем Арсений Павлович, Стали исчезать стены и все немногочисленное содержимое убогого интерьера дворницкой. Наконец исчезло все.
Загремела музыка.
***
Она сидела очень прямо, положив ногу на ногу. Книга лежала на ее правом колене. Глаза опущены к чтиву. Огромные светлые ресницы (они были даже не накрашены). Тонкий-тонкий нос. Греческий нос. Полные маленькие губы в розовой помаде. Аккуратный подбородок и длинная тонкая шея. Короткая, почти мальчишеская стрижка. Он впервые видел ее так близко. Сердце его совершенно зашлось. Надо что-то говорить, но язык его совсем присох к гортани.
Тут Арсений увидел, как под ее ресницей начала набухать капля. Она росла, росла и, наконец, разрешилась стремительным ручьем, который пробежав по бледной щеке обогнул губы, скатился на подбородок и повис над книгой угрожая замочить страницы.
- Простите, можно поинтересоваться, что Вы читаете? – решился он, наконец. Вид слезы придал ему храбрости.
Она подняла на него свои огромные серые глаза, полные слез. Сняла очки и долго смотрела на Арсения, кажется, не видя его и не понимая вопрос.
- Простите, что Вы сказали? - очень тихо проговорила она, как бы очнувшись.
- Мне показалось, что то, что вы прочли, очень Вас тронуло. Можно узнать, что это было?
- Ах да, простите, - спохватилась она, - это Куприн, Гранатовый браслет.
- Тогда понятно. Вы в первый раз прочли?
- В первый.
- Тогда понятно, - глупо повторился Арсений.
- Это прекрасно.
Ее серые глаза близоруко смотрели сквозь него. Она по-прежнему была там, в книге.
- Как Вы думаете, если б он не застрелился, чем бы дело кончилось? – обрадовался он тому, что тема нашлась сама собой.
Полина задумалась, сдвинула брови, будто испытала боль и сказала:
- Было бы еще хуже.
- А, разве не говорит один из героев рассказа, что любовь должна быть трагедией?
- Это не главная мысль, - задумчиво произнесла она наклонив голову на бок и посмотрев куда-то вдаль.
- Я понимаю, - отозвался Арсений, - главная мысль в том, что единственная огромная любовь может пройти мимо?
- Точно, - кажется, она только теперь поняла что говорит с кем-то, - прошу прощенья, а Вы?..
- Я Арсений. Я с геофака. А еще я дворник при нашем институте.
- Дворник? Как интересно, - тут она спохватилась, - ой…, меня зовут Полина.
- Как красиво, ой..., простите..., очень приятно. Кажется, у нас с вами не самые модные имена?
- Модные? - искренне удивилась она.
Глаза ее уже просохли и смотрели с детским любопытством. У юноши кружилась голова. Он не мог поверить, что говорит с ней. И говорит так просто.
- Ну да. Как ни прискорбно понимать, но и на людские имена есть мода.
- Не знаю. Меня, кажется, назвали по церковному календарю.
- Но вы же..., - начал Арсений и осекся. «Вот ведь дурак», - подумал он.
Она рассмеялась.
- Еврейка?
- Простите.
- За что?
Он совсем потерялся.
- Я не помню, кто это сказал, но звучит это так, - продолжала она весело, - человек принадлежит к той нации, на языке которой он думает. Я думаю по-русски. Вот и все.
- Но тогда, полмира – англичане?
- И пусть. Я готова начать думать хоть на языке Буркина-Фасо, лишь бы весь мир думал на одном языке. Если все начнут думать на одном языке, значит весь мир будет одной нации. Тогда не будет войн, не станет страданий, голода. Все будут друг дружку выручать, поддерживать.
Щеки ее разгорелись. Она была совершенно по-детски искренна.
- Не знаю. Мне кажется, что мысль не имеет языка. А вот, когда она уже родилась, тут уж происходит формулирование на языке. Я вот, люблю Вас, и когда я это ощутил, я точно знаю – никакого языка не было...
Полина с любопытством посмотрела на Арсения долгим взглядом, будто стараясь в его глазах разглядеть свою судьбу…
Июль, 2009 год.
Рейтинг: 0
717 просмотров
Комментарии (0)
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Новые произведения

