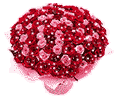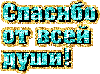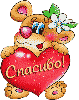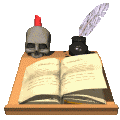В центральном парке под детский крик
На вид – не ветхий, хоть ростом мал.
Одет не броско, но был лощён.
Лицо в морщинах, а профиль юн…
Сказал со злобой, чуть сбросив спесь:
Куда не кинься - одна лишь масть.
Старик охотно слегка зевнул,
И без испуга, чуть сжав кулак,
сказал без фальши: «Садись, не стой.
Упитан, молод, в джинсу одет.
Кузнец бы вышел с тебя как есть.
Мозги я вправлю - вправляю всем -
Ты, дед, покойник, в гробу лежишь...»
Со мною сильный, здесь, в палке, яд -
промолвил лихо в ответ старик.
Сидели долго средь бела дня.
Так, если кратко, вся жизнь течёт -
Молчанье в тягость. «Прости, отец, -
Что я мешаю, ты не сердись». ты из вояк?
Другой бы помер, глотая страх -
Да и за словом в карман не лез.
Ты - не волшебник? Скорей ответь».
сказал со вздохом. - А вот теперь
«Один остался совсем как перст?
Ответь мне тут же, сейчас скажи:
«Меня, не зная, меня винишь.
была нескладной... Мне внутрь не лезь...
Слова не скомкав, сощурив глаз,
«От счастья плачет, хлебнувший бед. и я на свет
днём жарким летним прям на жнивье…
Село – не город. Да вот беда -
Познал с пелёнок благую весть:
Познал всё оптом – и не забыть,
Как мать терпела? Где сил брала?
Лихое время шло по пятам.
Как волчья стая, трудился люд,
Судьба одна уж, бьют клином клин.
А братья старше лишились пут –
Отец от водки в могилу слёг.
Растил который, не зря ел хлеб.
Окреп, и скоро судьбе назло
Пусть мать не ропщет, там труд в цене.
И пусть бумажник порою пуст,
Но вот досада, что нам далась:
Из грязи - лакмус - все шли в князья.
Не ели всласть мы, когда все пьют.
Звало нас поле, звал нас завод -
Хоть было тошно: зачем нам труд,
Ковали счастье мы без наук
Кто был капризней в двадцатый век,
Дошла до сердца тех бед волна:
У всей Европы вздымалась шерсть –
Не смыть позора, хоть прячь глаза -
Уж очень круто прошёл обряд.
За эту плату держать ответ -
И силы тратя, меняли власть.
Кому-то плаха, кому расстрел -
Стреляли много, на то - война.
Ни тьмы, ни света, но всё же мир.
Разруха, голод - в наследство дар.
Держались стойко, хоть не жилось.
Пахал при ветре, шёл на завод –
Беде свершиться за всё дано - пошли войной.
И вновь горело, стреляло всё.
Да, вся система не по летам.
Срока большие - здоровью вред.
Кому здесь душу старик открыл?
Такие сразу видны у нас.
И вот как ястреб взлетел птенец.
«Ты жди, убогий, будь на виду.
сказал, кто слушал, исчезнув вмиг.
Вернулся вскоре, привёл двоих -
Как будто есть в том какой-то смысл,
скрутили руки, мол, пойман враг.
Забыть былое не даст нахал -
Таких, как эти, защитой был.
На том зачтётся, на том простят.
Кому, чтоб в муках других хранить,
Старик шёл гордо, мол, всё равно,
Под солнцем ярким лежал, как скот, (1999)
[Скрыть]
Регистрационный номер 0431557 выдан для произведения:
В центральном парке под детский крик
На вид – не ветхий, хоть ростом мал.
Одет не броско, но был лощён.
Лицо в морщинах, а профиль юн…
Сказал со злобой, чуть сбросив спесь:
Куда не кинься - одна лишь масть.
Старик охотно слегка зевнул,
И без испуга, чуть сжав кулак,
сказал без фальши: «Садись, не стой.
Упитан, молод, в джинсу одет.
Кузнец бы вышел с тебя как есть.
Мозги я вправлю - вправляю всем -
Ты, дед, покойник, в гробу лежишь...»
Со мною сильный, здесь, в палке, яд -
промолвил лихо в ответ старик.
Сидели долго средь бела дня.
Так, если кратко, вся жизнь течёт -
Молчанье в тягость. «Прости, отец, -
Что я мешаю, ты не сердись». ты из вояк?
Другой бы помер, глотая страх -
Да и за словом в карман не лез.
Ты - не волшебник? Скорей ответь».
сказал со вздохом. - А вот теперь
«Один остался совсем как перст?
Ответь мне тут же, сейчас скажи:
«Меня, не зная, меня винишь.
была нескладной... Мне внутрь не лезь...
Слова не скомкав, сощурив глаз,
«От счастья плачет, хлебнувший бед. и я на свет
днём жарким летним прям на жнивье…
Село – не город. Да вот беда -
Познал с пелёнок благую весть:
Познал всё оптом – и не забыть,
Как мать терпела? Где сил брала?
Лихое время шло по пятам.
Как волчья стая, трудился люд,
Судьба одна уж, бьют клином клин.
А братья старше лишились пут –
Отец от водки в могилу слёг.
Растил который, не зря ел хлеб.
Окреп, и скоро судьбе назло
Пусть мать не ропщет, там труд в цене.
И пусть бумажник порою пуст,
Но вот досада, что нам далась:
Из грязи - лакмус - все шли в князья.
Не ели всласть мы, когда все пьют.
Звало нас поле, звал нас завод -
Хоть было тошно: зачем нам труд,
Ковали счастье мы без наук
Кто был капризней в двадцатый век,
Дошла до сердца тех бед волна:
У всей Европы вздымалась шерсть –
Не смыть позора, хоть прячь глаза -
Уж очень круто прошёл обряд.
За эту плату держать ответ -
И силы тратя, меняли власть.
Кому-то плаха, кому расстрел -
Стреляли много, на то - война.
Ни тьмы, ни света, но всё же мир.
Разруха, голод - в наследство дар.
Держались стойко, хоть не жилось.
Пахал при ветре, шёл на завод –
Беде свершиться за всё дано - пошли войной.
И вновь горело, стреляло всё.
Да, вся система не по летам.
Срока большие - здоровью вред.
Кому здесь душу старик открыл?
Такие сразу видны у нас.
И вот как ястреб взлетел птенец.
«Ты жди, убогий, будь на виду.
сказал, кто слушал, исчезнув вмиг.
Вернулся вскоре, привёл двоих -
Как будто есть в том какой-то смысл,
скрутили руки, мол, пойман враг.
Забыть былое не даст нахал -
Таких, как эти, защитой был.
На том зачтётся, на том простят.
Кому, чтоб в муках других хранить,
Старик шёл гордо, мол, всё равно,
Под солнцем ярким лежал, как скот,