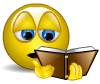ПОЭТ И ЛАМПА
ЧАСТЬ I
Глава 1.
Эта история приключилась несколько лет тому назад в одном доме, на окраине небольшого южного городка, там, где говорливо журчит река, прорезающая Синие горы Кавказа живым, блистающим клинком. В доме под зелёной крышей жил Поэт. У окна, на письменном столике, среди вороха бумаг, вспоминая младые дни, смиренно коротала время эбонитовая Лампа.
Долгие годы она пылилась невостребованной, но знала: каждая вещь должна кому-то служить, иначе незавидна её участь...
От тоски или праздности, у Лампы в душе стало что-то твориться. В тиши она подолгу предавалась размышлениям: «Странные люди, − пишут стихи, как мой хозяин, и называют это вдохновением. Впрочем, меня тоже в последнее время переполняют непонятные чувства... А он? – размышляла о Поэте Лампа, − сможет ли он понять меня, мою душу? Мне хорошо рядом с ним, кажется, я обретаю второе дыхание и как женщина начинаю им увлекаться...»
На столе Лампа занимала почётное место. Когда Поэт включал свет, в его глазах вспыхивали огоньки, словно он сам светился изнутри…
«Наверно, он полюбил меня, − озарило Лампу, − не зря же в его глазах пылает этот божественный свет!»
Была у Поэта также печатная Машинка, которая стала невольной соучастницей этой истории. По законам жанра требуется третий персонаж − Соперница, и на эту роль Машинка подходила идеально. Новенькая, недавно подаренная другом Поэта, она своей красотой возбуждала зависть Лампы и, поблёскивая белыми клавишами, Машинка словно посмеивалась над наперсницей.
Поэт же, как будто всё больше отдавал предпочтение Машинке: печатая он, то нежно, то страстно касался её клавиш, поглаживая пальцами по боковым округлостям, порой задумываясь и подолгу смотря в одну точку...
От быстрого и небрежного нажатия пальцами, клавиши иногда сцеплялись, Поэт чертыхался на машинку, и в этот момент Лампа ликовала, поскольку не желала делить с кем-либо предмет своего обожания.
Сама же она испытывала настоящее блаженство, когда Поэт дотрагивался головой её шляпки-отражателя, наклоняясь так близко, что слышно было дыхание и биение его сердца. В этот момент Лампа сильно накалялась. «Вот она любовь! – восторженно стучало у неё в висках, − какое же это необыкновенное состояние!»
Чувствовал ли Поэт её душевные перемены, трудно было понять бедной Лампе, она терзалась сомнениями, страдая от ревности, у неё часто стали перегорать лампочки. Хозяин вынужден был брать Лампу за лебединый изгиб шеи-штатива, выкручивать перегоревшую лампочку, меняя на новую. В такие минуты, довольная оказанным вниманием, Лампа благодарно светилась ответным сиянием, отдавая любимому весь накал своего электрического сердца!
Так продолжалось долгое время. Поэт писал и вслух читал стихи, в которых звучали слова: «любимая!», «единственная!»... Она принимала их на свой счёт и жалела, что в ответ не может произнести ни слова. А лампочки перегорали всё чаще и чаще…
Однажды, так неожиданно для Лампы, у Поэта вырвались гневные слова: «Так я скоро разорюсь на одних лампочках. Как ты достала меня, старая вешалка!»
Обращение явно адресовано было Лампе, но причём здесь «старая вешалка»? Наивная, она не знала, что люди, не задумываясь, часто говорят жестокие слова и совершают безрассудные поступки. Не догадывалась она, что для человека подобная вещь с двадцатилетним стажем действительно кажется рухлядью.
Так бы и мучилась Лампа в сомнениях на сей счёт, но вот однажды Поэт принёс в дом коробку. Он вынул из упаковки пахнущую новизной никелированную лампу и поставил на место прежней. Старую же взял за понурую шею и отнёс на улицу, бросив у мусорных баков...
Лампа, увидев удаляющуюся спину Поэта, задохнулась от горя и несправедливости: «Ах, зря я ревновала его к Машинке. Он просто не любит меня! Я для него оказалась «вешалкой», «старой рухлядью!»
Не хотелось Лампе верить в коварство любимого, но в глубине души всё же теплилась надежда, что это - всего лишь недоразумение, что Поэт вернётся, и она по праву займёт прежнее место. Разве может другая лампа, даже новая, светить так преданно? Она хотела только лишь радовать милого теплом и своей любовью, и большего-то ей ничего и не надо...
Глава 3.
Минул месяц.
Поэта почему-то покинуло вдохновение. Ему казалось, это лишь временным спадом, как уже бывало не раз, но время шло, а ничего не менялось. Может, воображение шалило?
Почему-то интуиция подсказывала, что это связано с Лампой.
«Старой или новой? Чушь какая-то…» − злился Поэт, сидя за столиком и печально глядя на печатную Машинку и на тускло светящуюся от пыли никелированную лампу, бездумно включая и выключая её...
Его одолевала мысль: почему Муза то спускается к нам по воле Всевышнего, то внезапно покидает нас? Он пытался оценить трезво своё состояние, но ничего не получалось. Время шло.
Неведомые силы управляют человеком и во сне. Однажды ночью ему приснилось, что он сидит за рабочим столом и в темноте тянется к любимой старой Лампе, чтобы включить свет. В этот момент из шляпки-отражателя на него глянули большие, мерцающие глаза. В темноте он стал различать тонкие черты женского лица, пунцовые губы и бледный лоб, подбородок и едва различимые ямочки на щеках, курносый носик. Губы сложились в улыбку, а тихий, зовущий голос, произнёс его имя... Поэт наклонился к Лампе-женщине, прикоснувшись, ожёгся, и с криком проснулся.
«Что за сон?» − лихорадочно думал он. Подушечка указательного пальца горела как от ожога, а в рассветных сумерках на столе будто ухмылялась никелевым отражением новая лампа.
Он стал вспоминать лицо женщины из сна, и оно показалось ему знакомым, где-то он будто видел его, но где?.. Через минуту утренняя сладкая нега снова обволокла, как молочный туман, и он погрузился в тот же сон...
С этой ночи, как по волшебству, сон возвращался к нему и вскоре стал желанным, как свидание с любимой. С надеждой он ждал ночи и этого сна, чтобы погрузиться в состояние, напоминающее волшебный фимиам. Во сне Поэт встречался с Незнакомкой из Неведомого мира, которую он мысленно называл Музой. Взявшись за руки, они блуждали в бесконечных лабиринтах сновидений...
Но видения прервались также внезапно, как и возникли. Он с тревогой ждал, а они не возвращались. Поэт теперь только и думал о своей Музе, он, кажется, влюбился в собственные сны, отчего испытывал отчаяние: «Что за рок играет со мной?» − думал он. На него напала хандра, а потом мелькнула мысль: «Надо бы разыскать старую Лампу. Что-то тут не так. Но где она теперь?»
Решившись, он заставил себя заглянуть на то место, где оставил её месяц назад. Лампы там, естественно, не оказалось. Подумав, он расспросил на всякий случай мусорщиков, бомжей, но и они ничего не прояснили.
Чувство тревоги и тоски нарастало, он тяготился пропавшим вдохновением, теперь совершенно уверенный, что его хандра связана именно с Лампой и с тем восхитительным образом женщины, стоящим перед глазами…
* * *
В молодости у Поэта была жена, дети, но в зрелости он остался один. Семейная жизнь не сложилась, зато у него было любимое дело, друзья и была надежда, что всё ещё изменится к лучшему.
Стихи, творчество требовали большой отдачи сил, он втянулся в сложившийся ритм: контакты, общения с интересными людьми, работа за письменным столом способствовали этому. Сейчас ему было как-то тревожно за себя, за неуют быта, за одиночество. А тут ещё сны, которые всколыхнули душу, и там, в самой глубине, вдруг всплыл забытый образ из далёкого детства. Ему, тогда ещё мальчику, попалась картинка в одной приключенческой книге с изображением прекрасной девушки, рисунок поразил его чистотой линий и чем-то неуловимо таинственным.
Вот и образ Лампы-женщины был так похож на тот детский мотив, вспоминал он...
Мы не задумываемся, из чего складывается женская красота, не поверяем алгеброй гармонию. Часто это − просто неуловимые черты лица, определённые формы носа, подбородка, глаз…
Позволю себе одну сентенцию: в каждом мальчишке живёт будущий мужчина. У него может появиться тяга к прекрасному, она до поры дремлет и развивается неосознанно. Картинка, так полюбившаяся в раннюю пору зрелости, зацепила его воображение, а просыпающаяся влюблённость, благодатно совпала с находкой. Он рос ранимым и романтичным мальчишкой, глубоко скрывая в себе эти ростки и боясь насмешек сверстников.
Тогда в детстве он тайком, вырвал лист из книги, и долгое время хранил его под подушкой, разглядывая в уединении. В эти минуты он мечтал о дальних странствиях, представляя себя, то рыцарем, то пиратом из полюбившихся приключенческих романов. В мечтах героиней сердца был придуманный им образ.
Поэт осунулся, мучаясь и не зная, что делать, стал часто употреблять горячительные напитки, днями валяясь на диване, стараясь ни с кем не общаться и не выходить на люди.
Неизвестно, чем бы всё это кончилось, но однажды вечером к нему постучались. Открыв дверь, он увидел маленького тщедушного человечка.
Не говоря ни слова, пришелец протянул Лампу. Поэт даже не удивился, он сразу узнал знакомые формы! Она была цела и будто стала новее. Старичок, молча поклонившись, отступил и тут же растворился в темноте.
Аккуратно, как самое дорогое, Поэт пронёс Лампу в комнату и определил ей прежнее место – в левом углу среди бумаг, а никелированную спрятал в шкаф. Он смотрел на Лампу сначала как-то отстранёно, потом взял салфетку и стал медленно протирать её, поглаживая, как живое существо по округлой шейке, по отражателю и основанию. Настроение неожиданно улучшилось, он даже замурлыкал популярную песенку: «Ах, мой милый Августин, Августин, Августин!..»
Привычно сварив крепкий кофе, устроился за столик, наслаждаясь обжигающим напитком, быстро что-то стал записывать, а глаза его снова засветились особенным светом, словно лившимся изнутри... Писал он весь вечер и всю ночь, а к утру сложилась поэма, в которой, вы догадались, героиней была прекрасная Незнакомка, а герой – характером походил на него. Поэт умиротворённо откинулся в кресле и тут же задремал. Во сне ему снилось, что он сидит за столиком и снова пишет, пишет...
В окошке забрезжил рассвет, Поэт проснулся и, протянув руку, погасил свет, а в овальном отражателе Лампы заиграли блики утренней зари, в которых стал вырисовываться образ девушки с позолоченными волосами, искристыми смеющимися глазами – его Музы. Притягивала улыбка, а взгляд, как зыбь на воде, призывно дрожал и звал к себе. Но вскоре он оформился во вполне реальное лицо, фигуру. Поэт робко погладил её огненные волосы. Незнакомка не исчезла. Не сдерживаясь, он поцеловал её, мгновенно утонув в удушливой волне страсти, забыв обо всём на свете... Поцелуй жёг, как горячий кофе,− спутник его бессонных ночей, но оказался слаще божественного напитка.
Молодая страсть накрыла влюблённых, они забыли обо всём на свете и провалились в какую-то невесомость.
Вы спросите по поводу происходящего: что это − воспалённое воображение Поэта или чудо, воплощённое в действительность? Но что мы понимаем под словом «действительность»? Быть может, это то, что нам хочется видеть. Поэтам – особенно. С ними, как с влюблёнными это случается.
Блажен, кто верует. Он поверил сразу и безоговорочно! А воображаемым оппонентам со всей убеждённостью Поэт сказал бы: «Вы никогда не любили по-настоящему!» Случается, что с возрастом многие забывают это несказанное чувство: поцелуи в тёмных аллеях парка или где-нибудь на вокзале, продуваемом сквозняками, в комнате, украдкой от родителей. Томление и ожидание встречи, разлуки и письма, признания и нелепые ссоры. Теперь, конечно, всё не так, как в пору юности нашего героя. Сегодняшняя любовь по расчёту совсем не то, что ещё в недавние времена его молодости. Пропала романтика, без неё, без песен у костра, прогулок у речки, тисканий и вздохов при луне, страданий и надежд, может ли возникнуть настоящее чувство?
«Лирика» − усмехнётесь вы. Да, но без неё, как и без любви, человечество просто исчезнет...
Но поспешим к нашим героям. Поэт и Муза Ламповна, как в шутку окрестил он свою подругу, долго не выходили из дома, забывая порой о еде, им было всё равно, что творится в целом мире, не отвечали на звонки друзей...
Это было похоже на какую-то сказку, ожившую среди россыпи мерцающих звёзд и галактик. Словно в огромном гамаке, подвязанном одним концом к Полярной звезде, а другим − к какой-нибудь Альфа Центавре, они раскачивались от неудержимой страсти, поднимающей их стремительно вверх и опускающей вниз…
Для немолодого Поэта это было настоящим испытанием, но у него словно открылось второе дыхание. Страсть была как наваждение, как вспышка, какой он не испытывал ранее никогда.
Муза – само совершенство, манила красотой и непосредственностью. Ей было лет двадцать, лицо с правильными чертами, волосы отливали рыжей медью с серебром. Были они прямыми, ниспадающими свободно и, как ни странно, жёсткими на ощупь, словно тонкие электрические проволочки. Кожа светилась золотистым оттенком, и вся она сияла светом изнутри, как и её глаза − две вольтовы дуги.
В перерывах между занятием любовью, они часами говорили обо всём, а интересы у них совпадали настолько, что и предмета спора почти не возникало. Были ли у Поэта свои кумиры и пристрастия? Конечно, были, но за прошедшие годы, «всё лучшие годы», мечты заметно подтаяли, потускнели.
И вот теперь забрезжил свет оттуда, откуда он никак не ожидал, можно сказать, в прямом смысле – от Лампы…
Глава 3.
У Поэта была прекрасная, тренированная память, он помнил бесчисленное множество дат, исторических и окололитературных событий, имён, стихов. Он знал наизусть почти всего Есенина. Из Пушкина − «Евгения Онегина», множество произведений поэтов Серебряного века и более поздних поэтов.
В его голове счастливо совмещались авторские стихи и песни с десятками шлягеров молодости, причём, он знал и мог вспомнить в любой момент, как некую визитную карточку, многих авторов, дни их рождения и, если почили, – даты ухода в мир иной.
Муза была другого склада и далека от этих премудростей. Зато она знала о чистой поэзии такое, что не всегда изучают в вузах. Превосходно разбиралась в разных видах искусства, владела несколькими иностранными языками, свободно декламируя в подлиннике отрывки из Шекспира, Гёте, Гейне, Байрона, Шиллера, Гарсия Лорки, Мицкевича и многих других великих поэтов, в том числе и российских классиков.
Она очень сочно и красиво говорила обо всём, так что он переставал слышать смысл произносимого, отрешённо наслаждаясь её физической красотой, мелодичным грудным голосом, просто смотрел на неё и не верил, что случившееся с ним − не наваждение. В эти минуты он готов был завидовать себе, своему везению: наконец-то Всевышний внял его мольбам, значит он действительно что- то стоит!
Муза, замечая в такие моменты, что Поэт впадает в прострацию, замолкала, целовала его нежно в лоб, как ребёнка, отстранялась, взглядывала в глаза и восклицала: «Я так не играю! С кем это я сейчас говорила, милый?..»
Он тряс головой, сбрасывая оцепенение, широко и несколько виновато улыбался, сгребал её большущими ладонями, легко сажал на колени, целуя. Она слабо сопротивлялась, это переходило в бурный интим, заканчиваясь отдыхом и новыми разговорами.
Муза варила кофе или заваривала чай, делала бутерброды с маслом и колбаской, жарила омлет. Они неспешно ели, порой не различая, что сейчас творится на улице: вечер или утро.
Так продолжалось около месяца. Друзья безуспешно пытались дозвониться, он отключил и сотовый.
ЧАСТЬ II
Глава 1.
Как-то утром зазвенел дверной звонок. Поэт открыл, на порог ступил Виктор, закадычный друг, с отчаянным возгласом: «Слава Богу, ты − живой и, кажется, невредимый! Почему ты не отвечаешь на звонки?».
Оглядев Поэта критически с ног до головы, он заметил уже спокойнее, но с иронией в голосе: «По-моему, у тебя вид, как у мартовского кота − глазки блестят, но физиономия будто слегка вытянулась и похудела. А впрочем, − добавил он, − моя физиономия тоже сейчас треснет от нетерпения. Ты чего загадочно молчишь? И вообще, почему ты в неглиже, мой друг, ты знаешь, какой сегодня день, год на дворе, в конце концов, который час?!»
Товарищ замолчал, задохнувшись от собственного потока слов, а Поэт, виновато улыбнувшись, хлопнул его по плечу и сказал: «Витя, я сейчас тебя познакомлю с потрясающей женщиной. Только, чур, варежку не разевать… Она – моя, раз и навсегда! И это аксиома, понял?!
Виктор захлопал удивлённо ресницами и произнёс машинально: «Пока я загорал в Анапе, вижу, − здесь кардинально что-то изменилось, и для меня − не в лучшую сторону. Ну, хвались, обещаю зубом женатого мужчины, как Монтигомо Ястребиный Коготь (он щёлкнул ногтем большого пальца о зуб), − не покушусь на твою скво, как говорят индейцы, то есть на женщину, по-нашему…»
− После такой клятвы, я, пожалуй, покажу тебе своё сокровище, − засмеялся Поэт.
− Муза Ламповна! – позвал он, и тотчас дверь спальни открылась. В дверном проёме появилось видение, от которого у многих мужчин закружилась бы голова и, возможно, подкосились бы ноги.
Виктор был стойким Оловянным солдатиком, но и он потупил глаза, как кисейная барышня, потеряв дар речи…
− А я тебя знаю,− пропела Муза, − ты и раньше здесь бывал частенько, я видела. К тому же на многих фотографиях вы, с моим Петиком-Поэтиком, как истинные друзья и коллеги, везде вместе.
− Что-то я Вас раньше здесь не видел, хотя мне всегда приятно с Вами познакомиться, − промямлил Виктор.
− А говори мне «ты», ведь друзья моего возлюбленного и мои друзья, а приятелям не пристало церемониться, так ведь?
− Согласен, − вмешался друг. − Чего это мы здесь стоим, давайте пройдём в мой кабинет, попьём чайку. Или тебе кофе, брат?
− Я уж не знаю, − примирительно проворчал Виктор, − кто я больше теперь – друг или брат… А от чая не откажусь. Ну что ж, пошли в кабинет.
Поэт по-домашнему зашаркал тапочками в кухню. Его широкая спина на миг заслонила дверной проём, и свет померк, падающий с кухонного окна в прихожую. Он повернулся и на добродушном лице − широком, простоватом, расплылась счастливая улыбка.
− Витя, − пророкотал он раскатистым баритоном, − ты чего стоишь в нерешительности, как в гостях, проходи!
Виктор жестом предложил пройти даме, пропуская её вперёд, и последовал за ней. На ходу он глянул на Музу и поинтересовался:
− А всё-таки, давно вы вместе? Как это я проворонил ваше знакомство? Это странно. Знать друга как облупленного, казалось бы… Придти однажды и понять, что он тебе теперь не принадлежит. Я был первым у него, в смысле −другом, а теперь далеко в этом не уверен…
− Не расстраивайся, − не обращая внимания на его ершистость, пропела она, − другом ты и остался, и всё, что касается творчества − тоже в силе. Более того и я постараюсь оказать вам всяческую помощь. Втроём ведь легче батьку бить?
− Какого батьку?.. А, в смысле, это поговорка, − дошло до Виктора. − Ну да, я согласен. И всё-таки, кто ты, Муза?
− Ты сам сказал − Муза. А остальное не важно, смирись, дорогой, и больше не расспрашивай, ведь гораздо лучше, когда существует интрига, загадка, не правда ли?
Тут подоспел Поэт с подносом, на котором дымился заварной чайничек, стаканы с подстаканниками, оставшиеся от прежних добрых времён, и всё, что полагается к чаю. На ходу он заметил серьёзно: «Я смотрю, вы практически познакомились и я согласен с моей Музой: детали не столь важны. Прими её появление как данность. Ты знаешь, я влюбился, как мальчишка! Это – главное, и моя любовь, словно болезнь: ветрянка или корь. Да, да, именно болезнь, причём женского рода, хотя это не поэтично, лучше, как сказал бы поэт девятнадцатого века: «Я занемог любовью!»
− Мы тут оба «заразные» и ты смотри! − В тон ему вставила Муза. − Впрочем, с твоим надёжным тылом, с твоей супругой, думаю, нам не стоит сильно опасаться. Или нет? – смутила она Виктора.
Он решил перевести разговор на другое:
− Мне звонят наши общие друзья, они в панике. Спрашивают: «Где Пётр, что случилось?» Я и сам забеспокоился, − не дозвонившись, примчался. И что я вижу тут? – с издёвкой произнёс Виктор, − что мне теперь сказать всем?»
− А скажи правду: заболел. Конечно, не избежать вопросов, когда увидят мою Музочку. Скажи, что скоропостижно влюбился и женился. У нас медовый месяц, вот!
Говоря это, он разливал чай, предлагал мёд, масло.
− Знаешь, − продолжал Пётр, − пожалуй, ты прав, не избежать всяческих толков, особенно среди слабого пола, они ведь будут копать вглубь, добиваясь истины любым путём. У меня же столько поклонниц! – Он вдруг осёкся, глянув искоса на Музу, суетливо стал выкручиваться.
− Ну, ты же понимаешь в каком смысле…
− Да, милый, хотелось бы верить тебе…
− Обижаешь! Ну ладно. Мы ещё подумаем над нашей версией, − проговорил он скороговоркой. Повернувшись к другу, чтобы замять неприятную тему, заверил:
−Я бы посвятил тебя, Виктор, в нашу тайну да боюсь, что даже ты, с твоим умом и фантазий, вряд ли поверишь всему…
Он снова стал предлагать угощения − чай, сладкий рулет.
Виктор отхлёбывал горячий чай, и любопытство, после первоначального шока, стало завладевать им с ещё большей силой. «Нет, − думал он, − тут что-то нечисто. Что за имя − Муза и почему − Ламповна? Он это чётко вспомнил, хотя сначала пропустил мимо ушей. Она ведь так внезапно появилась, как стихия, которая приходит из неоткуда и накрывает с головой, не спрашивая и не давая опомниться… Допустим, они встретились, и полюбили друг друга. Как говорил один киногерой: «Это нормально». Почему же я об этом узнаЮ в последнюю очередь? А ведь до сих пор у нас не было тайн друг от друга. Она сказала, что давно знает меня, якобы, видела, и вообще ведёт себя со мной как со старым знакомым…
Красивая, раскованная, не глупая… Загадка. А человек не любит загадок и я, рано или поздно, докопаюсь до истины».
− Да, Виктор, рано или поздно… − прервав его мысли, проговорила Муза, потом добавила, − приходит срок, и всё назначенное свершается…»
Виктора бросило в жар, словно он выпил подряд три стакана чая. «Может, я произнёс мысли вслух? – мелькнуло лихорадочно в голове. − Не уверен…»
Он глянул на Музу, в глазах была растерянность. Как тут реагировать? И он снова решил схитрить, сделав «ход конём»:
− А почему это ты − Ламповна, может, я ослышался? Необычно, если не комично… Обо мне-то Пётр, наверно, рассказывал, потому я для тебя не ящик Пандоры.
Она мягко перебила его:
− В сказке «Лампа Аладдина» есть такая замечательная вещь, собственно, как и я - Лампа, и в сказке, скорее, она является главной героиней. Пусть она не живая, но зато волшебная, и благодаря изящным её округлостям, по которым гладил Аладдин (при этих словах она игриво посмотрела на Поэта, он тоже глянул с нежностью на Музу), осуществлялись различные чудеса.
Виктор, поверь в сказку, ведь ты − творческий человек, а я − магическая женщина, − трагическим и полушутливым тоном проговорила она, − читаю мысли на расстоянии, но тебе не стоит меня бояться, я знаю о вашей искренней дружбе, мы будем вместе, вернее, вы, а я − рядом. Надеюсь, мы справимся с трудностями, если Петя не бросит меня…. Так что расслабься, пей чай, наедай шею…
− Кто? Я-я? Брошу? – поперхнулся мой друг.
Муза улыбнулась:
−Не обижайся, любимый. Мужчины часто переоценивают свои возможности. Зарекаются в вечной любви, а потом с лёгкостью нарушают данное слово. Нет, некоторые после каются, но всё равно, как запрограммированные, идут наперекор всему, согласуя свои поступки с понятной только им мужской логикой. Впрочем, всё это − из области природы мужского начала… Я посмотрю, как ты станешь оправдываться через некоторое время, дорогой…
Она неожиданно рассмеялась таким заразительным смехом, что и Пётр захихикал сначала как-то нервно-булькающе, затем всё уверенней и раскатистей: «Ха-ха-ха...» Улыбался и Виктор, поглядывая на них поочерёдно, а потом и сам рассмеялся.
Глава 2.
Говорят, что стихи, есть плоды любви, а любовь Поэта к Музе оказалась взаимной и сильной, оттого – плодотворной. Муза захватила Поэта целиком как женщина и как вдохновение, представленное ею в этом образе. Его дом наполнился друзьями, зазвучали стихи и песни под гитару − то, о чём мечтал Поэт, стремившийся обрести крылья, как творческую высоту, всегда желая быть там, где обретают музы, где поют песни и звучат стихи...
Вино не кончалось, провозглашались тосты, здравницы Поэту и Музе, звучали речи. Приятели-завсегдатаи приходили, и всем было хорошо. Поэт был в ударе, он говорил без умолку, почти не давая другим вставить слово. Пел под гитару свои песни и известные шлягеры. Муза больше молчала, исполняя роль приветливой хозяйки, что-то готовила, подносила и уносила. Видно было, что это ей не очень нравится, но она не жаловалась, сменив своё высокое предназначение вдохновлять, на роль обычной домохозяйки. Пётр, словно не замечал этого, его будто всё устраивало. Иногда он приобнимал Музу за талию, перехватив её между переменой блюд, и картинно целуя в щёчку, говорил: «Как я мечтал о такой идиллии и вот она сбылась! Ты моё чудо, любимая!»
А Виктору, глядя на них в этот момент, вспоминался мультик, в котором герои-поэты, от античности до наших дней, восклицали нечто подобное, обещая повести свою избранницу к звёздам. Одновременно и непрерывно слышалось противное шарканье тряпкой о вычищаемую кастрюлю. Любимая чистила, а он читал ей свои возвышенные оды…
* * *
Прошло ещё какое-то время. О Поэте уже говорили всюду. Друзья радовались его удаче, завистники шептали, что тут не обошлось без нечистой силы…
О его избраннице поговаривали всякое, многих удивило её внезапное появление. Но Поэт отделывался всякий раз версией о судьбоносной встрече и вспыхнувшей искре между любящими сердцами. Скоро все привыкли к этому.
Слава Поэта шагнула широко, захватив экраны ТВ, страницы местных газет и журналов. Он стал писать остро, критикуя власть. В его стихах забил талант живой струёй, не оставляя равнодушными всех, кто ещё читал печатное слово.
Поэту хотелось, чтобы книги вообще стали востребованными читателями как в лучшие времена, когда страну называли самой читающей в мире. Об этом он говорил неустанно, страстно желая, чтобы возродилась понемногу духовность в народе. Он рассуждал, что виной в спаде интереса к чтению есть одна из немаловажных причин – это то, что ныне нет настоящих поэтов. Предлагал вспомнить Маяковского-трибуна, Есенина с его лиричностью и эгоцентричностью, Высоцкого − хрипатого оригинала. Да мало ли?..» Нужны личности и не важно, что культура нынче «в загоне», как говорят. Если новый поэт-мессия достучится до сердец людей, он, благодаря слову в книге или компьютерному блогу, или сайту, пробьёт бреши в стене равнодушия.
Думая и говоря так, он, видимо, в тайне лелеял мечту – самому занять вожделенное место трибуна. В этом был некий смысл, ибо тщеславие в хорошем его понимании и движет художником. Вот и желание поделиться распиравшими голову знаниями сквозило из всех щелей его широкой поэтической натуры.
Он истосковался по славе, как узник по свободе, как любовник по своей пассии, хотя, возможно, намеренно путал просветительскую стезю с желанием прославиться. Но одно не ходит без другого. Казалось, ещё немного и наступит золотой ренессанс русской поэзии, могучего слова, собирающего стадионы, а на трибуне – он, как во времена Рождественского, Евтушенко, Ахмадуллиной, Высоцкого − поставленным баритоном читает стихи и поёт свои песни под гитару…
Всплеск интереса к его творчеству оказался недолгим, и мечта Поэта снова стала уплывать в призрачное далёко. «В бездушной и мёртвой среде, − горько думал Поэт, − возможно ли чему-то прорости, не зачахнув?»
Удручало, что на призыв приобрести книгу − выстраданное дитя, только что изданную и пахнувшую типографской краской, в ответ слышалось: «А мы не читаем! Мы предпочитаем кушать и слушать». Мещанское в людях словно говорило, смеясь: поэты, ваше время ушло…»
И в этом был, словно вызов, даже бравада, что отзывалось в душе обидой и горечью. Так повернулась жизнь за пару десятилетий. Зачем же противопоставлять книгу интернету, одно другому не мешает, а лишь должно дополнять, просто теперь появились новые возможности быстрее и качественнее познавать этот сложный мир.
Поэт пользовался интернетом, но больше он радовался, видя новую, хорошо изданную, а главное, содержательную книгу. Если она его заинтересовывала, он покупал, не считаясь с её ценой, в наше время довольно кусачей. Как же можно жить без живого слова, книги? Ведь для фильма, к примеру, необходимо написать сценарий, или снять его по мотивам произведения, которое тоже кто-то должен написать, а уж потом поставить. Но те, кто сами не читают и детей своих не приучают к чтению, не понимая, откуда что берётся, − обкрадывают, прежде всего, себя и своих чад. Нация, тем временем, катится назад к пещерному уровню. Думать не надо, о вас уже побеспокоились, клади в рот попкорн, жуй да в ус не дуй… Это удручало и отбивало всяческую охоту творить.
Глава 3.
Как-то в тёплой компании Поэт и его друзья отмечали в ресторанчике один из праздников. Он, как тамада, словно нависая над всеми, произносил тосты, напевал и аккомпанировал себе на гитаре. Вдруг подошла сногсшибательная блондинка и попросила у него автограф:
− Я видела вас по телевизору. Вы читали такие потрясные стишки про любовь! И вот я вижу живого поэта! – С пафосом произнесла она, − черкните мне автограф.
−Заметьте: Поэт − с большой буквы «П»! А как вас величают, мадам, простите! – пьяно качнулся вправо мой друг. Она кокетливо сделала реверанс и назвалась Машенькой. Поэт непроизвольно качнулся в другую сторону, что, видимо, протрезвило на миг его мозги, и он даже скаламбурил, − Машенька или Машинка?..
− ?
− Была у меня такая белозубая помощница, − пояснил кумир своей поклоннице, − я постукивал ей по зубкам и поглаживал по округлым бокам, а она выдавала мне мои вирши. Теперь вот мы с Музой уже освоили современную технику – компьютер. И хотя я с трудом воспринимаю все эти навороты прогресса, но скажу, что это изобретение человечества − гениально, а главное, очень удобно. И поглаживаю, Машенька, я давно уже не машинку, а саму Музу!..» − Пьяно загоготал всеобщий любимец.
Он привычно достал ручку с чёрной пастой, поскольку любил давать автографы только чёрной пастой, словно тушью в давние времена, и спросил: «А где же вам засвидетельствовать автограф, милочка?»
«Милочка» неожиданно приподняла и без того коротенькую юбочку и показала пальчиком место на левой половинке ягодицы, игриво потупив взгляд. Потом она быстро нагнулась к самому уху Поэта и что-то прошептала. Поэт покраснел даже через красноту на лице и шее от изрядной доли горячительных коктейлей, отвернулся от стола и что-то написал на упругой плоти. Виктор сидел рядом и невольно заметил номер телефона друга, а ниже − его размашистую твёрдую роспись, дабы никто не усомнился в выполненной им просьбе…
Виктор также увидел, как изменилась в лице Муза. Последнее время что-то неуловимое происходило между ней и Петром. Отчаяние и непонимание сквозило в её взгляде. Поэта накрыла заслуженная слава, и он уже не совсем адекватно воспринимал события и людей, а его любимая, изящная Муза, не могла достучаться до его сердца. Он забронзовел, поэтическая шкура его становилась как у гиппопотама − жёсткой и непробиваемой. К тому же бесчисленные застолья и возлияния помутили его светлую душу, он, что называется, пошёл вразнос.
Сегодняшнее мелкое, казалось бы, происшествие было одним из многочисленных звеньев в долгой цепочке предшествующих и предстоящих событий. У Музы всё чаще темнело лицо, но она ни единым словом не давала повода для ссор, ни единым мускулом не выдавала своего протеста или недовольства.
Виктору было жалко её тщетных попыток вернуть их прежние отношения, жалко было и друга, он погружался в пропасть, сам не ведая того. А власть, полученная им в качестве руководителя творческого объединения «Кизиловая ветвь», изрядно вредила ему, делая порой не терпящим к инакомыслию.
«Надо же, как он переменился», − думал Виктор, вспоминая недавние сетования Петра и его скепсис на сей счёт, когда он говорил:
− Творческие объединения по сути такие же общественные организации, как «Общество охотников и рыболовов». Нынешний Союз писателей России имеет тот же статус. Но в него по-прежнему стремятся толпы желающих, ради престижу, а колосс-то на глиняных ногах… Ни привилегий тебе, ни прежнего почёта на уровне первых секретарей обкомов и крайкомов.
Власть лишь оставила литературным бонзам лакомые куски, типа Переделкино, чтобы видел-де народ, как они «переделывают» межи на участках. Чтобы все поняли, что писатели такие же алчные, только на словах ратующие за духовное, на самом деле они часто показывают себя не в самом приглядном свете. Они устраивают драчки за собственность, словно хищники – яростно и непримиримо.
Но имеет ли это отношение к многочисленной армии писателей на периферии? Эти-то в большинстве своём труженики, пчёлки, собирающие нектар духовной пищи на ниве просвещения и добра.
Поэт размышлял: «Да, это так, но с другой стороны, писатели − обычные люди, не стоит ждать ото всех праведничества. Ибо живя страстями окружающей жизни, ведя себя порой не всегда добропорядочно, но познавая жизнь со всех сторон, они-то и могут написать что-то стоящее. Этого, видно, не понимают правители или делают вид, что не понимают. Ведь давно назрел закон о культуре, но его не спешат принимать.
Ныне резко изменились приоритеты и ценности в нашей стране, низвели «инженера человеческих душ» до уровня простого инженера, отстранив его с передовой линии борьбы, лишив возможности открывать горизонты будущего. А некоторым пишущим приходится опускаться до уровня нищих, стоящих на паперти. Писателю же надо кормить себя и свою семью. И не только духовной пищей.
Тем временем расцвела пышным цветом халтура от литературы, стал плодиться ширпотреб без достаточного контроля и цензуры, если хотите, на угоду толпе и дяде с большим кошельком. Чуть ли не каждый третий почувствовал потребность осчастливить мир своими опусами, издавая низкопробное чтиво. И хлынул мутный поток на прилавки магазинов, перенасыщая рынок и сбивая с толку читателя. Эти реалии не всегда располагают к высокому полёту истинных творцов слова. Будь ты хоть самим Пушкиным, перед тобой встают огромные трудности в реализации уже изданных книг. Писателей вместе со всеми просто выбросили на рынок, но «купи-продай» здесь не срабатывает, ведь результат иногда приходится ждать годами, и до него ещё надо дожить.
* * *
Во всей этой истории Виктор, вовлечённый в дела Поэта, ощущал себя чем-то вроде Сальери рядом с Моцартом. На самом деле, может, уже не столь важно, что художественный вымысел гениального Пушкина образовал устойчивое негативное отношение к Сальери, − мир живёт стереотипами, но в этой условности легче ориентироваться – кто есть кто. Творческих же и семейных тандемов история знает немало. В этой ситуации он особо не протестовал и не оспаривал своё право на самостоятельность. Стихи его печатались, издавались книжки, но за могучей спиной друга его было трудно разглядеть, он воспринимался лишь как заместитель Поэта, о чём тот постоянно говорил при случае, подчёркивая дистанцию между ними. А ведь раньше он всегда представлял Виктора своим другом…
Если кому-нибудь нужны были годы, чтобы познать сначала основы профессии, затем адаптироваться к среде, понять, откуда ветер дует, на кого ровняться, перед кем безоговорочно снять в почтении шляпу, то в возрасте Виктора − казалось всё это мышиной вознёй.
В России перед бездарью, но с регалиями, беззубому таланту приходится делать реверансы, иначе канешь в небытие, не проклюнувшись. Так устроены люди: сами себе назначают кумиров и начальников, а потом им слепо подчиняются. Писатели в большинстве своём не исключение. Виктор отлично ориентировался в этой околописательской иерархии, тем не менее, вынужден был соблюдать правила, выдуманные не им.
Рано или поздно, это начинает тяготить. Бунтари взрываются, заставляя себя уважать, а робкие, интеллигентные люди ищут компромиссы или отходят в сторону, в бессилии что-либо изменить. Зато Бог наградил Виктора способностью тонко всё чувствовать и понимать. Он не собирался вставать на пути друга, видя, что это бесполезно. Каждому надо пройти свой путь.
Но всё же иногда у Виктора взыгрывали собственные амбиции, перехлёстывая через край, ведь он живой человек, ему тоже хотелось откусить кусочек от такого, казалось, близкого и сладкого пирога славы, которым объелся его знаменитый друг. Между ними всё чаще возникало недопонимание, хотя с виду всё обстояло благополучно и пристойно.
Они регулярно участвовали в традиционных праздниках поэзии – Весенних и Осенних, проводимых в библиотеках, различных творческих обществах, дни рождения и Дни памяти наших Солнца и Луны поэтического Олимпа. Выпускали альманахи, помогая в редактуре неопытным авторам, проводили заседания »Кизиловой ветви», стараясь наполнять их разнообразными темами: приглашали интересных людей, отмечали дни рождения великих писателей и поэтов, вовлекали в свои ряды творческую молодёжь. Но уровень молодых авторов был катастрофически низок. Многие из них сразу приходили с готовыми сборниками и считали себя состоявшимися поэтами, потому что друзья говорили: «Какие вы талантливые!». И новоиспечённые поэты и прозаики в это быстро уверовали.
Желающих посещать подобные «посиделки» всё прибавлялось, популярность «Кизиловой ветви» росла.
Со стороны их отношения казались нормальными, но когда друзья вместе появлялись среди признанных коллег, Поэта словно подменяли. Он очень любил «выступать», лез из кожи, чтобы показать свою исключительность и значимость, порой выдавая желаемое за действительное, а Виктор уходил с мероприятия неудовлетворённым, чувствуя свою некую неполноценность…
Всюду, как тень, за Поэтом пока ещё следовала Муза. Её поведение в неформальной обстановке часто изумляло Виктора, хотя он догадывался о её странном происхождении, но её наивные вопросы порой забавляли и ставили в тупик. С другой стороны, очевидные факты её эрудиции доказывали то, что она не пустышка. Просто она казалась несовременной, словно перенеслась на машине времени из другой эпохи.
Музу удивляла невероятная эмансипация женщин, всеобщая мода на брюки… Её коробило как от «обтянутости», так и от «открытости» интимных частей тела. Удивлялась тому, что мужчины смотрят на всё это спокойно и почти равнодушно. Ей в шутку говорили, что скоро наступит эра амазонок, мужчины вымрут как вид: дети из пробирки, искусственное оплодотворение. Она воспринимала это всерьёз…
Но больше всего её возмущали «украшающие» тела женщин и мужчин пирсинги и тату, словно они − полотна модерновых живописцев на выставке. «Как можно жить с подобными «украшениями», − спрашивала она, − постоянно видя на себе самом картинки, пусть и оригинальные, но они же надоедают! Это происходит оттого, − считала она, − что многим людям нечем себя выделить − ни умом, ни талантом».
Муза удивлялась: «Как можно всю жизнь ходить с татуировкой, словно с клеймом на лбу? Утыкают лицо, язык блестящими бусинами, как папуасы, растягивают губы, дырявят нос, накачивают себя силиконом, красят волосы в яркие цвета и делают ирокезы… Боже мой, тысячелетние наслоения культуры, словно ил, осели где-то на дне, никак не касаясь их. Высочайшие достижения цивилизации и пещерная психология сосуществуют, и, кажется, последняя побеждает снова. Что это за спираль истории такая, может, это вырождение гомо сапиенса?..
Зато Музу восхищала здешняя природа – пейзажи и краски, словно сошедшие с полотен великих художников всех времён и народов.
Возвращались друзья как-то всей компанией в свой городок в электричке после очередной презентации книги местного писателя. В окне мелькали лесополосы, поля фермеров. Была осень, радующая своими красками: фиолетовостью кустарников, позолотой клёнов, бордовостью листвы каштанов.
Осень в России в каждом регионе неповторимая. Кавказская осень известна прежде всего своей изумительной чистотой воздуха, сквозь который далеко на горизонте в ясную погоду видна цепь белых гор. Среди всего этого великолепия, как на троне, возвышается аксакал о двух папахах − красавец Эльбрус.
Муза смотрела неотрывно в окно, и вдруг словно продекламировала: «Это же надо! Потрясающе! Горы, балки, перелески. Цивилизация и древние реликты. Здесь проходил шёлковый путь в средние века, проскакали конницы хромого Тамерлана. Здесь первобытные люди, живя, как у бога за пазухой, купались в горячих ключах, и, здесь по легенде, Зевс приковал Прометея. Сколько культурных, исторических событий в памяти гор лакколитов. Какое здесь разнообразие растений. И всем этим можно свободно наслаждаться и восторгаться! А люди, словно не замечают красоты, просто живут среди всего этого великолепия, трудятся, встречаются, влюбляются. Как прекрасно жить! От восторга мысли путаются и трудно их выразить».
Что интересно, Муза легко владела компьютером, мобильным средствами связи, но продолжала с опаской смотреть на пролетающие самолёты, оставляющие белый след в небе. Поражалась изыскам красочной рекламы в витринах и на баннерах, призывно зовущих купить самое, самое… Задирала голову и долго стояла у современных высотных домов из стекла и бетона, поражаясь современным технологиям. При этом она обожала классическую музыку, живопись. Но не смотрела телевизор, ужаснувшись однажды пошлостью и безвкусием, нравами, происходившими в стране, политике, поп-культуре, бизнесе. Она как-то сказала: «Да, эпоху, как и родителей, не выбирают…»
Глава 4.
Как-то Пётр, гостил у Виктора дома. Они частенько устраивали у него посиделки, разбирая «полёты», читая новые стихи, исполняя дуэтом любимые песни. Поэт любил расслабляться у друга и не только духовно. С начала вечера Пётр прилично уже поднял градус общения, но не мог остановиться, желая поддержать набранный уровень. От хмеля на него накатило раздражение, забурлили в глубинах нутра нереализованные амбиции.
Музы с ним не было в этот раз. В беседе, вошедшей в наезженную колею о несправедливости устройства мира, он словно запрограммированный, вяло произносил очередную банальность, время от времени показывая Виктору на рюмку, при этом делая большим пальцем движения сверху вниз, как древнеримские императоры на гладиаторских боях, когда решали судьбу поверженного раба. Жест тогда означал – жить несчастному или быть пронзённым мечом победителя. Этим жестом и Пётр приказывал (или благословлял) налить себе очередную рюмочку.
Такие встречи последнее время тяготили Виктора, можно было предсказать заранее все темы, которые начнёт муссировать друг, но он, из деликатности терпел разглагольствования, как мигрень, иногда с плохо скрываемой досадой.
Пётр не замечал, что утомил друзей или делал вид, что не замечает. Расслабляясь, он мог позволить себе какую-нибудь бестактность. Пётр жаловался, что стал побаиваться своей подруги, что Муза замкнулась в себе последнее время, лишь иногда сетует на то, что он катится по наклонной, она говорит, что нужно бросать с выпивкой.
− Да кто она такая, чтобы учить меня? Какая-то Лампа.
−?
− Обыкновенная настольная лампа, которую я пожалел и пригрел… А сколько лампочек перегорело по её милости. Она обещала мне помогать в достижении мною Олимпа в творчестве, а где её помощь?
Язык его развязался, и он рассказал о тайне происхождения Музы, периодически прикладывая указательный палец к губам и закатывая пьяные глаза, он заговорщицки шептал: «Только ни-ни! Ни-ко-му! Она узнает, мне хана!»
Виктор с женой клятвенно заверяли, что тайна уйдёт с ними в могилу.
Петра совсем развезло, но он всё пытал друга: «Витёк, я разве алкаш? Ну, выпью… Ик-к… так должен я иногда расслабиться. Так-кое напряжение я всё в-время испытываю, всем я н-нужен, всем − помоги, в-выступи. А что я железный? Твою дивизию, бога д-душу… Да я ж-железный, но не до такой же степени», − заикаясь, как-то нелогично и грубо убеждал он.
И снова «приговаривал» друга большим пальцем к налитию очередной порции настойки, а Виктор покорно, как раб на арене Колизея, подчинялся его воле.
Глава 5.
Всему бывает конец, и в нашей истории замаячила развязка. Она пришла сначала в образе блондинки Машеньки-Машинки. Ирония судьбы − если вначале Лампе в Машинке мерещилась соперница, то во плоти Машинка оказалась действительно разлучницей, опытной кокеткой, заманивающей в свои амурные сети, в сущности, простоватого и доверчивого Поэта. Что Машинке было нужно от стареющего Поэта? Да всё то же, что бывает нужно амбициозным красавицам от успешных мужчин – лёгкой и весёлой жизни. Телефончик на причинном месте сыграл свою роль, Пётр хвалился, что отбою нет от женского полу, но главное, "Машинка" окрутила бедного стихоплёта, и он изоврался перед Музой, пропадая в объятьях новой пассии. Муза же по-прежнему на людях вела себя ровно, ни в чём не упрекая его…
Как-то друг пожаловался, что снова его покинуло вдохновение, ничего не пишется и что это его сильно тревожит. Виктор пытался открыть Петру глаза на причину бед, но тот отмахивался, называл товарища занудой. «Живём один раз, а годы уже сигналят, что скоро остановка. Назад в ту же воду не войдёшь, мы бы и рады всё вернуть на круги своя, только сила инерции неумолима», − выдавал Поэт одну за другой известные сентенции.
«Погиб поэт – невольник… чувств и порочной любви!» − Так хотелось крикнуть Виктору на это. Пророчество классика насчёт гибели вскоре некоторым образом подтвердилось. Однажды Пётр пришёл с очередной тусовки, на которой подвыпившие служители собственных муз прославляли очередного юбиляра − титулярного и заслуженного.
Муза перестала посещать подобные мероприятия из-за их однообразия, но и Пётр не стремился её брать с собой. На них авторы любили своё творчество и себя в нём и ждали признания коллег, что, в общем-то, не предосудительно, но потом начиналось то, что бывает всегда − застолье.
Писатели, как и многие люди из советского прошлого, жили ещё прежними ценностями, ревниво поддерживали заблуждение о своей значимости, по крайней мере, в масштабах некоего ареала. А в более доверительной компании поливали коллег, тех с кем бражничали ядом скепсиса и презрения. Им казалось, что они поднимают свой авторитет в глазах собратьев по перу и в глазах случайно примкнувших к ним фанатов.
Однако жизнь неумолимо шла по иным законам. Мир цепко накрыл потребительский спрут щупальцами наживы. В этих условиях престарелые литераторы, стали разом не нужны.
Фактически были отменены прежние ценности. Волны жёлтой и чёрной мути обрушились на головы не искушённых читателей разного возраста, привыкших доверять телевидению, радио и газетам с советских времён. Мораль отступала, объявлялись новые, зачастую сомнительные ценности. Мир перевернулся в одночасье.
Честные труженики пера не вымерли разом, продолжая писать по инерции, руководствуясь старыми ценностями, и тешили себя такой милой забавой как сочинение стихов, музыки, написанием картин. Продолжали собираться кучками, жить кулуарной жизнью, на что-то надеясь.
Расчёт правящих кругов оказался иезуитски точен: не трогать эту среду, пусть тешатся, пока не вымрут все, как мамонты.
Глава 6.
Муза Поэта была всё-таки женщиной и, как любая женщина, смотрела на многие шалости избранника женскими глазами. Все увещевания, уговоры, которыми она ненавязчиво пыталась урезонить любимого, были бесполезны.
На другой день после очередной сходки, как и следовало, Поэт чувствовал себя гадко, порой крепился, но иногда организм давал сбой, выражая протест в виде острой боли где-нибудь в подреберной области. Тогда Пётр, перемучившись и подлечившись, зарекался пить.
Проходило немного времени, он действительно держался и даже бравировал этим, говоря: «Хочу – пью, хочу − не пью, могу вообще завязать. Уже две недели − ни капли…» Хотя это было явным преувеличением, наступала какая-нибудь важная презентация, юбилей и всё повторялось.
Однажды он вернулся домой под кайфом и завалился на диван, где коротал обычно ночи в непотребном состоянии, понимая подсознательно, что Музе это неприятно. Лёг по-походному и тут же уснул мертвецким сном.
Утром, будучи с похмелья, позвал подругу, попросил воды, но ответом была тишина… Пётр с трудом поднял голову, снова позвал Музу – безуспешно. Встревожившись, он потащился в спальню, заглянул на кухню, но её нигде не было.
«Наверно, ушла в магазин», − лениво подумал он, а организм кричал нестерпимой болью и просил горизонтального положения. Жадно выпив кружку воды, прилёг. Подумал, что не плохо бы полечиться древним способом: клин – клином. Снова встал, открыл холодильник, достал початую бутылку «Столичной», остатки былой роскоши, и налил в бокал. Выпил, вытер губы рукавом, крякнул и вернулся к дивану. «Надо бы ещё вздремнуть, − стучало в висках, − через часок всё наладится».
Так и случилось. Точно через час: «Как Штирлиц», − отметил он мысленно, - и снова открыл холодильник. Налил, выпил холодненькой. Расслабуха пошла по телу. Он вспомнил про Музу, которая должна уже быть дома.
«Мусенька, ты где?» − крикнул он. В ответ − ни звука. Опять заглянул в спальню, даже в ванну и туалет – никого.
«Подожду ещё, мало ли. Займусь пока делами», − успокоил он себя.
Прошёл к рабочему столу, стал перебирать бумаги, голова была чугунной и не хотела напрягаться, обрывки мыслей крутились, всплывали лица друзей по вчерашнему застолью.
Вспомнилась некстати Машинка-Машенька, что была последнее время неизменной спутницей всех презентаций, творческих посиделок в литературных тусовках. В этот раз Машинка почему-то подсела к Боренко и переглядывалась с ним и даже кокетничала.
Боренко выделялся среди коллег и подавал большие надежды. Вышла его поэма о Лермонтове, к тому же он прекрасно декламировал стихи. Надо признать, он пользовался успехом у ревнивых собратьев, а это дорогого стоит… Говорят, его номинировали на губернаторскую премию и руководитель регионального Союза писателей Каверин лично заручился этому поспособствовать.
«Снова меня затирают, − со злостью подумал Пётр, − вечные эти интриги, все ведь знают, что я лучший лирик на данный момент. Патриархи литературы нашего региона приказали долго жить, а других разве можно сравнивать со мной. Получают регалии, потому что приближены к власти и бизнесу, за счёт чего всякими правдами и неправдами вырывают себе премии, почёт, а я по-прежнему остаюсь на обочине.
Вот и Машинка переметнулась, − почти равнодушно отметил он. – Женщины чутко, как барометр, определяют успешность или бездарность того или иного соискателя своих прелестей. И Муза мне перестала быть помощницей… (у него засосало под ложечкой). Кстати, где она, − спохватился Пётр, − почему до сих пор не пришла? Могла бы просто позвонить…»
Он вспомнил про «мобильник», достал его из кармана куртки, попытался включить – безуспешно. «Чёрт, села батарейка!» − чертыхнулся он.
Найдя зарядное устройство, подключил, снова зашуршал бумагами. Передумал. Отодвинул. Машинально включил компьютер. На интерфейсе монитора, вместо привычной заставки глядели на него огромные глаза Музы из отражателя лампы. Его бросило в дрожь, он внезапно вспотел. Пот большими каплями стал стекать по вискам, выступил на изрядно поседевшей последнее время голове, висках и шее…
Его словно толкнуло в сердце нехорошее предчувствие. Он случайно кликнул «мышкой» на последний файл, где было неоконченное стихотворение - посвящение любимой.
Стихов не было, а на странице − фраза: «Не ищи меня. Всё кончено, я тебе больше не нужна, а ты – мне, такой…
Прости, я пыталась… но ты не слышишь меня. Прощай…»
Пётр тупо перечитывал строчки, но до него не доходил смысл написанного, он погрузился в оцепенение.
Взгляд упал на то место, где стояла настольная лампа. Вместо никелированной, в углу угрюмо темнела старая эбонитовая, вся в каких-то чёрных трещинах-разводах, словно в морщинах. Отражатель опущен и упёрт в колонку штатива…
Он закрыл глаза. Открыл. С огромным волнением сделал шаг к лампе, остановился. Сердце заколотилось, он ощутил в нём перебои, как бывало с похмелья. Протянув руку, дотронулся. Но ничего не произошло. Лихорадочно погладил по верху отражателя, потом по штативу, поднял отражатель, жадно глянув внутрь, надеясь на новое чудо. Включил, выключил. Медленно опустился на колени, обхватил обеими руками основание лампы, склонил в мольбе голову и снова закрыл глаза, ощущая лбом и ладонями прохладный корпус лампы.
Стояла жуткая тишина и в этот момент грохнули настенные часы, отбивая полдень, он вздрогнул, с надеждой приоткрыл глаза...
Всё было по-прежнему. Тяжело поднявшись, он открыл шкаф, словно решив убедиться, шестым чувством предполагая, что новая лампа там − аккуратно поставлена на полку. Слёзы вдруг покатились из глаз.
«Муза покинула меня окончательно, − вслух корил он себя, − я думал, что схватил птицу счастья за хвост, и она никуда не денется. Можно ли быть таким самоуверенным идиотом? Доигрался…» Обхватив голову руками, он со всего маха рухнул на диван.
Глава 7.
В современной истории, не как в старой сказке, где добро побеждает зло, теперь всё заканчивается гораздо печальней: герой спивается или, что ещё хуже, кончает жизнь самоубийством...
Не хотелось бы пророчить, что так именно всё кончится. Герой, скорее, пока жив, чем мёртв, но жив по инерции. Он слишком любил себя, и решиться на что-либо против своей жизни ему и в голову не приходило. Наоборот, он действительно бросил пить, потому как, померив давление, увидел, что оно угрожающе повысилось. С этого дня стал регулярно принимать от гипертонии таблетки.
Он по-прежнему руководил вверенным ему творческим объединением «Кизиловая ветвь». Подходил срок выхода очередного альманаха. На заседания-поседелки, как ни странно, приходило всё больше людей. Тревожило, если так пойдёт и дальше, то придётся подыскивать другое помещение.
Слава не приходит в один день, как и не уходит внезапно. Поклонницы, не такие яркие, как Машинка, по-прежнему одолевали его, льстили, тащили на халяву в кафе и рестораны, где он им в сто седьмой раз рассказывал что-нибудь из похождений своей молодости, читал стихи на злобу дня или пел застольную собственного сочинения.
Подумав, он примирился, сказав: «Жить можно. Чуть поменьше славы, чем у его любимых поэтов золотого и серебряного века, не такое изысканное светское окружение и антураж, но и нет нужды считать себя последним человеком…
Виктор всё реже стал звонить ему, как и он Виктору. Появилось отчуждение, всё реже они общались, хотя обид к Петру он не испытывал, но была какая-то неловкость перед другом в том, что и он не уберёг Музу. «По большому счёту, наверно, это закономерно, − думал Виктор, − человек имеет право жить так, как ему нравится. Пусть живёт».
Всё становится на свои места, потому, как говаривала Муза: «Время обязательно раздаст всем сёстрам по серьгам…»
| Николай Георгиевич Глушенков # 1 марта 2013 в 14:30 +1 | ||
|
| Сергей Шевцов # 2 марта 2013 в 09:52 +2 |
| Андрей Мараков # 19 марта 2013 в 13:52 0 | ||
|
| Galina Kalinina # 11 мая 2013 в 13:37 0 | ||
|
| Елена Нацаренус # 14 июня 2013 в 19:11 0 | ||
|
| Необходимо восстановить 4354 # 5 сентября 2013 в 22:17 0 |